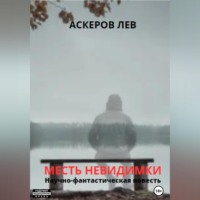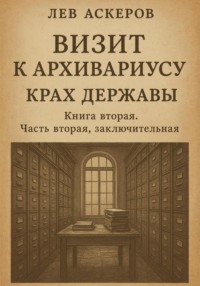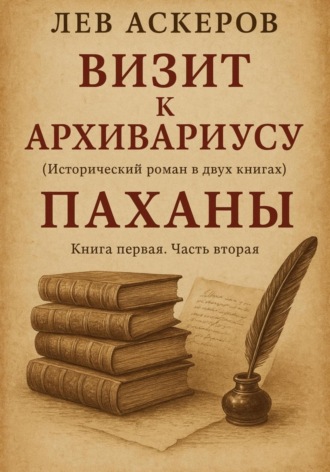
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (II)

Лев Аскеров
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (II)
Книга первая. Часть вторая
Баку
ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ , СОЗДАННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, ВЕЛИЧАЙШЕГО ЧУДА – КНИГЕ.
АВТОР
Что было, то и теперь есть,
И что будет, то уже было;
И Бог воззовёт прошедшее.
И сказал я в сердце своём:
«праведного и нечестивого будет судить Бог;
Потому что время для всякой вещи
И суд над всяким делам там»…
(Из книги Екклесиаста или Проповедника)
Не вместить ХХ век и в тысячах тысячестраничных книг. Не охватить его и нашим, полным амбиций, умозрением. Не хватит для него и памяти компьютера, который мы никогда не научим слышать и воспроизводить голоса душ наших, потому что сами не можем делать этого…
Автор же предлагаемого романа смеет надеяться, что три его героя – Балаш Агаларов, по прозвищу Рыбий бог, проживший от звонка до звонка всё столетие, Ефим Коган, одолевший его первую половину, и эмигрант Семён Мишиев, переживший оставшуюся половину века – донесут до вас суть минувшего. Ведь по тем страничкам их судеб, помещённых ныне Архивариусом в свою неохватную умозрением сокровищницу, ему удалось пробежать не только их глазами, а глазами ещё и тех, кто, так или иначе, был связан с их жизнями. Тех, кого никогда и никто не вспомнит, и тех, кто оставил глубокие следы в памяти людей. Они-то, последние, и тогда были на слуху и сейчас поминаются историками и исследователями.
Это Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Лев Троцкий и их сотоварищи, Григорий Распутин, Симон Петлюра и Нестор Махно, Генрих Ягода, Лаврентий Берия и Андрей Вышинский, Никита Хрущёв и Мир Джафар Багиров, Вели Ахундов и Гейдар Алиев…
Это Трумэн, Рейган и Буш-старший, Уильям Кейси и Ким Филби…
Это Александр Блок, Фредерико Гарсия Лорка и Эрнест Хемингуэй, Максим Горький и Сергей Есенин, Микаил Мушфиг и Самед Вургун…
Их нет. Они ушли. А в небытие ли?..
На этот вопрос, перевернув последнюю страницу этого романа, вы ответите сами.
ЛЕВ АСКЕРОВ
П А Х А Н Ы
(Книга первая. Часть вторая)
Собрание сочиненй в девяти томах
Том 6.
Глава десятая
С А П С А Н
Школа Щеголя. Надзиратель Троцкий. Поединок.
1.
С месяц Ефим исправно ходил в школу. Учитель словесности Андриян Сидорович, фамилию которого он сейчас никак не мог вспомнить, прямо-таки влюбился в него. Везде и всюду, в глаза и за глаза, если речь заходила о нем, всегда говорил: «Коган – гениальный паренек». Даже в полицейской управе сказал. Это когда Фиму задержали по совершенному им дерзейшему ограблению. О том самом о чём долго судачила вся Одесса. Тогда Андриян Сидорович добился приема у начальника управы и заявил: «Парня строго наказывать нельзя. У гениев, а Коган именно таков, бывают непонятные нам, обычным людям, вывихи…»
Словесник искренне верил тому, что говорил. Ефим поразил его на диспуте, в котором школьный богослов отец Иеремей, рассуждал о грехах творимых людьми, клеймил их и утверждал: «Все зло миру приносят они и происходит это от их неразумения, рукоположенного дьяволом». Андриян с Иеремеем по этому поводу схлестнулись. Петухами набрасывались друг на друга. И тут, воспользовавшись тем, что богослов от пёрха в горле, вызванного яростью, закашлялся, Ефим спокойно, в наступившую тишину, бросил:
– В словах Андрияна Сидоровича правды больше.
– Какой правды?! – побагровел отец Иеремей.
– Правильной… Мудрой…– веско произнес он.
– Что ты можешь знать о мудрости?! – вскипел священник.
– Я…немного. А вот всемирно известный мыслитель Востока, поэт Омар Хайям намного больше многих и многих. Обо всем, о чем вы сейчас спорите, он сказал всего в четырех строчках…
Мы с тобою – добыча, а мир – западня.
Вечный ловчий нас травит, к могиле гоня.
Сам во всем виноват, что случается в мире,
А в грехах обвиняют тебя и меня.
Вскинув глаза к потолку, Ефим повторил: «Сам во всем виноват, что случается в мире». И усаживаясь на место, негромко, но довольно четко, делая акцент на каждом слове, произнес:
– Мир в такой же зависимости от наших поступков, как и наши поступки зависят от него…
Класс замер вроде струны, которую настройщик натянул до критического предела, И она не выдержала. Брызжа слюнями отца Иеремея, струна взорвалась истерическим воплем.
– Нехристь! Только нехристь мог написать такое!.. И только иуды-фарисеи вроде Когана говорили подобное господу нашему Иисусу…
Но его уже никто не слушал. Он был посрамлен. Уничтожен.
В тот достопамятный день учитель словесности говорил с Фимой, как с ровней и даже проводил его до самого дома, хотя ему это было совсем не по дороге. Им обоим было интересно друг с другом. И не стояла между ними холодная и непробиваемая чужачка – разница в возрасте. То есть, то самое время, разделяющее людей между собой роковым непониманием… Когану, как-никак, шел шестнадцатый год, а Андрияну тридцатый…
Учитель провожал его не без цели. Больно уж ему хотелось на денек-другой заполучить сборничек Хайяма.
Муся порхала из комнаты в кухню и назад. Такой окрыленной Фима не видел ее с тех пор, как пропал отец. Еще бы! Ее сын, вместе со свои школьным педагогом, как два приятеля сидят в их тесной гостиной за чашечками приготовленного ею кофе и ведут умный разговор о бытие, о Боге, о человечестве. Ей не важно было зарываться в их беседу. Важно, что мальчик ее совсем не из пропащих, как чешут языками на лимане. Ишь, как бойко и по-дружески говорит он с учителем. Тот его поправляет, над чем-то добродушно посмеивается, иногда соглашается, а иногда, чему-то поразившись, спрашивает: «Откуда ты это знаешь?»
– Так он у меня, знаете, сколько книжек начитал?! – не удержавшись, вмешивается она. – Не какие-то там, а взрослые книжки.
– Это видно невооруженным глазом,– стягивая, впившиеся в переносицу, щёчки пенсне, кивает Андриян Сидорович. – Но вот, что я вам скажу Мария Борисовна. Читают многие, а вот критически подходить к тому, что вычитали, проанализировать и составить свое, не внушаемое со стороны мнение, не каждый может. Так появляется широта мышления. Так, скажу вам, рождается мировоззрение. Признаться, сегодня, ваш Ефим, меня, прямо-таки, наповал сразил…
Он стал рассказывать о состоявшемся диспуте. И вспыхнула потемневшая было бирюза материнских глаз. Как она радовалась и, как он был рад за нее… Но он же, именно он, стал виновником того, что они опять потускнели. Почти навсегда.
Засиделись они тогда допоздна. Возвращаться на другой конец Одессы, причем ночной, страшной, как лезвие ножа, было опасно. Он-то, Фима, хорошо это знал, а учитель словесности, витавший в розовых эмоциях философии, не отдавал себе в этом отчета.
– Ма, я провожу Андриана Сидоровича.
– Ни в коем случае! – заартачился педагог.
– Не вздумайте отказываться. Здесь у нас не просто. А Фимочку тут знает каждая собака… Спокойней будет и нам и вам,– сказала мама.
Через несколько домов из кромешной тьмы дорогу им заступило несколько корявых силуэтов.
– Куда шкандыбите, мать вашу?! – прохрипел один из них.
Приостановившись и, на всякий случай, заслонив в камень напрягшегося от испуга Андрияна, Фима спросил:
– Борзой, это ты?
– Неужто, Сапсанчик? – не без удивления и радушности, откликнулся тот же голос с хрипотцой.
– Не, не я… Богдыхан китайский,– зло пыхнул Фима.
– А мы за тобой как раз,– обрадовано сообщил один из силуэтов.
– Что так?
– Пахан зовет,– хрипнул Борзой.
– Провожу гостя… Моего школьного учителя… И сам приду…
– Далеко ему?
Заикаясь, Андриян назвал адрес.
– Ух, ты! Далековато! – матюгнулся хриплый силуэт, а потом приказным тоном, произнес:
– Оставь его. Сам допехает. Щеголь ждать не любит.
– Борзой, не выгибай из себя бугра! – шагнув на голос, жестко осадил Ефим.– На разборке пахан возьмет мою сторону. Нельзя оставлять добрых к нам людей на чужих дорогах.
– А что делать? – спасовал Борзой.
– Лошадник с вами? – спросил Ефим.
– Здесь я, Сапсанчик,– подал голос один из двух, незаметно пристроившихся у них за спиной.
– Где твоя пара гнедых, Юрок?– спросил он.
– Неподалеку. Попёхали! – пригласил Лошадник.
– Ну вот, Андриян Сидорович, вас сейчас доставят в самом лучшем на лимане экипаже,– взяв под руку дрожащего всем телом словесника, пообещал Ефим.
– А вы, господин Коган? – простучали его зубы.
– У нас с ребятами вечеринка. Правда, Борзой?
– Да, вечеринка,– глухо и со значением, хорошо понятным компании, добавил:
– Очень, может быть, красненьким побалуемся.
– Много на себя берешь, Борзой. О том, что это разборка посторонним знать не обязательно… Пахан не любит пустобрехов…
– А я чего?.. Я ничего…– промямлил Хриплый.
Сапсанчик ходил в любимчиках Щеголя, а потому, услышав неосторожно вырвавшееся о «красненьком» при чужаке, он может его наказать. И так в последнее время он как-то не по-хорошему поглядывал на него.
– Юрок, доведешь учителя до самой двери,– подсаживая Андрияна в коляску, попросил Ефим.
Клячи тронулись с места.
– До завтра, Андриян Сидорович! – крикнул он вслед им и, пройдя мимо Борзова с ребятами, походя бросил:
– Что стоите? Пошли в кабак за «красненьким». Так ведь, Борзой?
Завидев Ефима, Щеголь, чуть прижав его к себе, кивком головы указал на пустующее против него место.
– Не хватит ли отсиживаться, Сапсанчик? – подвинув в его сторону тарелку с какой-то снедью, спросил он.
– Как скажешь Щеголь.
Его ответ пахану явно понравился.
– Ты правильный парень,– похвалил он.
– Поэтому красненького хочешь сцедить с меня? – не без ехидства ввернул Ефим.
– Откуда такой фальшивый ветер? – задвигал желваками Артамончик.
– Борзой намекал.
– Сейчас с него самого ребятки сливают красненькое. Это он сучил про всех околоточному. Захар от него узнал, кто обул Глашку Похиль.
– А я ломал голову…
– То моя забота, а не твоя. От тебя уже месяц ни одной копейки в кассу не пришло.
– Наверстаю.
– Посмотрим.
– Просьба есть.
– Валяй,– насторожился Щеголь.
– Перекинь меня из порта в околоток Ваньки Плющенко.
Пахан округлил глаза.
– Удивил! Ей-ей, удивил! Там же ловить нечего. Никакого навара.
– Будет! Да такой, что захлебнешься.
– Пацан ты и есть пацан! Не люблю пустобрехства…
– А ты послушай, Леонид Петрович. Послушай и вникни…
– Поучи, поучи меня. Ты еще Сапсаненок, – царапая иронией паренька, пытался отмахнуться Артамончик.
Однако, ничто и никто остановить Ефима не мог.
– Не зря же я отдыхал… Есть задумка. Верное дело…
И неторопливо, вынимая из рукавов один за другим, загодя заготовленные козыри, рассказал какой барыш сулит этот, считавшийся пустым околоток.
У Артамончика отвисла челюсть. Такое ему и в голову не приходило. Никому не приходило. Ведь все было перед глазами. А сопляк разглядел.
– Сказывается – гладко…
– И также сладится,– перехватив мысль пахана, перебивает он.
– Тут надо подумать. Хорошо продумать.
– Я уже подумал,– наклоняясь через стол к Щеголю горячо прошептал он, – Уже кое-что наживил…
Стукнув тростью об пол пахан заставил умолкнуть его..
– Подумать – одно, а продумать – другое. Давай завтра, на свежую голову покумекаем над моим и твоим «кое-что», – отрезал Артамончик и давая понять, что разговор окончен, поманил к себе человека.
– Тогда я пойду? – робко спросил он.
– Валяй! – цвикнул губами Щеголь.
Фима было поднялся, но тут же снова сел.
– Тебе еще что-то, Сапсанчик? – оторвавшись от хлебаемых им с нарочитой увлеченностью щей, вскидывается пахан.
– Неуж-то, так вкусно? – озорно глядя на него, интересуется Ефим.
– Хочешь, принесут и тебе.
– Нет.
– А что хочешь?
– Верни Хайяма!..
Отпираться от того, что обнимая Фиму, он снял из-под его ремня книжицу, Артамончик не стал.
– Когда заметил?
– Сейчас. Когда встал…
– Поздновато. Поздновато…– увещевающе, попенял пахан.
– Лучше поздно, чем никогда.
– Поздно и есть никогда, дорогой Сапсанчик.
– Не мни уши, мастер. Верни, пожалуйста.
– Задарма не отдам! Выкупи! – смеется Щеголь.
Все поняв, Ефим тоже рассмеялся и задал ему тот же вопрос:
– Когда заметил?
– Признаюсь… Не сразу… Молодец!
Похвала Щеголя, самого Щеголя, короля всех щипачей мира, каковым его считали в Одессе, стоила дороже ордена Андрея Первозванного. И он выложил на стол туго набитый ассигнациями лопатник1 Артамончика.
– Хромой! – позвал Щеголь все время вертевшегося возле них парня.– Книжонку, что я передал тебе, отдай Сапсанчику.
Тут же вытащив ее из-под рубахи, Хромой протянул ее Ефиму и хотел было отойти, но Леонид Петрович остановил его.
– Подойди, Гошенька,– ласково позвал он.
Хромой послушно вплотную приблизился к Артамончику и наклонил голову.
– Гоша, ты со всеми нашими корешами будешь работать с Сапсанчиком в околотке Ваньки Плющенко. Понял?! – вполголоса, но так, чтобы слышал Фима, сказал Щеголь.
Гоша от столь неожиданной новости даже бровью не повел. Кивнул и все.
– Сегодня знать ребяткам об этом не обязательно. Сапсанчик предлагает интересное дельце. Сейчас, мы с тобой наедине перетрем, продумаем, а завтра вместе прорисуем, как его ставить… Ты же,– Щеголь зыркнул из-под бровей на Фиму,– выложишь нам на стол свое «кое-что»… Теперь ступай.
Это же надо! Не дожидаясь завтрашней встречи, пахан уже сейчас, сию минуту, придал ему в подчинение всех корешей и обозначил в своей шайке его высокий статус. Из-за него, 15-летнего пацана, потеснил не кого-нибудь, а самого Гошу Хромого, имевшего за спиной одну тюремную ходку и, ходившего у Артамончика в заместителях.
И тогда, на ночной дороге, возвращаясь домой со сходнячка, Фима в первый раз, так, словно вдруг очнувшись ото сна, явственно ощутил, что не он сам по себе и по своей воле идет по дороге, а что его кто-то ведет. Он только передвигает ногами. Не он хозяин пути своего, а некий поводырь. Некий всадник, что не на нем, а в нем. В нем он думает за него, и в нем он смотрит из него и выбирает дорогу ему. И шпорами бьет не по бокам, и не дерёт удилами щеки. Его шпоры и удила погоняют душу его…
Смысл той загадочной странности, обнаруженной им в себе, то, как будто прояснялся, то снова безнадежно увязал в непостижимой бессмыслице. Ни себя, ни поводыря в себе понять было невозможно. Хотя пытался. Видит Бог, пытался. И в сырых подвалах Одесских тюрем… И когда пропадал в остроге Поганом… И когда благоденствовал в действующей при ЧК Одесской таможне, куда его, как верного делу революции товарища, ярко проявившего себя в подполье, назначили начальником…
И сейчас, выживая здесь, на Соловецкой каторге, созданной его же товарищами по партии и ими же туда брошенного…
Постарались ребятки. По революционному постарались. Ни одна тварь бы не посмела ерепениться, если бы у царя были такие тюрьмы и легавые.
«Будь они прокляты на века вместе с теми, кто их породил»,– со злости отодрав зубами шерсть тулупа, сплюнул Умыч.
…Что же это за сила, двигавшая им по жизни, как пешку по доске? От белого поля к черному и наоборот. Да разве только им? Нет таких, кто бы не чувствовал ее в себе. И вряд ли найдется такой кто смог противостоять ей. Поступать так, как хочется ему, а не ей. Он, Ефим Коган, не смог, хотя этого поводыря в себе он почувствовал довольно рано. На сходнячке в «Тихом гроте», куда в окружении корешей, он шел с твердым намерением сказать Щеголю: «Баста, Леня! Я выхожу из ватаги!…» – а вместо этого дал слово с лихвой покрыть, набежавший за ним должок в кассу общага.
Что его дернуло?! Язык молол вопреки ему, но его голосом, который он слышал как бы со стороны. Слышал, понимал и, как не странно, не очень-то противился ему. Совсем не из-за боязни, что с ним расправятся, как с Борзым. Уходить из шайки считалось не менее вопиющим предательством. Нет, не по этой причине. Больно уж обожгли его мамины слезы в околотке и еще то, что он любил учиться. Нет, не школу с ее занудными уроками. А учиться тому, что любил. Тому, что его захватывало. Тому, что вело к сладчайшему из вещей – людской славе. Чтобы ему вслед с восхищением и завистью шептали: «Он тот самый Коган Ефим Наумович…»
Вспыхнуло в нем это после того, как тетя Фаина прочла им с Яшей о Гвидоне, а потом очкарик Лейба еще больше распалил этот робко загоревшийся в нем примусок. Своей дотошной страстью все услышанное или прочитанное им толковать по-своему, и, удивительным образом, вывернув наизнанку, перевернуть. То ли с головы на ноги, то ли с ног на голову.
После трагической гибели отца, Фима, почти год с лишним, жил у Бронштейнов. В одной комнате с неистовым Лейбой, который, с утра и перед сном, внушал: «Ты должен знать, понимать и уметь все так, что помогло бы тебе облокотиться на мир, как на стол!..»
У всех в груди свой примусок, а в примусочке том керосинчик. Но не всем, отнюдь, не всем выпадают на долю те спичечки, что запаляют его…
Фимин же примусок пылал прямо-таки – черт возьми! Может быть, поэтому, зачарованный, рассказываемой Одессой невероятными историями о похождениях знаменитейшего на всю Россию их горожанина, вора-карманника Леньке Щеголе, который запросто ходил по их улицам, Фиме захотелось обучиться его волшебному искусству и стать лучше него. Он сам отыскал Щеголя и напросился к нему в ученики.
Этот худощавый, стройный дядька, похожий на Дерибасовского форсуна в клетчатом, английского покроя пиджаке, с крапчатыми крыльями бабочки у кадыка, брючках в полоску и лакированных штиблетах, совсем не походил на великого вора Леньку Щеголя. Поигрывая необыкновенной красоты тростью, он шел так, словно рядом никого не было. Себе в удовольствие. И хотя ростом он был невысок, казалось, что он смотрит на всех поверх голов… Подавив робость Фима, наконец, решился окликнуть его.
– Дядя Леня!..
Смеющиеся карие глаза Щеголя обволокли его ласковым теплом.
– Слушаю, мальчуган.
– Один момент на разговор, разрешите? – стараясь выразиться по-взрослому и уважительно, попросил он.
На губах готовых прыснуть смехом, под носом у Леньки, как в кавказском танце, заджигитовали усики.
– Можно и побольше одного момента, молодой человек,– согласился великий Щеголь. – Ты уже третий день пятки мне давишь.
Смотри-ка, удивился Фима, заметил, а виду не подавал.
– Брось глазеть на меня, как на чудо,– сказал он и пригласил присесть на, стоявшую под платаном, пустую скамейку.
– Ну?! Я весь на слуху,– пробегая длинными пальцами по трости, положенной им на колени, произнес Щеголь.
– Я хочу быть вашим учеником! – выпалил он.
– О! Ты, пацан, стало быть, обознался.
– Нет!– вскрикнул Фима.– Вы великий мастер. Вы – Щеголь…
– Я Леонид Петрович Артамончик… Ни в математических, ни в ботанических и ни в каких других науках покорный ваш слуга не преуспел… А чему ты хочешь учиться? Могу порекомендовать. У меня среди школьных педагогов есть хорошие знакомства…
– Я хочу научиться тому, что вы, Леонид Петрович, делаете лучше всех в мире.
– Интересно… Что же я такого делаю? – жестко сощурившись, он с любопытством посмотрел на него.
Сказать: «Научите меня мастерски лазить по карманам» – могло его покоробить и не понравиться, подумал Фима, а с губ его само собой сорвалось то, что надо.
– Искусству фокусов… С людьми.
Судя по реакции Щеголя, он попал в точку. Ответ явно пришелся ему по душе.
– Как зовут тебя, пацан?.. Чей ты?..
– Ефим Коган. Живу на Дальнем лимане. С матерью… Отца нет. Утонул…
– Жаль,– посочувствовал он, а затем, внимательно вглядываясь в Фиму, спросил:
– Папашу как звали?
– Наум…
– Стоп!.. Не сын ли ты Умы Флотоводца?
– Вы его знали?
– Встречались,– уклончиво ответил Артамончик и, мягко положив ладонь ему на макушку, спросил:
– Сколько годков тебе?
– Двенадцать.
– Тебе надо ходить в настоящую школу…
– Я и хожу. Хорошо учусь
– Не перебивай,– клюнул тростью Щеголь.– Выучись на моряка. Иди по стопам отца. Моряцкое дело – чистое дело.
– Не хочу я зависеть от моря!
– Интересно! – дернулся Артамончик.– Котелок твой варит… Оригинально варит… Однако, неправильно… У всех свое море… Наше, где кручусь я и норовишь ты, – черное. Нет, не то, что взяло твоего папашу. Воды того, где упокоился он, даже самые грязные на вид, в сравнении с теми, в каких мы ловим свою рыбку, чище слезы младенца… В наших водах нет ни совести, ни жалости! Так что, мальчуган, иди своей дорогой.
– Я хочу эту дорогу! – вскочил со скамейки Ефим. – Я хочу стать таким же большим мастером, как вы!
Щеголь вздохнул и, постукивая тростью по штиблетам, медленно, как сквозь дрему, произнес:
– Ты еще мал… Поэтому, что бы и как бы я сейчас тебе не вдалбливал, просвистит оно мимо ушей твоих… Учит людей не слово, которое предрекает, а беда, которую оно предрекало…
– Постараюсь, чтобы все беды просвистели мимо меня,– вскинул голову Фима.
– Я тоже старался,– скривил губы Артамончик. – Да, вот… Впрочем,– махнул он рукой и встал с места.
– Лучше сыну Умы Флотоводца завязаться на меня, чем на кого другого,– озвучил он свои мысли и добавил:
– Что ж, пацан, приходи завтра к кабаку «Тихий грот»,– и неприветливо, сквозь зубы, уточнил:
– Ровно в полдень.
И стал Ленька Щеголь его крестным отцом в воровском семействе Одессы. Он же нарек его Сапсанчиком.
Тем не менее, при всем уважении к нему, Ефим все-таки намерен был ему объявить о выходе из ватаги. Вместо этого же тот наездник, что сидит внутри каждого из людей и правит ими, решил по-своему. Давно решил Он даже знает точно когда. На одной из школьных переменок.
Да, так оно и было.
Бегать со всеми ему не хотелось. Он подошел к окну и незаметно для себя засмотрелся на суету у гостиницы, что находилась через улицу. К ее фасаду один за другим подъезжали экипажи с прибывшими из загранки пассажирами. Ему известен был и пароход, что доставил их в Одессу. Не зря же ошивался в порту. Шустря там, он, конечно, знал, что они, эти хорошо упакованные путешественники и коммерсанты, коих он с корешами там пощипывал, разъезжаются по гостиницам, а вот, как они в них устраиваются – не знал. Его это не интересовало. Теперь же из окна школьного коридора он увидел и это. Изнуренные морской качкой многие из них спешили в гостиницы, чтобы придти в себя, а потом отправиться дальше. Он, как завороженный смотрел на подъезжавшие к фасаду гостиницы конные упряжи, забитые сундуками, чемоданами и узлами. Те из прибывших, что работали на Привоз, свою поклажу сразу грузили на фургоны, заранее дожидавшие их, у самого причала. Ни к ним, к этим фургонам, ни к тем, кого они встречали, мальчики Щеголя не имели права прикасаться. Запрещалось. Они находились под охраной хозяина Привоза, пахана главарей Одесских воров, дяди Шуры Козыря. Он с любого мог спросить так, что врагу не пожелать…
Вслед за колясками с подкатывающими, сюда, налегке, пассажирами, затем подъезжали повозки с их добром. К ним выходила гостиничная обслуга и затаскивала все во внутрь. Очевидно, в складские помещения. Грузчики работали с ленцой и повозки, дожидаясь очереди, выстраивались одна за другой, чуть ли, не до конца улицы. Скучающие возницы собирались в трактире, где попивали пивко и краем глаза посматривали за доверенной им поклажей… И вот в этот самый момент Фимин наездник прошептал ему его же голосом: «Здесь поживиться – раз плюнуть! Бери не хочу!.. »
Прилежный ученик Ефим Коган стал отмахиваться от него, как черт от ладана. А Наездник все теребил и теребил своим коварным, полным соблазнительности, шепотком. Фиме даже слышалось, как, по уже состоявшемуся фарту, он потирает руки. «Это здесь, не в лучшей гостинице, а каково в дорогих на Дерибасовской и Ришельевской?! Там точняком такая же сутолока… Проверить надо… – сладко зудел Наездник – У них побогаче… Умыкнешь и ходи себе в королях…» Наездника заткнул колокольчик, оповещавший школяров о конце перемены. Но на уроке ему припомнилось: по вечеру, как раз к концу занятий, в порту ошвартуется «Глория».
«Марсель… Генуя… Афины… Стамбул…» – сказочно выпевал он, перечисляя порты, в которых «Глория» забивала товарами свои бездонные трюмы и расселяла по каютам богатую живность с толстенными лопатниками за пазухой.