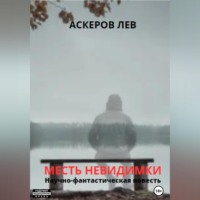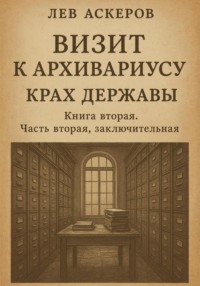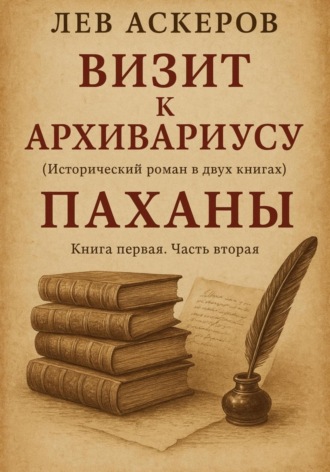
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (II)
– Воды! – отплевываясь командовал он.– Ему нужна вода.
Хорошо этап стоял у ручья… И тут набежала охрана. Один из солдат, выхватив тряпицей из догоравшего костра, уголь и приложил его к разрезанной ране.
Бурлак ревел, как раненый медведь. Вся колонна, оцепенев смотрела на Бурлака и на кровавый подбородок Ефима.. Те, кто не знал что случилось, думали, что Сапсан задрался с Бурлаком… Прибежавший на шум ротмистр сначала молча понаблюдал, а потом, топнув сапожищем, заорал:
– Что раззявились?!.. Этап – в движение!.. Ему ничем не поможешь… Пусть подыхает… Господь покарал душегуба… В движение! Пшел! – сверкал глазами Чубайс.
– Не оставляйте, родимые,– жалобно простонал Даня.
– Не трепыхайся! Лежи!.– приказал ему Ефим и бросив:
– Сейчас улажу! – кинулся к ротмистру.
– Ваше благородие…
– Шо, тебе? Топай в строй…
– Не берите грех на душу. Человек все-таки… Не по православному оставлять без помощи.
– Слушай, паскудник,– вздыбился Чубайс.– Я тебе и так поблажки делаю. Петька-жид червонец дал за тебя,– не моргнув глазом соврал ротмистр. Щас его нет. Что хош могу с тобой сделать,– вплотную подойдя к нему процедил он.
– Вашему благородию, Петр Александрович дал червонец… Так я даю ещё столько же.
Ротмистр разинул рот.
– Откель такие деньжища у тебя?
– Ведь мы идем на Уваровку?
Чубайс кивнул.
– Там они дожидаются меня,– твердо проговорил Ефим.
Конечно же, он хитрил. Если полезть сейчас в свою заначку, ротмистр отберет все до копейки.
Чубайс задумался и, поверив Ефиму, сказал:
– У вас, у жидов, везде жидовня.
Коган изобразил улыбку, мол, начальник, ты все правильно понял.
– Смотри, Сапсан, обманешь… Шкуру спущу!
– Не обману, ваше благородие.
– Потащишь его сам. До Уваровки 23 версты. Ведь сдохнет по дороге.
– Если помрет все равно расплачусь.
– А то! – возвысил голос ротмистр. И вдруг, мерзко осклабившись, попросил:
– А ну скажи «тридцать три»…
Ефим понял, чего хочет эта дрянь и нарочито грубо програссировал.
Чубайс довольно расхохотался. Потом, подозвав к себе одного из солдат, приказал ему конвоировать умирающего Бурлака и Когана.
– Глаз с них не спускать. А как тот отдаст Богу душу, погонишь этого одного,– распорядился ротмистр.
Ткнув шпорой в бок лошади Чубайс поскакал в голову звенящей кандалами колонны.
– Ваше благородие,– крикнул ему в след Коган,– как придете, вышлите нам
навстречу фельдшера…
Дорога шла вдоль ручья, бегущего в сторону Уварово. Холодная, чистая водица.
– Пей, Бурлак! – поднося к его губам, до краёв наполненную кружку, просил он.
Даня брезгливо морщится и мотает головой.
– Пей! Не вороти мордой! – отбрасывая в сторону его, схожую с лопатой, ладонь, требует он.
–Тошнит от неё, Сапсан, – уворачиваясь от кружки, стонет он.
– Вот и хорошо, что тошнит. Она гонит из тебя отраву. Блевотиной гонит… Увидишь, полегчает. Только много-много надо пить…
Великое творенье Божье – это вода. Волшебная. Если бы не она, Спирину вряд ли удалось бы выкарабкаться… Он ею и поил его и приводил в чувство. Когда Бурлак был в сознании, Ефиму легче было двигаться с ним. Худо-бедно он мог передвигаться. А тащить бесчувственную гору человеческой плоти было тяжко. Солдат, подлец, шел сзади и еще понукал. Приходя в сознание Спирин, задыхаясь, просил не бросать его на околение.
– Сапсан, милай, не оставь меня. Во веки веков рабом твоим буду,– дребезжал его бас.
– Не оставлю,– скрипя зубами, обещал он и, кряхтя, шаг за шагом, держа на закорках гиганта, упрямо шел вперед.
Веселая речушка, березки, рябины… Под ногами черничка, над головой зелёные шатры, где-то кукует кукушка… Райские кущи. А ему в этих кущах рая -адова дорога. В 23 версты. Мог бы, мог бы он, конечно, оставить этого беспомощного гиганта и идти налегке. Тем более, внутренний голос, подколодною змеей, гаденько нашоптовывал: «Кто он тебе? Что зубы крошишь?» Внушал, гад, по бесовски, и все настойчивей, и убедительней. А он пёр и пёр и гнал, бесов шепоток, куда подальше. Он знал, что делает. И делал это осмысленно. Не Бурлака он выволакивал из лап смерти, а человека, похожего на отца, гибель которого он видел во сне и никак, и ничем не мог помочь ему…
Теперь не сон. Теперь все наяву. И этот человек, как две капли воды похожий на отца. Та же осанка исполина. Те же локоны в кольцо. Только они уже не черные. Они пожелтели. Так от времени желтеет бумага… И еще, светящиеся во сне золотом папины глаза… Они смотрели на него… Они звали… До сих пор смотрят и зовут…
* * *
«Не брошу… Не брошу»,– скребя зубами ворс тулупа, шепчет он.
И ожесточенно сплевывая прилипшие к языку волосы овчины, он приоткрывает ворот тулупа и, встречный ветер, лютых Соловков саксоном полосует его по лицу.
« Эх, мать твою, жизнь! Ты все равно прекрасна! Хотя дороги твои выложены камнями из преисподни. И они, эти камни, кажутся даже очень милыми. Не в тот момент, когда тяжко, а по прошествии времени, когда смотришь на них со стороны, издалека… Бурлак… Бурлак…» – снова убирая голову в тулуп, вздыхает он.
* * *
По приходу колонны в Уваровку ротмистр, скорее из-за обещанных ему денег, чем из гуманных соображений попросил местного полицмейстера выслать на встречу им лекаря, сказав ему, что там под присмотром конвоира, идут два головореза, одного из которых укусила лесная гадюка.
Лекарь, вместе с одним из солдат, приданных ему ротмистром, вышел на них под самый вечер. Он оказался из ссыльных и не каким-то там фельдшеришкой, а самым, что ни на есть, настоящим доктором. То ли он был из народников, покушавшихся на царя, то ли еще из какой-то неугодной Государю политической бражки. Сослали его сюда еще года два назад. Ушлый мужичишка уваровский полицмейстер поселил его на своем подворье, чтобы тот пользовал его домачадцев. И еще он подложил под него местную кралю, которая вскоре от него понесла. Теперь у доктора здесь семья, хозяйство…
– Не бедствую, но и не жирую,– осматривая Спирина делился он с Коганом.
Сунув Бурлаку под мышку градусник, он сел на камень и поинтересовался откуда их гонят.
– Меня из Одессы,– сказал Ефим.
– Вы одессит?
– Само собой…
– Что вы говорите?! Жена моя из Одессы… Может знаете?
– Наверное… Из чьих она будет?
– Соболевские… Из семьи врачей… Может слышали?
– А как же! Большие специалисты по родам.
– Да, гинекологи, акушеры… Жаль Еве не придется встретиться с земляком…
«Ну вот,– подумал Коган,– теперь как-то можно будет объяснить Чубайсу, как у него оказались деньги. Он поверит… Не зря же он говорил: «У вас, у жидов, везде жидовня».
– Больной тоже одессит? – полюбопытствовал врач.
– Нет. Скорее всего ростовчанин… Их гнали оттуда.
– Кукишь, ростовчанин! – крикнул стоявший поодаль стражник.
Коган и доктор, как по команде, обернулись к нему.
– Он – убивец. Из таежных бродяг. По тундрам разбойничает…Его нанял один самарский пахан, мол, сходи в Ростов да посчитайся с купцом-греком, что надул наших корешей… Пошел и посчитался. Зарезал и греку и его лавочника. Сразу обоих… Глянь доктор какие у него молотилы.
– Того самого пахана случайно кличка не Батый?
– Он самый. Откель знаешь,– вскинулся конвоир.
– Откель… Откель…– передразнил его доктор.– Я сам из Самары. Все серьезные люди до самой Астрахани знают такого… Лечил я его… Сам росточком небольшой, а голосом и хваткой – дикий лев.
– Лечил? – насторожился солдат.
– Что тут удивительного? Я доктор. Столбовой дворянин. Лечил и градоначальника Самары и генерал-губернатора… Да и здесь пользую самого губернатора, его семью, всю власть и всех людишек… И вот этого, как ты говоришь, убивца, – вынимая из под мышки Спирина термометр, говорит доктор.
– Температура то высокая,– цвикает он губами.– Так оно и должно быть… Укус то, когда случился? – спросил он Ефима.
– Сегодня перед рассветом.
– А вы молодец… Все правильно сделали… Кстати, как зовут вас?
– Ефим.
– Фамилия и имя батюшки имеются? – зыркнул он из-под густых бровей.
Коган назвался.
– Беленький Николай Иванович,– трясет он его за кандалы и добавляет:
– Вы, Ефим Наумович, спасли человека… Жить будет. Организм у него могучий. Переборет. Правда, рану глубокую сделали. Но это пустяк… Ему как можно меньше нужно двигаться и дня три нужен покой.
– Сколько осталось до села, Николай Иванович? – поинтересовался Коган.
– Три версты с небольшим.
Коган в изнеможении опускается на ствол поваленного дерева.
– У меня уже нет сил тащить его на себе,– признался Ефим.
– Как?! – вскочил на ноги Беленький.– Вы в кандалах всю дорогу тащили его один?!
– Да, господин доктор,– уронив голову на грудь говорит он.
– А он? – встопорщившись ежом, доктор накидывается на конвоира. – Ты знаешь, что будет с твоим ротмистром и тобой, если я доложу об этом губернатору? Сами в кандалах пойдете по тракту. Министерство внутренних дел недавно прислало циркуляр, где нас всех, медицинских работников, обязывают, чтобы заключенные на трактах не мерли от болезней и несчастных случаев. Чтобы все доходили до места назначения. А о тех, кто будет препятствовать этому докладывать губернаторам и лично министру.
«Ай, да, Беленький! Ай, да враль», – усмехался про себя Ефим и с удовольствием смотрел на явно перетрухнувших солдат.
– Куда, кстати, гонят вас? – спрашивает у Ефима Беленький.
Ефим пожимает плечами.
– В острог Поганый,– говорит, пришедший вместе с доктором, конвоир.
– О! – восклицает Николай Иванович.– Поганый особенно отмечается в циркуляре министра. Там на разработках людей не хватает. А ты, солдат, хотел загубить двух таких сильных мужиков.
– Что приказано было, то и делал,– огрызнулся конвоир.
– Значит, господин ротмистр приказал, чтобы они по дороге умерли? – ехидно заглядывая ему в лицо, вставил Беленький.
– Нет, от него я такого приказа не получал,– пролепетал тот.
– Так слушайте мой приказ! Сделать носилки и осторожно нести больного в село! Действуйте!
И солдаты беспрекословно подчинились. Коган с Беленьким шли вслед за ними.
– Вы, Николай Иванович, действительно столбовой дворянин?
– Да что вы! Я из разночинцев. Для вчерашних крепостных,– он глазами стрельнул в спины солдат-конвоиров, несущих Бурлака,– столбовой дворянин бьет без промаха… Образование получил, а из бедности не выполз. Да еще имел неосторожность связаться с бакунинцами.
– С циркуляром министра тоже придумали?
Доктор с трудом подавил, рвущийся с губ, смешок.
Циркуляры, господин Коган, приходят едва ли не каждый день. Один другого дурней. Их никто не читает. Очень уж заумствуют столичные мундиры… Так в одном из них предписывалось, чтобы колонна каторожников, проходя через губернские города, должна демонстрировать парадный шаг.
– Представляю, как бы я и, укушенный гадюкой, Спирин прошли бы таким шагом. Например, по Самаре,– прыснул Коган.
Доверительный разговор с Беленьким, который проникся к нему симпатией, натолкнул его на довольно шальную мысль. Вернее план. По-быстрому прокрутив его в голове, он, после недолгой паузы, приступил к его осуществлению
– Вы сказали ему нужен покой? – начал он.
– Больному? – уточнил врач.– Три дня, как пить дать.
– Не выйдет. Завтра же снова погонят…
– Да, у этапа свой график движения, – соглашается Николай Иванович
– Бывает же, что колонна на денек-другой задерживается.
– Бывало,– говорит доктор.– Только не в нашем Уварово. Не тот населенный пункт. Команде может и хотелось бы подзадержаться, а вас то, кандальных, куда девать? Как таковых специальных мест не имеется.
– Ну что это за трудности, Николай Иванович? Еще тепло. Можно где-нибудь в поле.
– Ради одного каторожника, какой бы он больной не был, ротмистр на такое не пойдет… Придется ему вставать в строй.
– Не выдержит.
– Что поделаешь,– разводит руками Беленький.
– Так сделайте что-нибудь. Вы же врач. Помогите,– гнул свое Ефим.
– Вот, Николай Иванович, возьмите. Здесь сотня.
– Сто рублей?! – замерев на месте, выдохнул он.
С опаской глядя на солдат, Ефим кивнул.
– Ну что вы, Коган? Как можно? Ведь вам…
– Там они мне вряд ли сгодятся,– опередил он Беленького. – А вам, чтобы наступить на горло бедности своей, очень к месту.
– Не в бровь, а в глаз. Здесь – это деньжищи… – говорит Беленький и, забирая купюру, обещает что-нибудь придумать…
Слово свое он сдержал. Да еще как..
Полроты вместе с ротмистром уже с ночи стали хвататься за животы и срамными нежданчиками пачкали исподнее белье. Чубайс, которого уваровский полицмейстер поместил у себя в доме, вонючею жижей извозюкал всю хозяйскую постель.
– Рези… Страшные рези в животе… И понос, – жаловался доктору, согнувшийся в дугу ротмистр.
– Воду из речки пили? – спросил доктор.
– Пока шли досюда – пили. Духота ведь.
–То то, я смотрю, весь ваш личный состав мается той же немочью… Глаз не дали сомкнуть,– проворчал доктор.
– Николай Иванович, что это за напасть такая,– зажимая от вони ноздри, спрашивает полицмейстер.
– Признаки брюшного тифа… А может, дизентерия.
– Неужто брюшняк! – вскрикнул хозяин дома.
– Надо проверить… Анализы провести… Они проводятся в губернской клинике. Дня три придется ждать результатов… Поэтому, этапу придется на пару деньков задержаться,– говорит Беленький и, обращаясь к Чубайсу, категорически заявляет:
– Как врач я, согласно циркуляру министерства полиции и здравоохранения, не имею права в таком состоянии дать разрешение на дальнейшее продвижение колонны… Дабы брюшной тиф и дизентерия, дай Бог, чтобы это были не они, могут вызвать страшную эпидемию… Вам, ротмистр, придется весь этап разместить подальше от Уварово. Чтобы не было контактов с жителями…
Беленький сделал больше, чем обещал. Этап под Уварово простоял целых пять дней.
С Беленьким Ефиму никогда больше встречаться не доводилось. А вот услышать довелось. И не от кого-нибудь, а от Бурлака. Он съездил в Уварово, однако семью доктора там не застал. Беленького с семьей, как кулацкую контру, уваровские большевики пустили в расход. Вместе с женой, двумя сыновьями и дочерью. Беленькие имели свой дом, пять коров, три лошади и разную птичью живность.
«Богатеем был доктор наш… Мироедом. И мы с ним по-большевистски… К стенке» – говорила мне шобла уваровская, рассказывал Спирин.
– Дурачье! Все поразворовали, пожгли. Лавок нет. Харчей нет. Жрать нечего… А они в умат пьяные.
– Как ты там оказался? С чего тебя туда понесло? – стукнул он по столу.
– Чо кипятишься, Фимок? Все путем было. Вел я себя нормально. По большевистски… Правильные речухи толкал.
– Стало быть, заехал в Уварово, чтобы язык почесать?
– Ну, нет же, Фимок. Не злись ты ради Бога… Хотел сказать ему «Спасибо». Подбросить кое-что. Ить, как-никак, помог тебе выцарапать меня из могилы,– съежившись под взглядом Когана с робкой тихостью, словно оправдываясь, говорил он.
А Ефим не злился. Ему таким, недовольным манером, хотелось вызнать не напортачил ли он что там. Вдруг прибил кого за доктора и теперь его разыскивают. Как он понял, ничего такого там не произошло. Все было путем. И он успокоился.
С стороны было забавно смотреть на сцену их беседы. Громадный, на две головы выше и на два плеча шире Когана, Бурлак сидел перед ним осенним воробышком. Всех и на каторге, и здесь, в Одессе, удивляло их отношения. «Слон боится моську»,– посмеивались люди. Но, то было не так.
…Коган крепко-крепко зажмурился. Глаза щипнула слеза, подкатившая от сжавшегося, как от ожога, сердца.
Не в боязни тут было дело. Совсем не в боязни. А в его редчайшем даре быть благодарным. Уникальном даре. Даре избранных. Таких, единицы. В остальном человечестве вместо него – червяк интереса.
Благодарность – не чувство. Чувство штука проходящая. Что хлеб с пылу-жару, сначала дурманит и насыщает, а потом черствеет и плесневеет. Благодарность – это пульс души. Это оголенный нерв долга. Долга Господу, давшему тебе жизнь. Не имеет значения какую. Хоть разово, но он одарил тебя благом жить. Без всякого подколодного интереса…
Но миром правят те, у кого душа не бьется таким пульсом. У них нет такого нерва. Те, у кого он имеется, для них разменная монета. Подручный материал для достижения своих интересов. Они считаются сильными, а те, что с пульсом благодарности – слабыми. Но благодаря именно им жизнь-таки воспринимается чудом. Божественным чудом.
Слон не боялся, а любил моську… Хотя моська бывало злобно обтявкивала его. Такое часто случалось в остроге, когда Сапсану приходилось заменять отсутствующих по каким-то причинам и Шофмана, и Заворыкина, обучавших грамоте каторожников. Лучше всех учеба удавалась Басурману. Он быстро выучился бегло читать и хорошо писал. Бурлак читал тоже неплохо, а вот с письмом у него никак не ладилось
– Осел копытом лучше след оставит, чем Спирин ручкой на бумаге,– в клочья разрывая лист и бросая обрывки на спину послушно согнувшегося гиганта, кричал Коган и заставлял его снова и снова все переписывать.
И тот покорно подчинялся.
Услышав однажды столь яркий педагогический перл Сапсана, Заворыкин, подоспевший к самому разгару урока, не выдержав, оборвал его.
– Товарищ Коган, дальше занятие поведу я. Вы свободны.
Пыхтя самоваром, Ефим прошел в дальний угол барака. А несколько минут спустя, до него донесся восторженный голос Заворыкина.
– О! Какой ты молодец, Спирин. Хорошо получается… Будет еще лучше, если ты кисть руки будешь держать свободней…. Она у тебя напряженная… У тебя в руках ручка, а не топор… Ничего. Это пройдет… Главное, грамотно пишешь…
Фима с трудом удержался, чтобы подбежать и посмотреть.
А вечером Заворыкин с Шофманом дали ему на орехи, пригрозив, что если он еще раз, в общении с учениками, допустит такую ругань, они не позволят ему заменять их.
– Товарищ Коган, когда ведешь урок – ты учитель. Понимаешь, учитель, а не урка,– выговаривал ему Заворыкин.
– И язык твой должен быть языком, а не ишачьим хвостом. Слово бьет побольнее саксона и лечит получше колдуна,– поддержал Шофман.
– Я хотел завести его, чтобы он старался…
– Не спорь, Фима. Ты не прав. Попросишь у него прощения. Лучше всего при ребятах… Найди форму,– ласково, но твердо потребовал Шофман.
– Вот, вот! – подхватил Заворыкин. – Это будет для тебя, как для педагога, тоже уроком.
И Фима это сделал, когда они гамузем играли в подкидного. Заговорил об искусстве каллиграфии, о том, что раньше, не как сейчас, книги писались от руки и он видел такие…
– Твоя правда, Сапсан,– сказал Басурман.– Святую книгу «Коран» писали от руки. Знаешь как красиво…
– И я об этом, Рахимка. И сегодня, вспомнив об этом, я сдуру накричал на Даню. Видишь ли, почерк его не такой, как у мастеров-каллиграфов. Можно подумать, что кто-нибудь сможет повторить такое… Ты уж, Даня, не обессудь…
– А я чо? Я ни чо! – добродушно расплылся Бурлак.
– Да мне не по себе как-то стало.
– Не береди себя, Фимок. Не обиделся я. С мальства нас в деревне учили всему через зуботычины.. А тут не за плугом ходить, а писать. Учиться грамоте…
Хорошо Басурман увел разговор в другую сторону. Стал говорить о рукописных шедеврах, которых нынче днем с огнем не сыскать.
– Они в тысячу раз лучше печатных книжек. Я сам держал в руках такие… «Коран», «Шахнаме» Низами… – перечислял он.
– Да, красивые, мудрые книги… Но их было мало. Не каждый мог прочесть их,– заметил Заворыкин,– А сейчас, благодаря печатной технике, книга стала доступна каждому. Читаешь ее и ты живешь другой жизнью. Набираешься знаний, ума… Книга – это великое чудо, созданное человеком… А начиналось она, как правильно сказал Сапсан, с рукописных изданий.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Лопатник (блат. жаргон) – кошелек, портмоне.