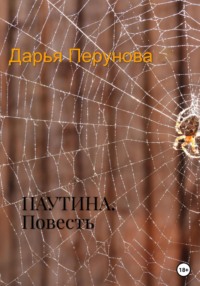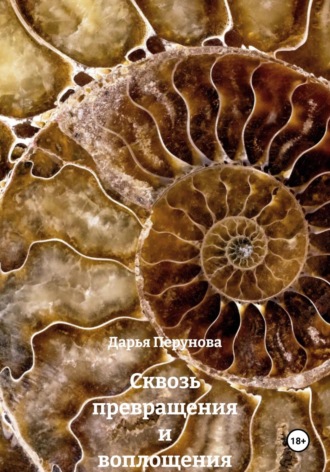
Полная версия
Сквозь превращения и воплощения
То̀мас возмутился:
– Но, То̀ни, ты слишком откровенно поддерживаешь одну из противоборствующих сторон. А это как-никак идет вразрез с журналистской этикой. Да и с любой другой этикой тоже…
– И какую же сторону я поддерживаю? – усмехнулся уголком рта То̀ни. –
А-а… ну да, кажется, я поддерживаю людей, регулярно подвергающихся «демократическим» бомбардировкам с молчаливого согласия Запада, то есть нас с вами. А это ничего, что у этого самого Запада вошло в привычку сжирать правительства и государства, которые им – в помеху? Да ещё и прикрываться «демократией»…
И замолчал, разочаровавшись в разговоре. Стал нехотя бесцельно перемещаться по гостиной, натыкаясь равнодушным взглядом на скопище антикварных вещей, доставшихся То̀му от дедушки. Его дедушка Бен Линн когда-то владел огромноми чайными плантациями в британских колониях – в Индии, в Австралии. И многие предметы интерьера дышали стилистикой той культуры. Роскошные тёмно-бордовые ковры, низкий пестрый диван в подушках с таинственными цветами и загадочными птицами, кованный журнальный столик на гнутых массивных ножках, тяжелые вазы, украшенные яркими геометрическими орнаментами, зеркала в массивных рамах. Всё броско, сочно. Не обошлось и без религиозно-философских скульптур: многорукого танцующего Шѝвы и Ганѐши с головой слона. То̀ни проходя мимо, засмотрелся на серебряного Бу̀дду, улыбающегося во сне, прикрыв тяжелые веки.
– А я не хочу улыбаться только потому, что сплю… или потому что меня усыпляют! – вдруг взбеленился он. – Не хочу блаженствовать в вашей тупой нирва̀не! Нет уж, увольте! – загремел он, наэлектризованный эмоциями.
Перевел глаза на стеллажи с пластинками. Привлекло фото на конверте: наклонившийся над клавишами величайший пианист-виртуоз Го̀ровиц. Но То̀ни упрямо мотнул головой, словно не давал соблазнить себя дивной гармонией звуков. Передёрнулся, не замечая, что То̀мас наблюдает за ним.
Мэ̀ррил достаточно хорошо знал друга, чтобы суметь прочитать его мысли: То̀ни, конечно же, осуждал его за попытку укрыться в своей «башне из слоновой кости».
А То̀ни бросил взгляд на портрет миссис Мэ̀ррил на стене, в широкой блузе и пестрой хиппарской юбке, улыбающуюся одними уголками рта с заговорщическим видом. Он часто говорил То̀масу, что её загадочная полуусмешка на картине, затаённая в прищуре глаз, точно отражала присущий ей внутренний настрой «себе на уме». Мать друга всегда вызывала симпатию у То̀ни. И сейчас ему вспомнилась её бесстрашная верность своим взглядам и мечтам.
Ребѐкка растерянно поглядывала то на одного, то на другого и, в конце концов, схватила за руку То̀ни, подтащила его, сопротивляющегося, к Мэ̀ррилу и сделала примирительный жест, попытавшись одновременно обнять их обоих. Но у нее ничего не вышло. Оба оставались жесткими, деревянными. Впрочем, плечи То̀ни на ощупь были более поддатливы, его смягчало чувство своей правоты. А Томас прямо-таки уперся. Однако бо́льшую жалость у Ребѐкки почему-то вызывал именно То̀мас. Безусловно, его мучил стыд за свою трусливость, и за ту глупую резкость, которой он эту трусливость прикрывал.
То̀ни ушел, так и не найдя понимания. После – распрощалась и Ребѐкка. Она сослалась на какое-то неотложное дело, хотя То̀мас с Ребѐккой этим вечером должны были отправиться на благотворительное мероприятие – концерт классической музыки, который устраивал русский олигарх, желавший сделать себе пиар меценатством. Уже на пороге у То̀маса, как он этому ни противился, всё же сорвалось с языка:
– Ребѐкка, ты, конечно, тоже осуждаешь меня…
– Нет, почему же? – она отвела глаза. – Судить кого-то – верх самонадеянности. Я просто… в смятении.
Оставшись один, То̀мас в скверном настроении дотерпел до вечера и заставил себя пойти прислониться-таки к музыке, раз уж его пригласили. Может, полегчает.
На музыкальную вечеринку, несмотря ни на что, они с Ребѐккой пришли оба, но каждый отдельно. Музыка не развеяла тоску Мэ̀ррила. Ребѐкка тоже скучала. Это был типичный бал тщеславия для нуворишей.
Ребѐкку, чисто по-женски, привела в восторг присутствующая там арабская принцесса в изумительном струящемся муслине, с закрытыми руками и плечами, но с дразнящим вырезом, где в смуглом декольте мерцал изумруд. Такой же изумрудный тюрбан украшал ее красивую голову. «Бывают же такие женщины!» – подумалось ей. Но впечатление испортил подошедший к диве старый-престарый муж-шейх, едва доходивший ей до плеча, с вислыми щеками.
Взгляд Ребѐкки выцепил ещё и высокого волоокого юношу-индийца, сверкавшего яркими белками чёрно-агатовых глазищ. Выделялся он и национальным одеянием, в Индии называемым «шервани», – элегантным светло-бежевым френчем до колен из шёлковой ткани с очень изысканным жаккардовым рисунком. Судя по всему, черноокий бог был из индийской знати. Его шикарная чёрнокудрая шевелюра, ниспадавшая на плечи из-под парчовой чалмы, притягивала взоры гостей. Особенно блондинистых юных дев с золотистой кожей без единого изъяна, что фланировали вокруг в своих дизайнерских шифонах. Они напоминали тропических птичек, слетающихся в поисках нектара к экзотическому цветку. Их вертлявые головки цедили напитки, пересмеивались, а порой возмущённо топорщили свои клювики, готовые по какой-то причине рассориться между собой, вспорхнуть и улететь прочь. Но опять успокаивались и чирикали дальше, трепеща крылышками-воланами своего яркого оперения и нет-нет да и поглядывая на себя в разных зеркалах, достаточно ли хороши.
За всем этим балом самовлюблённости и гордыни наблюдал, как и Ребѐкка, сдержанный, полный невозмутимого достоинства, китаец, стоявший у одной из колонн зала. В глазах его, казалось, притихла бесконечная мудрость Востока. Он задумчиво, с философическим спокойствием взирал на это общество – как взрослый снисходительно смотрит на играющих ребятишек, пытающихся казаться старше своих лет и вырядившихся в родительские одежды.
То̀мас внезапно заметил, что мир вокруг него, да и в нём самом, трансформировался с момента, как только он понял своё малодушие и стремление избежать неприятностей. Его артистическое нутро уже не так жадно тянулось вовне – к рассматриванию типов людей, их повадок, как бывало раньше. Он витал внутри себя, в своих сомнениях. А все из-за То̀ни! Зачем, почему чертов То̀ни оказался его лучшим другом! Зачем он, То̀мас, сейчас предает его! Черт дернул То̀ни свалиться на его голову с его русскими впечатлениями и восхищениями! Уж не является ли его, То̀маса, собственная увлечённость русскими, его интерес к их культуре – игрой? Это что, у него не по-настоящему? То̀масу стало неприятно от всплывавших в нём вопросов. Как-никак внутренне он был уверен в своей искренности. Но неужели ему всё-таки было удобнее лишь выдумывать русских? А они, неугомонные, вот врываются в его жизнь, не желая оставаться буквами на бумаге… Существовали бы себе в книгах, статьях, где читаешь о них, и можно поразмышлять о русской душе, её страстях, смыслах… Так – нет же…
Вот и здесь – подрулил к нему, держа бокал с вином, развязный тип по имени Виктор, русский журналист, якобы беженец, или, как он сам отрекомендовался, жертва политического давления. Он, играя приторной улыбочкой, пригласил Томаса на авторский вечер какого-то малоизвестного писателя из России Еропкина.
Для То̀маса Мэ̀ррила всякий писатель из России виделся некой мистической фигурой, он каждому мысленно примеривал бороду Толстого. В каждом русском писателе он пытался безуспешно найти черты нестяжа̀теля и подвижника. И сам То̀мас, сколько бы не смеялся над собой, над своими ожиданиями и стереотипами, не мог от них избавиться.
Виктор позвал его в местный модный книжный магазинчик, который держала русская же мигрантка, супруга опа́льного у себя на родине бизнесмена.
– Там у нас маленький русский Лондон, – хихикнул Виктор.
– Но я бы не был так в этом уверен, – опротестовал самодовольное высказывание неприятного типуса Том, – потому что сейчас в Лондоне русские повсюду, никуда не денешься от этого.
– А вам это, похоже, не очень-то нравится, – вставил Виктор. – Однако вы же, как мне известно, вроде увлекаетесь русской культурой, национальным характером… Но смею вас уверить, вы не знаете русских… Вы придумали себе неких идеальных русских из XIX века. Но их нет в реальности. Нет уже тех, кого вы хотели бы видеть…
И тут у Мэ̀ррила внезапно вырвалась реплика, которую не следовало бы выпускать:
– Да что вы?! А вот, оказывается, – есть. Они есть, просто они не в Лондоне, и уж тем более не в вашем «маленьком русском Лондоне» – а в Мариуполе, на Украине. И в России. Мне То̀ни Га̀ррет об этом рассказывал, журналист, вернувшийся из горячей точки.
Виктор чуть отстранился от него, конечно, легонько, неуловимо, это нельзя было бы назвать шараханьем в сторону. В Британии, известной своей чисто английской выдержкой, даже русские стараются вести себя сдержанно. Он лишь чуть отодвинулся и скептически приподнял брови. То̀маса вдруг донельзя разозлила его важная мина: вот ведь, просто сам оракул пред тобой. И стремление его отдалиться при имени То̀ни – ожгло сердце. То̀мас резко произнёс с несвойственной для него бесцеремонностью:
– Что, это имя табу̀ в городе? И вы, я вижу, – уже в курсе.
Виктор впал в обиду, резво, как из пулемёта застрочил в оправдание:
– Кое-что слышал о нём… Но я ведь его не осуждаю за его несообразные репортажи из Мариуполя, он был вынужден, его наверняка заставили. Его ведь могли пытать, мистер Мэ̀ррил. Поймать и угрожать расправой…
– Кто же?
– Да агенты ФСБ. Вы разве не знаете, что ими нашпигован восток Украины?
– Какой вздор! – буркнул То̀мас.
–– А вы категоричны, – Виктор прикусил нижнюю губу. – Ну, ну… не будем ссориться… Мы поладим… Надеюсь увидеть вас на нашем мероприятии…
Среди публики, собравшейся на авторском вечере писателя, То̀мас оказался единственным англичанином, да еще и знаменитостью. На откормленном сочащемся себялюбием лице литератора при виде его мелькнуло хищно-радостное выражение, которое он тут же погасил. Переводчица, ничем не занятая, с очевидным удовлетворением и готовностью подсела к Мэ̀ррилу. Она принялась объяснять ему непонятные места в речи сего сочинителя, подгоняемого бесом тщеславия.
– Вообще, как влияет на нас классическая русская литература? – говорил Еропкин, толстозадый малый лет сорока. – Она содержит и много негативных сторон. Ведь что привил нам наш хваленый Достоевский? Культ страдания… А эти его мечты о русском Константинополе… Мечты о миссии русского народа, об особом пути… Все это привело нас только к сегодняшней изоляции… от всего цивилизованного мира. Так что, Достоевский в настоящее время вреден, господа. А что же Толстой? У него – всё тот же народ-богоносец: учитесь правде у простого мужика, опрощайтесь, нюхайте портянки… Мы все, вся наша русская интеллигенция, всегда слишком идеализировали народ. А народ оказался гробом с гниющими потрохами. Вскрыли гроб – ударил запах. По Крыму все это увидели…
На этом месте какая-то нежная розовощекая девушка исступленно зааплодировала. Через секунду и зал взорвался общими овациями.
То̀мас Мэ̀ррил, оглядевшись, увидел, что не хлопает он один. Ему даже стало неловко, но заставить себя присоединиться не мог, очень уж смехотворно всё прозвучало. Да более гениальных и более русских писателей, чем Достоевский, Толстой – пойди, ещё поищи! Русский дух у Достоевского так глубоко раскрывается – всеми своими гранями, всей своей сложной потаённостью, противоречивостью, размахом, неохватностью, и при этом всечеловеческой вместимостью, что едва ль кому ещё такое под силу! А этот фарисейчик, сбежавший из России, как только там возникли неприятности, тут смеет сучить своими мелкими мыслишками, полагая, что он в силах соперничать с такими гигантами. В пересказе переводчицы слова Еропкина отдавали ещё более невероятной гнусной мерзопакостью.
Переводчица тоже спохватилась – углядев всеобщий восторг, но не углядев всеобщей глупости. Зачем-то извинилась перед Мэ̀ррилом, вскочила и вознесла рукоплескания. То̀мас сидел раздраженный, негодующий, хотя на лице его сохранялась вежливо-отстраненная маска.
Литератор Еропкин, насладившись своим торжеством, закончил речь, после чего принялся читать какие-то самодеятельные стихи о митингах в Москве. То̀мас даже не мог вдуматься в их смысл. У переводчицы получалось плоховато: ни ритма, ни рифмы, ни мелодики. Впрочем, вряд ли тут была только ее вина.
Он от нечего делать начал смотреть по сторонам. Магазин, как ему уже было известно, купили русские, одни из тех, из-за кого цены в городе взлетали в космос и заставляли страдальчески морщиться местных лондонцев.
Подобные же русские типажи в 1990-х, например, просили завернуть им содержимое бутиков «Шанель», «Армани», «Гуччи», «Прада» – небрежным взмахом ладони от угла до угла. И без всяких банковских карточек – просто отслюнявливали наличку в оплату. Такие же субчики устраивали гонки на дорогѝх спорткарах. А их женщины, эффектные супермодные блондинки, вызывали у простых англичанок в футболках и джинсах приступы острой неприязни и брезгливости.
Типы такого рода незаметно под себя меняли город, куда приехали.
Они считали главным достоинством в нём именно роскошную жизнь. Не понимали, что, собственно, роскошная жизнь в последнее время вызывала, напротив, показное недовольство современных западных политиков-прогрессистов, что её они как раз хотели бы закамуфлировать, естественно, не борясь с самой сутью финансового превосходства в верхах общества.
Появилась даже соответствующая риторика, рассчитанная на наивность и недомыслие в народе: о «тихой роскоши», «постро̀скоши», о соблюдении «этичного подхода к вещам», «экологичности потребления». В сущности, в этом проявлялось лицемерное намерение переклеить былые ярлыки, сменить их на новые с надуманными названиями. Желание прикрыть фиговыми листочками богатство высших буржуазных слоёв. Стремление завуалировать демонстрацию ими изобильного роскошества, исключительность их статусного господства – лишь убрав это из поля прямого обозрения низов, создав некий заслон. Типа – всё это придётся демонстрировать на закрытых раутах и не раздражать остальное население. Иначе недалеко и до социального взрыва.
Но приехавшие русские, и нувориши всех мастей, как раз и ценили в Англии именно это богатство, демонстративное богатство, эту экс-колониальную роскошь, они жаждали в ней купаться. И утрировали её, кто как мог, и насколько позволяли объёмы вывезенных капиталов.
Вот и русские владельцы книжного магазина, где сейчас выступал писатель Еропкин и мучился То̀мас Мэ̀ррил, содрали со стен приобретённой недвижимости серенькую неприглядную обивку. И заменили ее шикарными темно-красными обоями с индийско-восточным орнаментом, обили по низу бордовыми панелями, наставили повсюду посеребрённых слонов величиной с небольшую собаку. На стены хозяйка распорядилась повесить картины индийской же тематики, правда с блошиного рынка, на большее потратиться – жаба душила, а пустить пыль в глаза хотелось. Вся эта бутафория задумывалась в подражание ни с чем не сравнимому ост-индскому стилю. Но по вложенному в это вкусу и культуре, естественно, не дотягивала до оного, что остро ощущал То̀мас Мэ̀ррил, впитавший наследованный дедовский опыт жизни в британско-колониальной Индии.
Еропкин продолжал самодовольно мурлыкать свои вѝрши. Но То̀мас улизнул по-английски, не дослушав. Тем не менее присутствующие это охотно простили ему – как представителю «цивилизованной Европы», почтившему их междусобойчик.
Осадочек от Еропкинской дымовой литзавесы, рассчитанной, скорее, на отмывание репутации этого проходимца и придания ему статуса политически гонимой творческой личности, так въелся в голову То̀маса, что мешал ему мыслить позитивно.
Разбив вдребезги тягучие рассуждения Мэ̀ррила о своей жизни, в особняк вдруг впорхнула Ребѐкка, преображенная, свежая, смуглая, в тонком бледно-розовом платье вываренного шёлка с тонкими проблесками люрекса. И потребовала сопровождать её на день рождения к одному из её русских приятелей, из той породы, о которой говорят «человек мира», то есть без родины. Он издатель, в журнале которого всегда охотно размещали её авторские, неоднозначные по содержанию, а иногда политически скандальные фотографии.
Отказать можно было кому угодно – только не Ребѐкке. То̀мас смирился. Как в броню, облачился в доспехи смокинга с бабочкой. Была бы возможность, с радостью нацепил бы и шлем с забра́лом – но увы.
В просторном доме этого приятеля Ребѐкки тоже оказалось много русских, чуть ли не больше половины, под какими только предлогами ни прибывших сюда с миграционными потоками в разные годы.
Хозяин вечера, олигарх, высокий, корректный джентельмен, выглядел совершенным европейцем. Он лично вышел встретить Ребѐкку и То̀маса Мэ̀ррила. В его тени мерцала его последняя жена, юная пугливая милашка, лет на тридцать моложе, она не проронила ни слова, ни по-английски, ни по-русски.
Шумная компания на этом па́ти развлекалась, находясь в свободном движении и не отказывая себе ни в горячительных напитках, ни в деликатесах, под которыми ломились шведские столы, ни в танцах до изнеможения под живую музыку. Некоторые предавались лёгкому флирту. Другие – игре в преферанс или бридж. Кто-то увлёкся приятными беседами, обсуждениями новостей.
Ребѐкка казалась веселой, оживленной и болтала с виновником торжества о последних литературных новинках, вышедших в его издательстве. Она шутливо пеняла ему, что в его планах мало места для русской классической литературы. Он так же шутливо отбояривался от её доводов, поглядывая на молчавшего Мэ̀ррила, всё ещё погружённого в свою внутреннюю разла́дицу. Не дождавшись от Томаса реакции, олигарх посерьёзнел и адресовался уже лично к нему сам:
– Вот вы, мистер Мэ̀ррил, тоже восхищаетесь русской литературой. Особенно Достоевским… А не думаете ли вы, что Достоевский в вашем европейском мире – это нечто иное, нежели в нашем… Конечно, вы в своем обустроенном упорядоченном мире богатства, благосостояния, из своего, так сказать, прекрасного далёка – можете себе позволить восхищаться нашими художественными образами страдания и протеста. А мы, было бы вам известно, так живем… мы чувствуем по Достоевскому… В общем, по большому счёту, у нас из-за этого и некоторые реформы провалились… Да-да, в 1990-е у нас был шанс построить нормальное капиталистическое государство. Но нас хорошо тормозну́ло тогда духовное наследие в менталитете нашего народа, доставшееся от русской литературы критического реализма. Мы не подумали об этом, не поработали как следует над этим… И ничего у нас не получилось. А сейчас нам советуют, что надо побороть ещё и пережитки сталинизма… как будто это что-то решит… Но не в сталинизме дело, уж поверьте мне.
– А в чем же? – Мэ̀ррилу тошнотворны были рассуждения издательского короля.
– В гораздо более глубинных вещах. Сталинизм тоже ведь не на пустом месте вырос… Он вызрел на почве достоевщины – на униженных и оскорбленных; на старухе-процентщице, кровопийце бедных… и на том, что Достоевский показал: убивать таких, как она, можно…
– Если судить по его книге, то как раз-таки – нельзя, – возразил То̀мас.
Но респектабельный высокомерный господин отмахнулся от него, как от не понимающего азбучных истин, и цицеро̀нил в своё удовольствие дальше:
– Нет! Достоевский это убийство не осуждает – а пристально рассматривает. И направляет… Ведь Достоевский сам и дает в руки Раскольникову топор. А мерзкая старушонка у него берёт, подлю́ка, жидовские проценты… Так и сказано в его черновике – «жидовские»… писатель-то был антисемитом… И берёт – с нуждающихся… наживается на них… У Достоевского нет слова «капитализм», но, по сути, его произведения против капитализма и капиталистов… Вспомните, и его противного Лужина… И что в итоге? В итоге – осуждение, ненависть народа к финансово успешным людям. И невозможность построить нормальный капитализм… И вдобавок к тому же – уродливый культ страдания… Так что, не со Сталиным надо бороться – а с Достоевским.
«Вот странно» – подумалось То̀масу, – «буквально три часа назад я слышал подобное же, но от писателя. Писатель и олигарх слились в идейном экстазе по своим воззрениям – удивительно!».
После развлечений и разговоров на этой вечеринке ему казалось, что голова совсем забита дурацким словесным мусором, извергнутым понаехавшими тщеславными нуворишами – радѐтелями капитализма для России, народ которой они презирают, великую литературу которой не принимают, и даже хотели бы отменить вовсе. Не верх ли глупости?! А что, вообще, они из себя представляют – без народа, без великой русской классики?! И без России?! Пустое место!
Покинув вечеринку, они долго бродили с Ребѐккой по улице, пытаясь проветрить мозги. Неожиданно наткнулись на печальную реальность жизни. На скамейке расположилась парочка бездомных поношенных существ, обряженных в невиданный затрапез. Голый череп юного панка с огненным ирокезом покоился рядом с головой прямо-таки викторианского вида старухи с седыми космами. Престарелая особа шевельнулась и, проснувшись, поднялась, развернула пакет с увядшим гамбургером, вынула оттуда серую котлету и отложила в другой свёрток – для внука. Но в этот миг панк тоже открыл глаза, уловив запах еды. Припасённое содержимое в свёртке в мгновение ока перекочевало в его руки, и в один жевок – в желудок. Он сглотнул свою порцию в две секунды, как подзаборный пёс.
Том с Ребѐккой с сочувствием протянули было им деньги, но пожилая нищенка, оттолкнула купюры с каменным лицом и отвернулась, словно вид денег её оскорбил. А панк сразу посуровел, выкатил на них свои бельма, ирокез его встопорщился, огненно засверкал и, казалось, налился кровью, как петушиный гребень перед дракой.
Ребѐкка растерянно застегнула вечернюю бисерную сумочку. Ее поникшие плечи чуть вздрогнули. Том, подхватив под локоть, поспешил увёсти ее. Сам тоже почувствовал себя подавленно. От них не брали милостыню как от самонадеянных бездельников, как от богатых позёров, только что вкусивших радости жизни на вечеринке, и стремящихся заглушить сиюминутное чувство вины. Они тут же забудут о ней, как только повернутся спиной.
Пристыженные, нелепые в своих вечерних нарядах, Томас и Ребекка, побрели дальше.
«Скорей бы окунуться в творчество, забыть обо всем. Как хорошо, что скоро уезжаю на фестиваль Бѐльского в Россию. Интересно – а как там у них с бездомными?» – мелькнуло в голове Мэ̀ррила.
***
(2014. Россия)
А в это же самое время за тысячи километров от Англии – народный артист Юрий Бѐльский, седобородый пожилой человек, живая легенда театра, ознакомившись со свежими новостями, пришёл просто в бешенство. Он негодовал воткрытую – совсем не так, как цивилизованные европейцы с их хвалёной безупречной вежливостью, лишённой какой бы то ни было искренности, с их надуманной толерантностью и традиционной сдержанностью, держа в уме одно, произнося другое и делая лишь то, что выгодно. Он громогласно называл вещи своими именами и, распинывая стулья, шарахался на веранде, как разъярённый бык в загоне…
Находился он на своей любимой подмосковной даче в живописнейшем месте, в районе которого ещё в 1930-е обосновались и размножились советские дачные поселки – писательские, актерские, балетные, научные. Все это царство отдыха для творческой интеллигенции к 2014 году захирело, и уже не имело налёта прошлой элитарности, а казалось попросту стариковскими вы̀селками. Они покрылись кудлатой крапивной порослью, репейником, полынью, одичавшими кустами малинника, черешни, зарослями иван-чая и прочей дикой флорой, только лягушки иногда разражались воплями на бывших прида́чных озерцах, превратившихся в затянутые тиной мутные лужи.
Бѐльский всегда любил выходить на террасу своей дачи, особенно в теплые грибные дожди. Слушал, как капли щёлкают о навес. А когда гроза – грохочут раскаты, как взвизгивает десятилетняя внучка Настя, реагируя на громы, и не от страха, а от восторга. Его голенастой девчонке с торчащими косичками, словно проволока внутри, – до всего всегда дело. Как-то разразился небывалый град с голубиное яйцо. Она, смешная, собрала тогда с террасы целое ведерко таких градин и с гордостью показывала их гостившим на даче знакомым. Пыталась успокоить Аську, их огромную дворовую собаку, которая при первых же звуках разгулявшейся непогоды тут же залезла в будку с жалобным подскуливанием, точно моська. А кот Казимѝр, наоборот, вызывал у неё одобрение: держался с большим самообладанием. Правда, он заблаговременно запрыгнул в открытую оконную форточку и уже оттуда вальяжно, с достоинством поглядывал на разразившуюся природную катавасию, брезгливо переминаясь на подоконнике лапками. Его щедро оглаживал ещё совсем сопливый, маленький внучок Максимка, к их обоюдному удовольствию. Деду нравилось, как Настя с Максимкой смеялись над милыми выходками мохнатых питомцев, и сердце его радовалось.