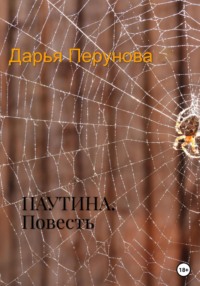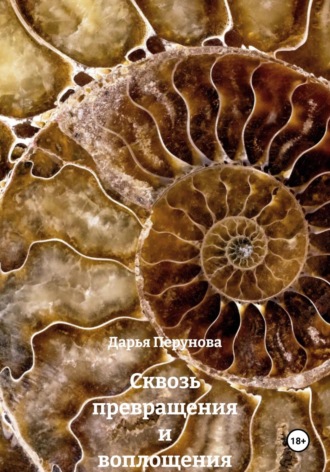
Полная версия
Сквозь превращения и воплощения
Дача было местом его полнокровной жизни. По утру обычно Бѐльский с наслаждением втягивал свежий загородный воздух, приятно щекочущий ноздри, и начинал напевать себе под нос. Любые капризы природы бодрили и приводили в восхищение, ибо природа в его мыслях обожествлялась и была неизменным источником силы. Как правило, в прекрасном расположении духа он начинал новый день.
Однако не в этот день. Сегодня всё было не так, хотя утро ожидалось волшебное. Сегодня после звонка своего приятеля, сообщившего какую-то новость, Бѐльский застрял у монитора компьютера на террасе. Его внимание приковала публикация из новостной ленты. Она на́прочь вывела его из себя. Он чертыхался и проклинал автора этой публикации.
– И этого-то человека выдвинули на предстоящее выборы нового худрука в наш театр! Посмотри, что пишет этот скот, – бушевал Бѐльский, обращаясь к жене, – нет, ты только посмотри, что он говорит о сгоревших людях 2-го мая в Одессе в Доме профсоюзов: «Малоценный человеческий материал». Во-о-от же гад! А я-то последнее время думал – что это вся наша московская богема, все эти «голуби мира» такие притихшие? Я, дурак, надеялся, что им стыдно стало за эту трагедию с одесским пожаром. Ну и олух же я! А они – после всего! – ещё и пишут про сожжённых так мерзко, что там, мол, «какое-то быдло, и жалеть их не стоит»… Вот тварь, негодяй!… Ирочка, вот если они у нас к власти придут, эти «столпы свободы и демократии», – что же они с нами сделают!
Жена Ирина – женщина лет семидесяти, тоже актриса театра. От нее веяло теплотой зрелой мудрости. Разделяя его возмущение, она негодующе кивнула. Но ее больше обеспокоило нервное состояние мужа, и, выходя с террасы в коридор, она в сердцах припугнула его:
– Юра, я у тебя ноутбук как-нибудь всё-таки заберу… Зря тебе его сын подарил…
Юрий Бѐльский, импозантный статный старик, еще довольно хорош собой, с чертами римского патриция, гневно вперился в монитор, точно хотел, чтоб текст от его взгляда самоликвидировался, потом всё-таки захлопнул крышку, выдернул, чуть ли не с мясом, шнур из розетки.
– Ирочка, если бы дело было в чертовом компьютере… Меня беспокоит этот возможный худрук. Я бы этому молокососу рыло начистил…
– Ну и зачем тебе ввязываться, Юра? – укоряла жена, выглядывая на террасу к мужу. – В нашем-то возрасте только инфаркт заработаешь.
– Зачем ввязываться?! – в запа́ле прорычал Бѐльский. – Зачем ввязываться, говоришь? Посмотри-ка сюда.
– Да незачем мне смотреть, – донёсся опять её голос, уже из коридора.
– Нет уж, Ира, посмотри. И посмотри немедленно… иначе мы с тобой поссоримся.
– Ну хорошо, тащи ноутбук сюда, старый хрен, – позвала она с шутливой задиристостью.
Муж не развеселился, не засмеялся от её выражения, как обычно это происходило в их «игре в образы» и соответствующие словечки. Он бросился в коридор, где она в гардеробе искала вещи внука, гостившего на даче.
– Вот, – только и сказал он, выдвинув ноутбук, – сейчас включу видео… Вот видишь – все обгорелое… на всех этажах… Но много мертвых людей, которые не сгорели, их даже не задело огнем. А знаешь почему? Это каратели-на̀цики потом шли по этажам и добива́ли тех, кто был ещё жив, и тех, кто потерял сознание от угарного газа.
Когда Ирина остановилась взглядом на перекореженном теле беременной женщины, задушенной телефонным проводом в здании, предуготовленном для а̀дового истребления несогласных с майданным переворотом на Украине, – она зажмурилась. Захлопнула ноутбук. Инстинктивно отошла, как сомнамбула, осмотрелась по сторонам, точно пытаясь понять – настоящий ли мир вокруг нее.
А вокруг был светлый мир её жизни, душевный, добрый, родной, наполненный любовью и верой в лучшее в человеке. После только что увиденного почти не верилось, реален ли этот человеческий мир. Огляделась. Вот дощатая дачная стена, почти вся заклеенная их старыми афишами, а в них плоть и кровь их размышлений, творческого служения. Вот старый проигрыватель. Вот портрет Хэмингуэя, тут же карточка Высоцкого, этих кумиров шестидесятых. Хэмингуэй в толстом свитере глядел скептически, а Высоцкий с его стиснутым ртом, хмурым надбровьем смотрел прямо-таки с осуждением, сжимая гитару, словно автомат Калашникова. А тут фотография самого Бельского в римской тоге в образе Цезаря, черно-белая, из давнего спектакля, где он блистал. На его игру тогда собирались полные залы. Были такие аншлаги! Журналисты задыхались в хвалебных о̀дах! Как же она сама восторгалась им в этом образе! А вот другой портрет – знаменитой актрисы, в ту пору юной смуглянки с бровями вразлет, с чертами донской казачки. Взгляд из-под черных бровей особенный – огненный, в каком-то возвышенном состоянии души, возносящей страстную молитву в небеса. Эта карточка долго беспокоила Ирину. Могла ли она в свое время тягаться с возлюбленной, со знаменитой великой актрисой! Но потом беспокойство исчезло. Оно растворилось в тихой надежде, перешедшей в уверенность. Однако пришло другое. Пал советский мир – весь их мир, полностью, безвозвратно. Прахом пошли достижения, мечты, надежды, взаимодействия с партнёрами театров в других регионах. Как только смогли они пережить это крушение вселенского масштаба! А потом пришла тоска, неотвязная, тягучая, по тому полнокровному, надёжному разрушенному строю…
Но сегодня… Все горести казались теперь мѐньшими – перед изуверством наступающего нового обесчеловечивающего варварства…
Муж, увидев ее реакцию, уме́рил градус эмоций.
– Ирочка, пойми, я ведь не из садизма все это на тебя вываливаю… Вот, посмотри, – он вновь схватил ноутбук, – вот кого нам предлагают на выборы в предводители нашего театра. Да разве может такой быть нашим вожаком, быть худруком?! Это он статью написал… Тридцать пять лет. Широ̀ков. Говорящая фамилия… До чего же морда зажравшаяся, самодовольная, широко раздутая самомнением! Но если бы дело было только в роже! У него и душа – широка настолько, что лишена этических границ, не имеет совести, там нет никаких нравственных пределов… духовная широта такая, что всё… всё оправдает… Тьфу! Вот послушай-ка… Он пишет о людях, умерших не своей естественной смертью, а застреленных, задушенных, замученных карателями в одесском Доме профсоюзов: «Эти люди выбрали свою судьбу сами. Они испугались демократии и свободы!». Чуешь, какова их демократия-то со свободой, а?!
– Ужас какой! И этого вам худруком могут поставить? – тихо произнесла женщина, не в состоянии ещё опомниться.
– Могут! – с жаром вытолкнул из себя неприятное для него слово Бѐльский.
Ирина села на табурет, сгорбилась. Зря, подумалось ему, выплеснул он всё на жену. Не мог сдержаться. Но так распирало, так хотелось криком кричать, горлопанить, бесноваться. Хотелось выбежать на улицу, хватать за рукав каждого прохожего, трясти за плечи и орать, захлебываясь: «Послушайте, в Одессе, в русском городе Одессе, русском, – сожгли людей! Ни за что! Расправились! Зверски! «Демократически»!».
На следующий день Бѐльский должен был идти на собрание и голосование за нового «вожака», ответственного за художественную концепцию театра, за его репертуар. Предстоял выбор человека, несущего в коллектив смыслы для воплощения на сцене, определяющего сам дух театрального организма.
– Ира, сегодня – в театр… я не выдержу, могу убить его, – тяжелым взглядом обдал жену Бельский, – так что…
– А ты не ходи, Юра, – понизив голос, попросила жена, и чуть улыбнувшись, припала к его плечу в попытке смягчить его настрой, – ты уж слишком непримирим.
– Милая, сегодня у нас выборы худрука… И если я не наору̀ на нашего главрежа-труса, он попадет под влияние того, кто орет громче, и вся ситуация – швах!
Бельский сел в электричку до Москвы. Как актёр, он любил всматриваться в людей, в лица, по-своему создавая для себя копилку типажей и людских проявлений. Вглядывался в пожилых дачников в панамах, с тележками, рюкзаками за спиной, морщинистых, грубоватых, но таких простодушных, с обветренными руками, привыкшими к тяжелому труду. Молодежь же вызывала много вопросов и противоречивых чувств. Пожалуй, очень уж бездумны – всё бы им только развлекуха. Да и выглядят несколько инфантильно, незрело. Он даже замечал у парней некоторые черты феминности. У многих черезчур узкие плечи, хотя пора бы и возмужать, в их-то возрасте. Может, физически не привыкли нагружать себя? У некоторых – мелкие, безвольные, похожие на девичьи, подбородки. А это-то откуда? Так ведь не только это. Зачастую он наблюдал у них почти девчачье самолюбование своей внешностью: длинные волосики подзавиты, в отражение стекол на себя поглядывают, чёлочки поправляют, чтоб лежали, как надо. А подчас видна неприятная развязность, какая-то кокетничащая вертлявость: все ли заметили, как я хорош собой. А вроде бы это должно была пройти в процессе мужания и превращения в юношу, ну а потом в молодого мужчину. Но, увы, всё чаще стали попадаться «вечные мальчики» – и в тридцать пять, и много старше. Ну просто сама детская несобранность. С ними что, повсюду нянькались, что ли? И какой с них спрос, если так, – они ж лишены ответственности не только за других, но и за самих себя. А из всех утюгов – гуляй, пока молодой. Молодость же – понятие растяжимое, вон уж поговаривают, в сорок четыре – это ещё «молодой человек». А в девушках вдруг неизвестно откуда появились маскулинные тенденции, самоистребляющая их тяга к откровенно вольным выходкам, грубым повадкам. Как будто гендеры поменялись местами: юноши феминизировались, а девчачья часть приобретает некоторую грубоватость. Семья, брак – тут у молодёжи вообще полный капут. В глубине души, конечно, где-то в них мечется тоскующая мечта. Но о чем? Вряд ли они и сформулируют. И даже эта расплывчатая, неотчетливая мечта – какая-то робкая, носа не показывает… Всё это удручало, но он понимал – современная жизнь, с её восхищённым заглядыванием на западный образ жизни, сильно переформатирует людей. И не только людей – изменяет всё: отношения, моду, улицы и города.
Бѐльский сначала отправился не на репетицию, а в район старого Арбата – пройтись по его невероятным извилистым переулкам, проходным дворам, петляющим улочками. Его влекла спрятанная там под новыми одеждами прошлая самобытная, совершенно неповторимая жизнь, история, память о живших там людях, великих и невеликих. И грели воспоминания своего собственного детства, юности и молодости, проведённые там, тот образ «арбатства» послевоенной Москвы, атмосферы той эпохи. Прогуливаясь, он перенёсся в свои былые впечатления, задышал свободнее, как будто бы вновь втянул воздух летней разогретой земли. Почувствовал, как долетает до него тот старый, из прошлого, запах из открытых окон потускневших, несвежих бараков, из старинных особнячков, кривеньких, осыпающихся, превратившихся в итоге бесчисленной череды уплотнений-заселений-переселений в разуха́бистое коммунальное братство. Народищу-то в дворо̀вых арбатских недрах было в те времена изрядно. Вспомнил доверительность и умиротворённость тех незамысловатых добросердечных двориков, заполненных пацанво́й. И как бегали к приятелям беспрепятственно – без всяких кодовых замков. Дверь настежь и – эй, привет, выходи гулять! И жизнь в тех дворах никогда не замирала, как сегодня, уходящая в виртуал, в социальные сети. Молодёжь тогда неумело, но от души пробовала петь серенады под ная̀ривание на своих гитарках. Гоняли в футбол. Мелюзга возилась в песочнице без присмотра взрослых. Дядьки с азартными вскриками стучали в домино. Он снова слышал прежние голоса улицы, когда ещё не раздавались звуки машин, потому что тогда не было такого их засилья. Звонко разносились возгласы его дружбано́в, играющих на булыжной мостовой, и соседские пересуды, споры, отдельные обрывки разговоров прохожих. Наваждение не рассеивалось.
День начинался удивительный – не жаркий, а комфортно теплый, щедрый, исполненный предвкушения, как в детстве перед пробой сочного плода, когда слюнки текут. Бельский всё напоминал себе, что ему уже семьдесят четыре, но сколько бы он не пытался настроить себя на ровный лад зрелых лет, его внутренний мандраж не проходил, а нарастал. Он тихо, почти беззвучно что-то шептал себе под нос в радостном возбуждении.
Свернул в переулок, к старому помпезному дому с массивной аркой, построенному в конце 1930-х. Под аркой все дышало прохладой и легкой грустью. Он увидел, как во дворе суетятся грузчики-таджики, смуглые ребята, неунывающие, улыбчивые, и, несмотря на молодость, золотозубые. Ими руководил бледный тощий русский мужичок с пшеничными усиками.
Тут Юрий Бельский остановился. Его как током ударило – старинный рояль прижался к серой стене, по которой двигались дрожащие чёрные тени качающейся листвы. Он мгновенно узнал этот рояль красного дерева, теперь обтрепанный, на трёх обломанных ножках, но всё ещё исполненный достоинства и одухотворённости, как и раньше. Он стоял в ее гостиной…
Она не играла сама. Ей аккомпанировали, пока она пела сильным грудным голосом. В ее исполнении великолепны были и шутливые куплеты, и народные песни, но особенно ей удавались романсы и казачьи напевы. Она – экзотическая горячая дочь казацкой Кубани – возникла перед ним, как в реальности. Ее смуглая рука на рояле, ее черные косы, уложенные гребнем. Статная фигура, выправка императрицы, а взгляд – страстный, пронизанный озаряющим огнём, и лишён суетности, мелочности…
Он узнал, наконец, и этот дом. Всплыло и недавнее страшное известие. И то, что дети ее приехали на похороны, и утренним самолетом сразу улетели обратно в Женеву. А он тогда не смог пойти попрощаться с ней. Не осмелился. В том числе и из-за Ирины, которую тоже любил. Но совсем по-другому, не так, как свою каза́чку, судьбоносную для него, «чародейку крупного плана», как кинокритики выражались о ней и её гипнотическом даре, благодаря невероятной глубине её взгляда. Он-то знал – этот взгляд был у неё всегда. И это не талант актёрской игры, а её собственная человеческая суть. Именно этот взгляд изменил всё его существование, тогда молодого человека, случайно пришедшего в этот дом со своим приятелем. Он вызвал в нем внезапную вспышку, как только увидел её глаза и услышал пение. Он сразу, и навсегда, открылся ей всем сердцем. Чувство долго пылало в нём, и согревало, давало энергию. Со временем поутихло. Но не забывалось – никогда. Одна только мысль о ней вдохновляла неизменно, и часто именно с ней сверял он свои поступки, свой успех или провал, учился отключаться от гордыни, от претензий к миру. Её душевный образ всегда жил в нём…
Вот он и пришел сюда, ноги сами принесли. Но пришёл поздно. Бельский с трудом втолкнул себя в подъезд, а там по широкой парадной лестнице спускались чужие люди со стульями, шкафами, этажерками. Из её квартиры всё распродали, и выносили последнее.
Поднявшись на четвёртый этаж, подошел поближе к распахнутой двери. Ему никто не мешал. Пустые комнаты. Только на стене косо висящее большое фото, хранившее её лучшие годы. И на подоконнике старенький сиротливый малогабаритный граммофон с позеленевшей трубкой, видимо, не нашедший спроса, ненужный… Он метнулся было за ним – хотя бы эту вещь от неё на память. Но взгляд неожиданно наткнулся на глаза на фотопортрете. Она – в белом простом ситцевом платье, юная, восемнадцатилетняя, с черными косами и бровями вразлет, – вдруг обожгла его своим очами. Не в силах справиться с потрясением утраты, особенно остро пронзившей его в этот момент встречи с её таким живым взором в этой обескровленной, омертвелой квартире, – Бельский выбежал оттуда. Понёсся вниз по лестнице, выскочил из подъезда, бросился со двора. Как будто невидимая рука каменной хваткой сжала, сдавила всё внутри, он с трудом хрипло втягивал воздух. Едва перевёл дыхание, остановившись. Невозможно было пережить столкновение живого ощущения любимой, полной жизни, – и осознания ее потери, необратимости этого. Никак не мог оправиться, перевести дух.
Парадно-реконструированные арбатские здания, притворяющиеся историческими, и бутафорский лоск пошловато наряженных улиц вызывали у него ассоциации с «зазыва̀льными» торговыми лавками и выставленными напоказ телами продажных женщин на панели в яркой губной помаде и слоями грима – для пущего звона валюты иностранных туристов, падких до разрекламированной местной экзотики, но не способных почуять обезду̀шенности показного реквизита.
Он почувствовал, как неповторимый самобытный мир «арбатства» покинул это суетное теперь место, и оно окончательно потеряло своё духовное измерение. Шёл, не чувствуя себя, не видя ни старых, ни новых прелестей, ни старинных, ни современных домов, ни низкорослых особнячков, ни бесконечноэтажных давящих высоток, ни вывесок магазинов, сувенирных палаток, ни ревущих по проспекту иномарок. Городской блеск столицы вдруг перестал для него существовать. Всё стало пустым, стерильным, безжизненным – просто залакированные театральные декорации. Он не в силах был снова погрузиться в подлинную сущность мира и своего внутреннего чувствование.
Город, как обиженное существо, в ответ тоже отвернулся от него, спрятал свою и без того поруганную душу, окостенел, омертвел. И тем самым вконец истребил в нем, бредущем в своём искажении, все ошущения и воспоминания. Пога́сли в нём живые отзвуки прошедшей юности, совсем недавно навеваемые остатками старых арбатских улиц, сохранившимися арками, лепниной. Он ничего не узнавал, и не признавал за своё. Ему мерещилось лишь едва различимое больное бормотание той старой эпохи, как бессильные вздохи обречённой, мучающейся болями ревматической старухи. С жалостью глядел он на эту чуждую ему урбанистичную выхолощенную среду, бесстрастную машину извлечения наживы и поглощения животворной энергии из всего и вся.
Сжав зубы, добрел-таки он до бывшего дворянского особняка. Здесь жил его театр. Опомнился. Бельский посмотрел на стены родного театра – он любил эти стены, колыбель многих его начинаний. И любил эти розовые яблони вокруг, их тёмно-бардовые покачивающиеся кроны. Сколько же мощи таит в себе всё живое, любимое! Спасительное! Но, к великому несчастью, оно беззащитно перед исчезновением. И тут с особой силой всколыхнулась в нем вся боль утраты и вся ненависть к разрушению, омертвению и забвению, и даже к этому аферисту Широ̀кову, к этому нравственному деграда̀нту, способному разрушить его театр, дай ему только волю захватить его. Ведь захватил же он театральный мир столицы, а в прошлом году даже стал вдруг «самым модным режиссером сезона».
Откуда появилась эта шпана, думалось Бельскому. Как так случилось, что они повылазили, как поганки за баней, как черви после дождя, – все эти «современные» драматурги-черну́шники, новомодные критики и «нетрадиционные» режиссеры-псевдоноваторы? Ими ведь еще несколько лет назад не воняло. Театр был не так богат, в основном благороден, уважаем и любим. Не было такого повального воровства, пошлости, растления и загнивания театра. Были, конечно, о́соби – да что там о́соби! целые кланы! – что глодали жирные куски экономики, нефть, газ, промышленность и прочее, прочее, прочее… Сжирали, сча́вкивали, поглощали все самое сладкое… А теперь цветёт ещё и мафия от культуры, добралась до театра и она. Умерщвляет его, морально разлагает зрителя. Поняли эти «деятели», культура тоже недурной кусок. Вцепились в него зубами. Намертво. И ведь находятся власть облечённые государственные мужѝ, всякие меценаты, инвесторы, спонсоры – готовые оплачивать, продвигать, помогать разрушению, уничтожению, приближению смерти, обнулению жизни, обессмысливанию её.
Кто он такой, по сути, этот Широ̀ков? Никто. Всего лишь один из стаи творчески бесплодной, но прожорливой саранчи лѝбер-боге́мки. Она и поддерживает таких, как Широ̀ков, создавая различные «творческие союзы», «советы», «гильдии», «фонды». Это, в сущности, самоподдерживаемый паразитирующий рой. Но сами особи его далеко не все пригодны к истинному творчеству – скорее, лишь к внешне фальшивой пустой эстетизации, переконструированию чужих художественных образов. Это их способ потребл…дства ускользающего от них творчества – при помощи оприхо̀дования продуктов творчества, созданных не ими. Под видом «интерТРЕПации», лжетолкований произведений. Эх, если б этот Широков и ему подобные пожирали бы только госбюджет, содержимое кошельков зрителей и произведения искусства, созданные другими талантливыми авторами! Но они же сжирают и подлинные смыслы, живые истины, человеческие души, всё животворное вокруг! Отравляют, искажают, высушивают своим зловонным дыханием здоровые чувства и ощущения животворящего мира, подсовывая эрзацы и примитивные имитации… Бельского всё больше и больше распаляли проносящиеся мысли.
Ведь этот Широ̀ков всё время издевался над классикой. Брал классическую пьесу – Островского, Гоголя, Чехова – и кромсал ее, орудовал, почти как мясник, вытаскивающий внутренности. Но мясники при этом просто сосредоточенно работают – рутина же, будни. А этот же моральный урод превращал потрошение в карнавал. И приглашал подобную себе же пижо́нскую «светскую публику» поразвлечься на своём людоедском шоу. В этих шоу чеховские интеллигенты по воле режиссёра убивались отбойным молотком. Герои Островского медленно удушались. Катерине из «Грозы» попросту выкалывали глаза, и она не могла видеть свет, ей обрубали крылья, и летать, как птица, она уже не имела возможности…
«Вот таким, как этот Широ̀ков, не нужны ни классическое искусство, ни подлинная национальная история, ни исторические культурные памятники. Они и город наш искалечили, распотрошили», – всё более горячился Бѐльский, толкая тяжелую входную дверь в родной театр. «Да Широ̀ков за здоро̀во живешь распотрошит и мой театр. Надо остановить его!».
На служебной проходной его встретила вахтёрша Римма, небольшого росточка, полноватая пожилая пенсионерка, свой человек, ровесница Бельского, прослужившая в театре много лет. Эта простая женщина, хоть и не сильно образованная, но из тех, кто интересуется культурой, искусством и активно посещает такого рода мероприятия, ну а премьеры своего театра уж тем более, для неё это вообще святое. Да ещё нередко вступает в дискуссии с режиссером, высказывая своё мнение о спектаклях. Увидев Бельского, она запросто так с маху рубнула:
– Ну и видо-о-ок у вас, Юр Ваныч!
Бельский волком угрюмо глянул на Римму, чем, впрочем, ее не смутил.
– Что, нехорош? – пробухтел он отрывисто.
– Да чисто побитый Наполеон, – сострила Римма. – Стойте, стойте! Вот, хлебните-ка! – Она вытащила термос и налила в кружку кофе с невероятно бодрящим ароматом. – Очень пикантный. С перцем. Он придаст вам боевой дух. Широков не пройдет! Вот увидите.
Бельский глотнул – ничего себе! Ещё раз – и неожиданно полегчало.
– Хорош ваш кофе, Риммочка Ивановна… Вы, я знаю, еще и гадалка – весь наш молодняк бегает к вам за гаданиями. Может, и мне победу наворожите?
Римма невозмутимо достала карты:
– Вы пока что идите, а я итог по мобильнику вам сообщу, сразу же. Но верю – победа за вами!
– Побеждает лишь тот, кто сражается, – Бельский упрямо набы́чил голову и, вздёрнув плечи, устремился вперёд, полный решимости.
Поднялся по старой роскошной, беломраморной лестнице, по темно-красной дорожке. Цвет её вызвал ассоциацию с запекшейся кровью, заставил его вспомнить о боярах и за̀говорах, ещё более настроив на бойцовский лад. Крупные ноздри его римско-патрицианского шно́беля вздрагивали, как у нра́вного племенного жеребца перед боем, готового, издав ржание, взвиться на дыбы и нестись без у́держу на неприятеля.
Из зала с белыми колоннами нестройно, шквальными волнами, оживляясь и затихая, гудела многоликая разноголосица. Бельский со зверским выражением шагнул туда. Тяжелый воздух присутствующей там паники чуть не сбил с ног. Кажется, сюда в переполохе сбежался весь театр. Собрались все-все – не только творческая труппа, руководящий, художественно-технический персонал, но и вспомогательный состав, вплоть до уборщиц и водителей.
Все сразу же обернулись к нему, к теперешнему уважаемому худруку и одному из самых талантливых актеров театра. У многих было выражение отчаявшихся потерявшихся щенят. А вдруг он уйдёт после кадровых изменений? Именно на Бельского ходил зритель, его имя обеспечивало аншлаги. Все обрадовались его приходу, надеясь, что он найдет выход. Но сомнение на лицах не пропадало. Уж слишком демонстративной наглой самоуверенностью резала глаз лоснящаяся ухмылка на щеголеватой сытой физиономии предполагаемого претендента Широ̀кова – скандально нашумевшего режиссёра, экспериментального («ЭКСКРЕМЕНТтального», иронизировал Бельский) направления.
Бельский заметил, что вокруг Широ̀кова скучковались тряпка-главреж, этот чиновничий подлиза, всегда готовый аллилуйствовать в их честь; и ещё какие-то неведомые, вероятно влиятельные господа, постные начальственно-властные лица которых не будили больших иллюзий. Все в чёрных костюмах – как налетевшие во̀роны, почуявшие раздел добычи.
– Просим вас, Юрий Иванович, – равнодушно призвал его главреж, человек лет пятидесяти, с наружностью гоголевского угодливого столоначальника, готового воплощать любые указания свыше с подобострастной дотошностью, побуквенно, до запятой.