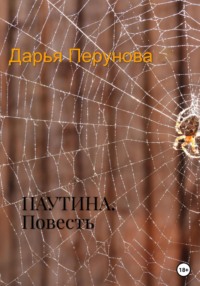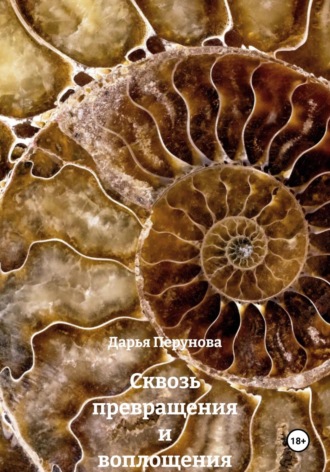
Полная версия
Сквозь превращения и воплощения

Дарья Перунова
Сквозь превращения и воплощения
Часть первая
До прихода Тэтчер «столица мира» вовсе не была землёй обетованной. После Второй мировой войны Британская империя ухнула так, что её английский позвоночник едва выдержал, и Лондон, осев поближе к земле, тоже превратился в серый индустриальный город. Со всеми его противоречиями. С одной стороны, свингующая золотая молодёжь, вроде богатых хиппарей, модников, рокеров, битников с их бесконечными ту́сами. С другой – бедный люд, местные молодые бузотёры запущенных рабочих окраин, какие-то скинхеды, панки и прочие. Лондон наводнили всяческие невиданные фрики, как пролетарского, так и состоятельного племени. Все они рьяно демонстрировали вызов и протест.
Странная публика из городских захолустий, неопрятная, нечесаная, с хаерами и ирокезами, или бритоголовая, зачастую укурёная вусмерть, облюбовывала ступени, к примеру, бывшего работного дома, так и сидела, вяло покачиваясь, словно ленивая карамора. Либо они, каждый в своих группировках, шлялись без цели, топтались в переулках кучками или слегка пританцовывали на улицах какого-нибудь Брикстона, отрешённо посасывая кто косячок, кто эль, а кто чего и покрепче. Либо ввязывались в разборки между собой.
На все эти безобразия недобро косились честные работяги-кокни, с продублённой кожей, коренастые, кряжистые ребята, утомлённо бредущие каждый вечер с фабрик.
До Тэтчер Лондон не имел особого блеска.
Но позже, и уж тем более в 2014 году, лондонские огни уже успели сманить к себе толпы деньжѝстых новых кочевников со всего света.
Этим новоявленным пришельцам-толстосумам коренные лондонцы глухих районов, что еще помнили былые пабы с обычными недорогими пирогами и элем, одежду, которую донашивали всей семьей, могли бы в красках передать картины прошлого города и своей страны. Но какое дело богатым космополитам до этого – они приехали за здешней красивой буржуазной жизнью, и их не интересовало ни прошлое, ни история, ни будни простого люда. По правде говоря, сами местные не очень-то и рвались вести разговоры с заезжей чванливой братией.
Им приходилось прятать свой страх перед будущим и ожесточенной каждодневной экономией под маской горделивого презрения. Вроде и усмехались вслед очередному иммигранту-нуворишу на «Бентли», но ухмылка выходила кривая, с горьким привкусом. А вскорости большинство из них, задавленные ростом цен, стали постепенно переселяться в пригороды, их сметало ветром истории, как мусор со старых тротуаров.
Город 2014-го полностью переродился и переустроился под новоприбывших состоятельных горожан. Одни пришлые богачи, окроплённые несметным золотым дождём, жадно скупали замки, виллы, яхты, футбольные клубы. Другие, довольно обеспеченные, но не настолько, желали бы им подражать, но могли – только в мечтах. В реальности ограничивались шопингом в самом роскошном модном супермегамаркете «Хэрродс». Обычным же местным жителям «Хэрродс» был просто не по карману. Им только и оставалось, что пересказывать друг другу адреса дешёвых барахолок и возможные уловки сбережения своих кровных.
Каждый день арабы, индийцы, китайцы, русские, нажившиеся на различных махинациях, лихорадочно заполняли дорогие рестораны, премиальные торговые центры. Охапками сгребали вещи, даже не меряя, как безумные, не веря в свое внезапное богатство. Взахлёб отстегивали наличные и безналичные направо-налево.
Приезжих не занимала история страны, в которой осе́ли. Зачем? Да какая может быть история! Вот настоящее, хватай его целыми пригоршнями, хватай пачками, кучами, кипами, утрамбовывай, упаковывай. Кушай, пей, кути́, потребляй. Захватывай – что можешь. Это их настоящее так смачно и сочно лилось в рот – что́ им историческая пыль веков!
К тому же, в 2014-м время летело так стремительно, что какой-нибудь мохнатый 1979 казался им уже седой древностью. А ведь именно с 1979-го, с приходом Тэтчер, им открылась дорога в этот лондонский рай.
И именно с Тэтчер, началось крушение маленького мирка простого лондонца, мирка бедного, но привычного. Этой леди решительности было не занимать. Она расправилась с работягами с жестокостью и презрением лавочницы, каковой была по происхождению и по психологии. Действовала, исходя из опасений среднего и мелкого буржуа: чем больше рабочих – тем больше их прав и больше возможности для социализма с его народными профсоюзами; и это пугало всех буржуа. Значит, рабочих, профсоюзы, и вообще тягу к социализму – раскатать в прах, полностью и навсегда.
По воле Тэтчер крупнейшие фабрики, заводы ушли в частные руки, как потом стали говорить, их приватизировали. Часть перебросили в страны третьего мира. Рабочих – на вольные хлеба. Затем и шахты взлетели на воздух, взорванные, чтоб и не восстановить.
Отчаяние вздыбило огромную лаву шахтёров металлургов, угольщиков, решившихся показать зубы. Они прыгнули со всей непреклонной решимостью загнанных в угол – в забастовку. И началось. В стычках со стражами закона огребали по морде, едва успевали уворачиваться из-под копыт коней констеблей на массовых сборищах, без кровавых увечий не обходилось. Тюрьмы буквально трещали от бунтарей. Это казалось настоящей войной, да и было войной, безжалостной и опустошительной. Но Тэтчер выиграла. Не сделав ни одной уступки.
Правда, на телеэкранах для нуворишей из 2014 года, всё происходящее тогда в Англии выглядело как нечто комичное. Их забавляли сцены оттеснения забастовщиков плотными полицейскими рядами; драки простонародья с полисменами-бобби в шлемах, пускавших в ход свои дубинки; неожиданное и стремительное появление конных блюстителей порядка; смешная растерянность среди протестующих. Их бегство.
Бывшие рабочие, весь простой люд, глядя на те хроникальные кадры, вновь ощущали то зловещее чувство, вызывающее из памяти работу прессовального катка, давильной машины, вытеснившей их в ещё бо̀льшую безработицу, нищету и бездомность.
Конечно, у английской лавочницы, занявшей позицию «железной леди», не получилось в то время открытой давильни-душегубки, вроде гайдаровской, она лишь пустила пробный шар. Но этот сокрушительный свинцовый шар покатился по миру, и находившиеся внутри зародыши монстров, созревая, начинали шевелиться, выползать наружу.
В ответ на беспощадную борьбу Запада против рабочих и против возможного социализма – уже слабеющий социалистический мир, попытался помочь забастовщикам. И даже что-то вяло промямлил о своей озабоченности и об оскале империализма, да так и запутался в словах, испугавшись решений, которые в произнесённом могли обнаружиться. Стоявшие у социалистического штурвала крупные верховоды напоминали чеховского человека в футляре, страшившегося, как бы чего не вышло. Они так и не извергли из себя мысль, которую смогли бы убедительно предъявить лавочнице западного мира. Они были, скорее, склонны к добровольной смене политических акцентов, кое-каких принципов со своей стороны, чем к противопоставлению. И даже к постепенному частичному вписыванию, вхождению в западный мир. Их вдохновляло это вхождѐнчество. Разумеется, со всеми своими домочадцами и прикормленными возле.
Этих переродившихся руководителей социалистического мира, уклонившихся от изначально заявленных целей, – даже свой народ и соцпартнёры уже не слушали, как перестают слушать тех, кто потерял доверие и уважение.
Тэтчер в экономическом запале реформ срыла с британской земли многие производства и шахты, растерзала казённую промышленность под корень. И старый Лондон, консервативный, фабрично-шахтёрский, потёртый, как кожаная косуха, – исчез, пережив однако послереформенное перелицевание своего вида.
Он принял новый облик – облик мегаполиса частного бизнеса и банковско-финансового капитала.
Изменение обличья города, захваченного агрессивной энергией разрастающегося капитала, в некоторой мере сродни жутковатой истории одного фантастического фильма: в заброшенном ангаре некоего энтузиаста-исследователя лабораторная серая мышка, в результате стечения обстоятельств, превратилась вдруг в панцирного саблезубого звероящера; и тот первым делом закусил владельцем помещения, захватил его место обитания, а затем и место то претерпело колоссальные изменения, подстроившись под образ жизни новоявленного прожорливого хозяина.
Не так ли происходило не только с Лондоном, но и со многими другими столицами на свете?! Подобная фантасмагория превращения зверька в нѐчто, с последующим его аппетитным жо̀ром, поглощением всего вокруг, – изменила весь мир и людей. Это возникшее нечто постепенно вылезало, становясь пожирающим монстром, стремящимся любой ценой вырваться на ещё бо̀льший простор, и распространяться дальше и дальше…
На месте былого Лондона и его старой пыльной застройки образовался, как и в других точках мира, обновленный, щедро омытый деньгами, сверкающий сто́льный град – город гигантского финансового насоса, работающего без передышки. Чудовищная машина эта шуровала неумолимо и безжалостно, и в оба направления – поглощения и опорожнения. Она неустанно выплевывала обедневших бывших горожан в предместья.
Новые богачи, точно крысы в быстро растущей популяции, пробирались везде, присматривались, принюхивались, ненасытные и всеядные, захватывали освободившиеся территории и начинали жить заново, забыв о своем прошлом мародерстве в тех краях, откуда приехали.
Они легко освоились в возрождённой столице Туманного Альбиона, выбрав для обитания статусные старинные кварталы. Названия этих кварталов – Белгравия, Мэйфер, Шордич, Найтсбридж, Кенсингтон, Хампстед – известны далеко за пределами Англии. Их определённая публика во всём мире произносит, как музыку, они звучат магической абракадаброй, заклинанием на богатство. Особенно неотразимо действовали они на нуворишей из колоний Индии, Эмиратов, Сингапура, Саудовской Аравии и постсоветской России. Выходцы из этих стран скупали там целые улицы.
«Понаехавшие» бесили местных жителей, вздувая цены и оттесняя коренных лондонцев на задворки. Пострадали не только бедные местные. Но и та̀мошние мелкие буржуа. Но что могли поделать эти старожилы, такие же бакалейщики и булочники, вроде Тэтчер. Тогда, в начале 1980-х, они сами втайне радовались железной воле её реформ, перетряхнувших весь привычный уклад, не подозревая, чем это аукнется им. Сколько лет они мечтали приструнить опасную возню рабочего класса и угрозу для своих маленьких гешѐфтов. И вот – их мечта сбылась. Однако, как ни странно, вместе с обузданием пролетариев и появлением свободных рыночных порядков – рухнула и их жизнь. Исчез правильный, по их мнению, викторианский почтенный классический капитализм старой добропорядочной Англии. На его место взошло тёмное чудовище лондонского Сити, прожорливое чудовище банковско-финансовых операций, спекуляций и махинаций. И когда начался его безудержный жор, на хозяйчиках средней руки, прежде всего, сомкнулись его челюсти. Это поначалу. Но лондонское чудище, сглотнув старое благонаследие, стало пожирать и новые более жирные активы, перемалывая добычу, небрежно выблёвывая останки.
Тэтчер умерла в 2013 году, и злобная похабная радость захлестнула небогатых англичан, более всего уязвленных «жестоким капитализмом» тэтчеризма. Беднота ликовала. Высыпав на улицы, упивалась вдрызг от избытка чувства удовлетворения. Вела себя так же злорадно, как и лондонское простонародье времен Генриха Тюдора, исто̀шно приветствовавшее смерть казнённых на эшафотах.
Правда, кончина «железной леди» и последующее мелочное торжество рабо́тного и люмпенизированного люда ничего не изменили в их жизни. Да и их крики и фейерверки на обочинах – панцирь сытого чудища выдержал без ущерба для себя и продолжал набирать силу.
И к лету 2014 тэтчеризм уже вовсю расползся по миру, переманил на свою сторону даже бедноту, хитро́ соблазнив кредитами, не акцентировав их каба́льные условия.
И в центре этого слабоумного, нищего умом, а подчас и кошельком, нового мира, не замечающего неявного ограбления, – сиял новый Лондон-град имени Тэтчер. Он высокомерно игнорировал отдалённые признаки подкрадывающегося будущего кризиса и упадка на фоне разорения производственных предприятий. Здесь по-прежнему царили кредитная вакханалия и беспредел купли-продажи-перепродажи-переперепродажи финансовых средств. А вместе с этим щупальцы монстра заползали в души людей и изменяли их.
Но было бы все же несправедливым и крайним упрощением считать Лондон только гигантским финансовым монстром, сча́вкивающим всё вокруг.
От старых времен пока еще оставалось кое-что из культуры. И в первую очередь, английский театр. Не знавший периода классицизма, той ходульности и скованности от канонов, штампов, когда каждый жест актёра уже рассчитан, выверен и словно окаменел в веках, от чего так долго освобождались на своих подмостках французы и подражавшие им русские.
Держался-таки пока британский театр, преимущественно внекоммерческий. Он регулярно поставлял со своих сценических площадок сотни настоящих талантов дельцам от искусства – голливудским ремесленникам. А те уж сумели внушить миру, что все должны обзавидоваться сиянью их успехов. Ну и творческий народ неизменно пёр туда отовсюду со всего мира.
***
Так произошло и со знаменитым актером То̀масом Мэ̀ррилом, когда-то никому не известным молодым человеком, в тридцать лет отправившимся испытать судьбу в голливудской киноиндустрии.
Голливуд, конечно, заметил в британском актере и мастерство, и ум, и тонкость, и даже некую сложность, трудно поддающуюся словесному определению, но все-таки использовал его дар примитивно, в рамках своего обычного жанрового схематизма, больше делая ставку на внешнюю фактурность.
Поскольку отстранённый английский аристократизм его не совсем вписывался в продюсерско-американское понимание амплуа «хорошего парня», ему частенько предлагали роли злодеев с налётом истерической нотки. Такие типажи хорошо удавались Мэ̀ррилу. Злодейские персонажи в его исполнении, облачённые его плотью и артистическим талантом, получались весьма выразительными и убедительными. И в силу ма́стерской психологической проработки образов, и в силу особенностей собственного облика, имеющего оттенок некоторой внутренней напряжённости.
Его высокое прямое тело производило впечатление тетивы, готовой выпустить стрелу. Возле тонкогубого рта пряталась складочка как будто бы… да, недоверия. Сосредоточенный взгляд неулыбчивых глаз, временами поражающий неожиданной колкостью, всматривался в вас столь проницательно, что становилось неуютно. Хотя те, кто уже знал и понимал его вдумчивую натуру, воспринимали это спокойней, ибо в близких дружеских контактах То̀мас проявлялся как человек обострённой и несокрушимой интеллигентности, деликатности и душевной тонкости.
С тех пор его голливудской «выучки» минуло чуть больше двадцати лет. Он смог уже стяжать лавры мировой славы.
Но тогда в Голливуде – поначалу его привели в ужас безумный потогонный американский график, довлеющие мысли режиссеров об экономической целесообразности, тормозившие любые искания художественной выразительности, и потому снимавших эпизоды скорей-скорей, почти без дублей. Мэ̀ррила, как и многих других ловцов удачи, отвращала эта гонка – без репетиций, без поиска, без творчества, без импровизации.
Но он сдюжил в этом откровенном мире продажи и прибыли. Не без потерь, конечно, но и не без внутренних приобретений: удалось кое-что понять, глубоко заглянув в себя, и не всё ему там понравилось.
После творческих разочарований в Голливуде То̀мас решил не оставлять насовсем Великобританию. Стал жить по известной поговорке – ласковое телятко двух маток сосёт. В его случае даже трёх. Подпитывался он, так сказать, от трех источников. Один из них – Америка, она давала ему славу и презренный дьявольский желтый металл. Звонкая монета помогала, как ни закрывай на это глаза, сохранять комфорт и удовольствия жизни. Другой источник его жизни – Англия. Здесь его родина, родное гнездо, мать, и здесь его любимый театр, где он по-настоящему мог самовыразиться. А вот от третьего источника он наполнялся радостью общения с людьми своей профессии, открытым душевным соприкосновением с ними, наивным, простодушным, немного сентиментальным, но абсолютно искренним. Это была Россия.
(2014. Англия)
Сейчас в свои пятьдесят два он плодотворен, в отличной форме, никаких загулов и скандалов, свойственных его богемной среде. И, слава богу, в Лондоне всё ещё жив его любимый театр, где он даже бо́льшая звезда, чем в Америке. И в кино тоже нарасхват.
В первый день лета То̀мас Мэ̀ррил сидел у камина в уютном кожаном викторианского стиля кресле в своем фешенебельном лондонском особняке с садом в престижном районе Ке́нсингтон. Наблюдал через окно за набегающими друг на друга тучками. Те своей толкотнёй напоминали ему засидевшихся в буфете зрителей, спешащих уже после звонка занять места до открытия занавеса. Задумавшись, он не заметил, как выпустил из рук листки присланного сценария. По телу разливалось приятное чувство удовлетворения, что расслабляло. «Надо же» – пришла ему мысль – «лето, вроде бы должно быть, как у других, затишье. А мне везет. Принесли сразу три новых сценария, да ещё объявились пять приглашений на интервью…».
Обычно он считал бессмысленным оставаться летом в городе, но в этот раз оказалось иначе.
И сейчас из открытого окна он пытался уловить ностальгический запах полей любимого родного До́рсета, где прошло детство, возле мамы и отца, в старом доме со скрипучими полами, с беготней мышей, которых мама категорически отказывалась изгонять. «Мыши бегают, скребутся – это бегает и скребется сама наша судьба…», – говаривала задумчиво она, ни к кому конкретно не обращаясь.
Мать нередко выглядела чудаковатой. Она была то доброй, то мудрой, случалось, взбалмошной, часто растерянной, словно ребенок. Среди соседей слыла странноватой. И главная странность – увлечённость Россией. Хотя, конечно, знание русской литературы, по меркам светской образованности, считалась хорошим тоном. Но ведь у неё литературой дело не ограничивалось – миссис Мэ̀ррил любила всё, связанное с Россией. Можно сказать, была наполнена страстью к стране, в которой никогда не бывала. Это у многих вызывало вопросы.
Как-то раз пришедшая в дом гостья остановились в замешательстве, увидев на стене фотографии с кинокадрами из «Андрея Рублева» Тарковского. Да и копии с картин Шишкина, Мясоедова показались ей неуместными в английском доме простой домохозяйки: нет чтобы украсить домик пейзажами здешних окрестностей или собственноручно выращенными на грядках цветами, да мало чем ещё! Как же хорошо бы смотрелись на стенах рамочки с вышивками крестиком или гладью, выполненными в часы досуга! Она, разумеется, не сказала ни слова, но недоумение сквозило в её выражении, даже кончик носа слегка покраснел от неприязни.
А детство Тома совершенно естественно прошло под этими фотографиями и картинами. Он смотрел, как убегает дорога во ржи у художника Мясоедова. И как вот-вот колыхнутся сосны в преддверии грозы у Шишкина. Если зажмуриться, иногда ветка могла чуть закачаться, а Мясоедовский путник с сумой сделать первый шаг, скрывшись по пояс в густой траве. Кажется, что сам бредёшь, теряясь в зреющих хлебах. Явно слышишь, как шуршит ветер, и чувствуется пряность травы. И тут – охватывает тебя невероятная мощь, налетает дыхание ветра и предчувствие отдаленной грозы. Всё это то гудит, как огромный колокол, то тихонечко позванивает, то шепчет едва уловимо непонятные слова.
Мать при этом в его воображении всегда стоит рядом, чуть приобняв, словно поддерживая его на этом пути в необъятное пространство.
Отец, несмотря на всю любовь к своему первенцу, не мог разделить с ним тех переживаний, он был более земным человеком. Том попытался было доверить ему свои ощущения, утверждая, что картина говорит с ним, но тот решительно отверг такое.
Окружающим непонятная увлеченность миссис Мэ̀ррил казалась, в лучшем случае, чудачеством. И это в то время, когда на дворе 1960-е – холодная война в разгаре. И даже дети играют в ядерный взрыв, прячутся, как взаправду, от бомбежки под столом. Теледикторы, пожилые, достойные, наглухо запакованные в классные деловые костюмы, взволнованными голосами предостерегают о «красной угрозе». И голоса их дрожат, звучит и скорбь, и металл. Пуританские губы поджаты. И бровь ползёт вверх: как! у этих русских варваров ракеты! да что они себе позволяют! И говорящие головы пытаются притвориться, что здесь-то, в этом их буржуазном мире нет ничего подобного, словно бы очерчивали свой мирок, где якобы нет и не может быть подобного непорядка. Наоборот – опрятный благонравный мирок!
Но хаос там был. Был. Несмотря ни на какие игры в благонравность. Внутренние социальные войны лицемерно прикрывались лживыми словесами, брызганьем слюной и поддельно-благородной слезой в голосе.
Юный Том, обладая артистическими способностями, очень скоро научился воспроизводить эту фальшивую мимику, забавляя домашних. Потом уже и всерьёз, будучи уже в актёрской профессии, он не раз использовал этот опыт, чтоб показать лицемерие своих героев.
У матери Тома, несмотря на её глубокую увлечённость Россией, не было никакой связи с ней, за исключением одного случайного обстоятельства. Во Франции, где она пятнадцатилетней девчонкой училась живописи, ей повезло прослушала лекции старого русского профессора Алмазова, которому было за восемьдесят. Это был маститый русский философ, высланный из России на знаменитом «философском пароходе».
Том видел его несколько раз в гостях у них дома, когда ему самому было лет десять, а Алмазову уже девяносто два. Алмазов, ставший впоследствии другом семьи, словно бы заразил миссис Мэ̀ррил своей тоской по оставленной любимой им России. А мать передала это сыну.
То̀мас прочитал почти все книги русской классики, которые смог найти в английском переводе. Он даже смотрел советское кино, в отличие от русской литературы, бывшее у них явлением экзотическим. Большинство фильмов не имели проката в Англии. И в 1972-м, и в 2014-м – и в его десять лет, когда он практически был ещё несмышлёныш, и в пятьдесят два, как сейчас. Любая информация о России давалась с трудом. Томас собирал её по крупицам.
И вот совсем недавно, в 2014-м, нашел, наконец, еще один советский фильм – «Однополчане» 1963 года производства. Правда, с субтитрами. Там рассказывалось о двух приятелях во время Второй мировой войны – как они прошли сквозь боевые испытания и встретились в конце той бойни, как изменились после пережитого…
Сидя перед экраном, он полностью ушёл в происходящее, захватившее его. Но – звонок в дверь. То̀мас нахмурился. Да кто там ещё! Пришлось отвлечься. Ах да, он и забыл, что должна прийти Ру̀та, помощница по хозяйству, которая упорядочивала его холостяцкий быт.
Она приехала в Лондон по визе из Латвии. Ровная, легкая в общении, державшаяся незаметно, эта девушка имела все качества вышколенной прислуги, несмотря на то, что ей всего-то двадцать четыре года.
Лет десять назад Лондон наводнила вот такая же дешевая рабочая сила из Восточной Европы, из России, наподобие Ру̀ты. Эти люди были очень воспитаны, трудолюбивы, чистоплотны, нередко хорошо образованы, выглядели совсем как европейцы, так что поначалу хозяева смущались отдавать им распоряжения. Прислуживающие усердно работали и казались довольными. Да, первое время они не только казались, но и действительно чувствовали себя довольными. Они рвались в старую Европу, и их, наконец, пустили в нее. «Эти люди просто выскочили из своих черных дыр коммунизма, им повезло», – думали о них наниматели. Иногда, правда, возникало у них нечто вроде недоумения – а как в этих черных дырах могли появиться настолько образованные, интеллигентные люди, явно выше уровнем той работы, которая им предлагалась?
То̀мас, открыв дверь, с некоторым стыдом сообразил, что, в сущности, ни разу и не заговорил со своей помощницей. Та была безгласной, неслышной, как скользящая тень. И сейчас, впервые взглянув повнимательней на Ру̀ту, едва она отвернулась, – он пристально изучал ее. Затем собрался с духом и спросил:
– Ру̀та, вы ведь, кажется, из Латвии?
Девушка улыбнулась своей обычной улыбкой – она всегда была доброжелательна и спокойна.
– Да, я приехала оттуда. Вместе с мамой.
То̀мас слегка хлопнул себя по лбу, точно вспомнив что-то. И обрадовано выпалил:
– Так вы, должно быть, знаете такого актера – А̀ндриса Мѝенса?
Девушка в растерянности отрицательно мотнула головой.
– Нет, к сожалению, не слышала. Это, наверно, кто-нибудь давний, из ретро-фильмов. Но могу спросить у мамы…
– Ну да, ну да, – скороговоркой твердил То̀мас, сам удивляясь своей готовности к общению. Конечно, он мастер перевоплощений, однако, как правило, довольно неконтактен и сдержан. Он всегда пытался замкнуться в себе в круговороте людей, гостей, неизбежных в его профессии. Особенно напрягали его репортеры, среди которых за ним даже закрепилось прозвище «самая закрытая дверь британского театра». Но сейчас он коснулся своей излюбленной темы – советского кинематографа, поэтому горел желанием раздобыть побольше информации.