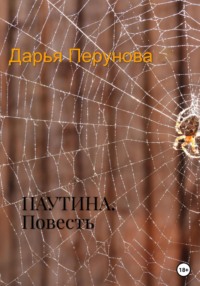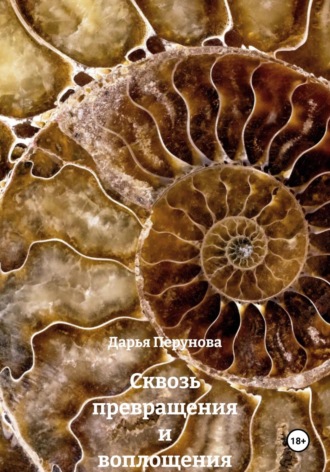
Полная версия
Сквозь превращения и воплощения
Бельский подчеркнуто аффектированным, чуть ли не маршевым шагом вышел перед перед своим коллективом соратников, что ждал его, надеялся на его слово:
– Друзья! Товарищи! Дамы и господа! Вроде бы в «Бесах» Достоевского губернаторша мечтала «ласкать молодежь, и тем самым, удерживать ее…». Так и наши чиновники от культуры, через поддерживаемых и назначаемых ими режиссеров, худруков и театральных нигилистов всяческого окра̀са, – пытаются «ласкать» театрально-зрительскую публику, чтобы держать в нужной им кондиции. Чем же? Невероятной постановочной свободой спектаклей, граничащих с пошлостью, вульгарностью, а то и серьёзной социальной и политической провокацией и скандалом! А зачем? По-видимому, они боятся быть недостаточно прогрессивными. Они хотят слыть ревнителями «свободы творчества», «свободы слова», «прав человека», как рекомендует нам Запад. Кажется, им импонируют свобода и демократия. Но это только кажется. Возьмём, для примера, наш театр. Если бы свобода и демократия по-настоящему интересовала руководителей Минкультуры – они бы сначала обсудили переназначение кандидатуры худрука с работниками театра, а не навязывали бы свою креатуру для голосования. Это первое.
Второе. Театр обязательно должен нести Свет, – хоть и звучит па̀фосно, но я скажу – нести неугасимый Свет подлинных ценностей жизни. Раньше театр считали кафедрой, храмом, где помогали зрителю задумываться, где взывали к совести, нравственности, человечности. А сегодня что? Это для наших чиновников пустяки? Это их уже не беспокоит? Что, свобода стала вдруг выше совести? Так, что ли? Ну а если не так, то зачем предлагать худруком человека, для которого совесть, человечность, нравственность – пустой звук? Вы ведь прекрасно знаете сомнительное творчество и публичные выступления господина Широ̀кова. А они говорят сами за себя, тут не прибавишь, не убавишь. И они никаким образом не соответствуют творческой концепции нашего театра.
И третье. Неужели нам, театральной общественности, творцам, действительно нужна вместо театра – лишь его видимость, то есть некая коммерчески раздутая форма при отсутствии сколько бы значимого содержания, по сути нулевого? Неужели театр – это всего лишь обслуживатель заурядных шоу, скандальных перфо̀мансов, КВН-овской псевдоноваторской пошлости, низкопробного балагана? Неужели театр надо превратить в какое-то мутное арт-пространство или незамысловатый аттракцион? Нам что, уже не нужно мастерство актёра-творца, глубина его мысли, проживание на сцене? А нужна только театральная растлевающая профанация? Глумление? И разве нам не нужен мыслящий зритель? Мыслящий народ? Нам нужен просто глазеющий зевака? Быдлозритель, ублажённый лицезрением гениталий и голых задниц? Клиентская, потребляющая масса? Чиновники задают себе эти вопросы? Хоть иногда?..
– Юрий Иванович! – встрял со своего места Широков голосом, напоминающим предупреждающий хищный клёкот, – вы бы посмотрели мой спектакль по «Годунову»… Я как раз показываю в неприглядном виде чиновников, и заступаюсь за народ, о котором вы здесь так славно печётесь.
Но он совсем не знал Бельского, не представлял, какой воитель пробуждался в старике, стоит только покривить душой. Многие в театре знали это его качество и не дерзали при нем проявить подобное: «крѝвды» он не терпел.
– А вы не перебивайте, молодой человек. И не надо такой ёрнической интонации, когда произносите слово «народ», – с холодным выражением жёсткой суровости начал он свою отповедь. – Видел я вашу бескрылую бульварную поделку, или, вернее, подделку с двумя «д». Именно подделку, ибо назвать такое спектаклем, язык не поворачивается. Всё там бьёт только по глазам, а в душу не заходит. Вы в очередной раз изгадили классику, исказили, обессмыслили авторское слово, убили душу пьесы. А теперь являетесь сюда, в наш – в академический театр… Не смейте тут не то что произносить свои притворные слова-фикции, но даже и дышать здесь – тут место намо́ленное! Вы здесь, как варвар, желающий пасти свиней в храме!
Широков издал тихий чавкающий звук – то ли поперхнулся от неожиданности, то ли у него такой булькающий смешок выскочил. И с ленивым шиком он сделал несколько хлопков.
– Браво, Юрий Иванович, браво! Но зачем столько пафоса? Зачем это совко̀вое… пардон, советское представление о театре как о духовной кафедре, храме?
Бельский выпрямился с видом полководца, верящего, что за спиной – Москва, впереди – враг, и дело его правое.
– Это – русское представление!
– Ну пусть – русское, – скорчил брезгливую гримасу Широков, – только оно безнадежно устарело. Театр – это игра. Из-за советской цензуры вы не смогли в свое время прочесть о смеховой культуре у Бахтина̀. И «Человека играющего» у Йохана Хёйзинги… Я хочу вернуть театру его подлинный смысл. А смысл в игре.
– Да, в игре… Только у Хёйзинги игра естественно-свободна, самодостаточна, она не зависит от денег, а ваша «игра» на сцене весьма и весьма коммерциализирована. Она вылупилась из материальной выгоды, очень важной для вас, ваша «игра» поедает настоящие смыслы. Это совсем не та бескорыстная игра Хёйзинги, на которого вы здесь ссылаетесь. А значит, и ссылка ваша – не более чем просто красивая фраза. Ею вы хотите тут сбить всех нас с ног… И ещё. Не надо смешивать актёрскую игру и «игру» по Хёйзингу. Общее у них – лишь некий игровой элемент… Но различия между ними – очень существенны. У них принципиально разные основы. Спонтанность, самодостаточность, не обусловленность игры Хёйзинги совсем не равна актерской игре. Актерская игра – это не бесцельное лицедейство, типа «игра ради игры», нет. Актёрская игра вся во власти содержания пьесы… смыслов в ней заложенных, которые актёр обязательно должен донести до зрителя… Это не некое свободное плавание, не дуракаваляние, как вы хотите это представить. На сцене мы всегда зая̀корены авторской идеей произведения. А если вам так хочется «перекроить» автора под своё вѝдение, доводя подчас до абсурдизма изначальный смысл, – то пишите своё произведение, а не паразитируйте на чужом… В общем, ваши ссылка на понятие «игры» при помощи авторитета Хёйзинги, и выведение из этого правомочности творить на сцене всё, что вам вздумается, – это всё лишь подтасовка, эквилибристика словами, манипуляция, обман, мошенничество… чтобы без зазрения совести нахлѐбничать на чужом творчестве, драматургов или сценаристов… да и чтобы пожинать лавры хайпа «вона, как он забабахал!»… Если хотите, называйте «игрой» процесс ваших искажений авторских идей в пьесах. Но на самом деле вам просто удобно прятаться за этим словом. Потому что продукт-то такой вашей «игры» – похищенный у автора… Почти, по Марксу: эксплуатация – похищение – присвоение чужого труда… В данном случае – труда автора пьесы.
– Всё это устарело…
– А устарела ли совесть, молодой человек? Вы это скажите… – вознегодовал Бельский. – Я признаю интерпретацию произведения – но не откровенное же бессовестное воровство под видом интерпретации… Ладно, я уже знаю ваше нутро̀, и ваш ответ… Вам свойственно передёргивание… Совесть ваша слепоглухонема. И она такова не только в отношении театра… Этот господин, – указывая на Широкова, загремел он в зал, – назвал сгоревших заживо в Одессе «малоценным человеческим материалом» – это о людях-то! И по его словам, вроде как подело̀м им, раз «они отказались от свободы»… Но, спрашивается, свободы какой? Свободы – от чего? От выбора? От собственного мнения? От совести? Нет! Оказывается, они отказались от так называемой западной «демократической свободы», именно от свободы самого Запада, его свободы хозяйничать на чужой земле… с целью превращения Украины в цепного пса против России. Вот за это их и сожгли – чтоб Запад имел эту свободу, и чтоб никто не смел ему мешать устраивать «оранжевый переворот» на Майдане! Получается, какова же суть этой насаждаемой западной «демократической свободы»? А это – свобода жечь, убивать несогласных! Это – свобода от совести! – И вновь повернувшись к Широкову, – вы и в нашем театре свободу от совести будете насаждать?! Ну так знайте, мы – против! Нам не нужен обезбо̀женный театр и ваша обезбо̀женная культура!
Актриса Валѝцкая, талантливейшая актриса, человек ещё советской закваски, важные смыслы которой сосредоточились в понятиях «человечность», «справедливость» и «совестливость», – обратилась к Широ̀кову напрямую:
– Это правда… насчёт сожжённых в Одессе?
Кто знает, как у неё всегда получалось так сказать – душу готов отдать, голос её проникал в сердце. А сейчас он прозвучал с таким холодом, что вся труппа встрепенулась, зашумела в её поддержку. И все больше с разных сторон слышалось: «Зачем нам такой худрук?».
На физиономии Широ̀кова – маска глухого безразличия, он нисколько не растерялся, ни от тирады Бѐльского, ни от брошенного обвинения, ни от пристального взгляда Валѝцкой, ни от возмущенных возгласов труппы. Для него всё это – словесная пыль.
– А вас волнуют мои политические взгляды? Вы, как при советской власти, проверяете меня на благонадежность? – ядовито заёрничал он.
Кто-то из актеров громогласно рыкнул с места:
– Тебе при советской власти даже под стол пешком ходить не получилось бы! Разве что – под себя, в пеленки!
Сказанное в этом мраморном зале хорошо срезонировало, и его услышали все. По рядам пронёсся гул. Труппа стала посмеиваться, уже откровенно бунтуя против Широ̀кова, которого ещё задолго до этого дня настойчиво пытался навязать им при каждом удобном случая обычно безразличная амеба–главреж. Удивительно, в этом навязывании, в нём пропадала его вялость – опору давало водительство влиятельных лиц вышестоящей организации.
– Речь не о политических взглядах, – холодно прищурившись, продолжила Валѝцкая, – речь об отношении к людям, не надо всё с ног на голову переворачивать. Людей жгли живьем, и за свою правду… а вы издеваетесь.
Она вышла перед собравшимися, прекрасная в своём светлом костюме, оттеняющем ее горящие глаза, высокая, гордая, к ее мнения всегда прислушивались. Вылитая мифологическая богиня Жѝва, олицетворяющая жизнь и светлую душу. Не дожидаясь, пока Широ̀ков что-либо ответит, – а он лишь игриво-нахально поглядывал на нее, пытаясь наглостью прикрыть себя, как щитом, – Валѝцкая отвернулась и добавила своим полнокровным чистым голосом, который так отличал ее от других:
– Я не буду голосовать за кандидатуру в худруки этого самозванца. Нам всем… всей труппе, его просто пытаются навязать… Мы вправе выбирать. И я даю ему отвод.
И покинула зал, высоко неся голову, полная достоинства, постукивая каблуками, каждым ударом впечатывая в пол самонадеянные планы Широкова.
Собравшиеся зашумели, поднялся невообразимый гвалт, люди повскакивали с мест, горланя и стараясь перекричать друг друга. Можно было различить отдельные возгласы: «Мы против», «Гадость!», «Нет, не нужны нам такие инновации…», «Театр погибнет!», «Голосуем за Бельского»…
Бельский, продолжая стоять на своем месте за кафедрой, как триумфатор, посматривал на сбившуюся в кучку темную воронью стаю – на кандидата на пост худрука, на сникшего главрежа, растерянно переминавшегося и в смятении поглядывающего на влиятельных господ из Минкультуры с хмурыми лицами.
И тут вдруг этот фатоватый Широ̀ков выдернул из рук главрежа какую-то бумагу и грозно, перекрывая нарастающий галдёж, прямо-таки каркнул, тряся перед собой этим листом:
– Господа, к счастью, не вы решаете! Вот приказ о моем назначении, он уже подписан министром культуры. Я – худрук этого театра. И у меня есть желание… да и признаюсь, возможность… всех вас уволить.
Чёрные из кучки – приосанились, физии их вновь приняли благообразное авторитетное выражение.
Бельский вцепился в трибуну, лицо налилось краской. Это был один из великих гоголевских финалов всеобщего онемения. Потом – обрушились крики, настоящие вопли ярости, но не на голову наглого Широ̀кова. А на горемычного главрежа: он знал о том, что уже всё предрешено, – и молчал. Зачем он устроил этот спектакль с якобы выборами? Как он посмел допустить пустопорожний фарс, не огласив факта уже принятого решения!
Но мало-помалу возмущенные работники театра, горячо переговариваясь и споря между собой, покинули зал, и в конце концов Широков и черно-сюртучная воро̀нья мафия осталась одна. Они вполголоса принялись обсуждать дальнейший план действий, дабы не потерять доминирующие позиции в борьбе за власть в театре. Но тут пришла уборщица, баба Клава, и начала истово обметать их шваброй, да не по одному разу, словно совершая ритуал выметания бесов. Их морды… ой, лица, вытянулись. И они исчезли, не дожидаясь окропления водой.
Бельский не помнил, как выбрался из этого пекла, он только краем глаза заметил в коридоре светлую фигуру Валѝцкой. Её уже посвятили в произошедшее. И она – единственная из всех сохраняла царственное спокойствие. Поддержала его кивком и понимающим взглядом. Он спустился по лестнице.
Из своей подсобки вышла Римма.
– Я хотела вам позвонить… Да вы телефон отключили.
Бельский саркастично отрывисто захохотал.
– Теперь, Риммочка, мне и самому все понятно.
Римма своей невозмутимостью напоминала Валѝцкую, но держалась не так величественно, а с добрым юмором. С ней можно было душу отвести.
– Негодяй всю труппу собирается уволить, – пробормотал он, подавленно согнувшись.
Римма уверенно перечеркнула утверждение мэтра:
– Да куда он без труппы-то? Без вас, без Валѝцкой? Да кто у него играть-то будет? Бездарей наберёт?.. Ах да, у меня, Юр Ваныч, кое-что есть для вас из гадания-то… всё-таки кое-что углядела в картах своих, когда раскладывала. Я и таро, а потом и китайские попробовала. Река вам вышла. Река… Подробнее не могу сказать, – в некоторой неловкости заметила пожилая вахтёрша.
Но на Бельского это слово произвело сильное впечатление.
– Река… река… – словно бредил он, глядя куда-то в пространство невидящим взором.
– Да. Мне надо на реку, – выдавил он через несколько секунд, так же не отрывая взгляда от того, что ему там привиделось. – Точно! Как же я не подумал об этом! На реку!
– Топиться, что ль?! Боже…! – выдохнула Римма.
– Еще чего! – вскипел Бельский. – Я, значит, утоплюсь, а он радоваться будет, шаромыжник!? Нет, пока я жив, не завладеет моим театром… этот временщѝк… – И Бельский указал пальцем на второй этаж, где торжествовал в сию минуту мишу́рный божок Широков. – Есть ещё у меня дела.
– Мне, Риммочка Ивановна на Волгу надо, в Ю̀рьевец! – взволнованно, сразу ободрившись, провозгласил Бельский, вдохновенно, торопливо, перебивая самого себя, – 16 июня там фестиваль… мы с труппой повезём туда наш спектакль «Годунов», – глаза его загорелись, – будем плыть на теплоходе… играть для людей в маленьких поволжских городках… увидим их реакцию… будем общаться… Мне тут один человек написал, хочет приехать, познакомиться, иностранец… довольно известный… Боюсь, правда, пресса слетится на него, испортит знакомство. Но приглашу…
– А кто это? – заинтересовалась Римма.
– Английский актёр То̀мас Мэ̀ррил.
– Ой, а я его знаю! – оживилась женщина. – И моя внучка знает! Голливудский фильм выходил, он играл колдуна, Дракулу какого-то… Внучка –поклонница этого актёра… Послушайте, Юр Ваныч, вы не обижайтесь, достаньте, пожалуйста, автограф этого То̀маса Мэ̀ррила для внучки… Я понимаю, дико звучит… сам Бельский автограф у кого-то просит – всё равно, если бы Смоктуновский просил автограф у Веры Брежневой…
Бельский, польщенный, расплылся в улыбке:
– Нет, Риммочка Ивановна, это – если бы Смоктуновский просил автограф у великого английского актера Ло̀уренса Оливьѐ… Написавший мне – актёр большого масштаба. Для меня в этом нет ничего неприятного. Весь мир признаёт, что британская актерская школа лучшая в мире.
– Да брешут они все! – по-простому жахнула ладонью об стол Римма, уязвлённая за русских. – Не верю, что они могут играть лучше наших. Наши-то – кишки на стол! Нутро выворачивают, так душа и горит.
– Зачем же кишки? – урезонил её Бельский. – У англичан другой подход. Естественный ритм речи, без повышения голоса, тонкость рисунка роли, сдержанность, актёры стремятся к меньшей жестикуляции, лишь самое значимое проявляют, и делают это выразительно.
– Холодно это, – не могла угомониться Римма. – Я ведь тоже театралка, хоть и вахтер, Юрий Ваныч. Я, благодаря вам, на каких только спектаклях не побывала. И когда эти англичане приезжали с гастролями – тоже. Шумиха-то, шумиха вокруг них была! Но играют уж очень сдержанно, себя берегут, жилы не рвут.
– Так это разное искусство, у них и у нас, Риммочка Ивановна. У нас чисто русский размах, широта, мощь, эмоции… Мы, действительно, нутром играем… Если печаль – то такая, что в ней таится вся печаль мира… Переживания – нередко с перехлёстом… По-правде говоря, «жилы», «кишки» и у нас сейчас пропадают, уходят в прошлое. Европеизируемся. А у англичан – в отличие от нас, можно сказать, театр меры, естественного реализма… если брать классический театр, конечно. У нас же – гиперреализм, – внёс дополнительный штришок Бельский, и чуть присыпал критики, иронически улыбаясь, – наши иногда так отрываются, что просто меры не знают, и выходит безвкусица. Все-таки искусство – это владение собой, творческая самодисциплина. А у нас нет ее… У англичан же с этим все в порядке… Что же касается Томаса Мэррила… он в 1997-м приезжал, играл у нас Чехова. Именно по-чеховски, сдержанно… некоторые считали, что аскетично… но, по мне, так очень естественно, без завываний, как наши любят.
***
(16 июня 2014. Россия. Город Ю́рьевец)
Старинный городок, живущий в основном только фестивалями. Золотистые сочные краски полуденного солнца на ю́рьевецком берегу огромной Волги. Нежные луга, маленькая церквушка, нетронутая красота природного ландшафта в мерцании расплавленного марева. Всё кажется миражом в призрачной летней дымке, неясной, таинственной, замершей среди шороха обильной зелени и плеска речной воды. Для жителя мегаполиса, привыкшего к асфальтово-бетонной серости, сгрудившейся тесноте людских муравейников, зловонию выхлопных газов грохочущих улиц и надсадной кондиционерной взгонке отработанного нездорового воздуха в помещениях – здесь непривычный для них оазис. В его спокойной красоте раскрывается сама природная несокрушимость. Кажется, это настоящий рай естественной жизни. У берега в травах особенно сильно слышно буйство стрекотания кузнечиков, издающих свою песнь-хвалу этому миру. Бабульки на пристани продают незабудки, ягоды, незамысловатые дары своих огородов и садов.
Простодушно смотрит на всех прибывающих на пристань па́левый пёс, и неловко лязгая зубами, гоняется за бабочками. От легкого ветерка чуть колышутся ветви с листвой, приветствуя плывущих вдоль берега пассажиров.
Бѐльский на теплоходе растянулся на своём лежаке и чуть подремывал под едва уловимую качку, мягкий шум воды и игру солнечных бликов. Исчезли из его мыслей, растворились все неприятности последнего времени: и фокусник Широ̀ков, проворачивающий интриги вокруг театра, и московские критики, прикормленные либеральной кастой распределителей всяческих грантов, конкурсов, призов, премий и прочих приманок. Эти критики, отяжелевшие жирком буржуазности, дежурно отзываясь о Бѐльском как о легенде театра, однако всегда искали случая, как бы брызнуть ядом и подпустить булавочных укольчиков, при этом для виду поливая сахарным сиропом свои злобные выпады. Вот ведь лицемеры, притворщики-фарисеи! Здесь, перед водами великой русской реки, всё это, также как и захват театра Широ̀ковым, предстало таким ничтожным, суетным, таким далёким. Даже поразительно, что совсем недавно это волновало и тревожило его.
Успокоившись, Бѐльский смог, наконец, принять решение – он создаст с изгнанной труппой новый театр, свой собственный. Это самый простой выход. Диву давался, как же раньше не приходило в голову подобное. Такая внезапная счастливая мысль окрылила и подняла боевой дух живущего в нём творца. Он отдался мысленному потоку надежд и планов.
При подходе судна к причалу Ю̀рьевца он выхватил глазами из скопления людей некоторых актеров своего театра, приехавших раньше и пришедших встретить его. И ещё внимание Бѐльского привлекла собравшаяся на пристани толпа с кинокамерами и фотоаппаратами. Перед ней в нетерпении прохаживался высокий худощавый брюнет лет пятидесяти с суховатым лицом и породистыми, благородно вырезанными чертами, что-то говоривший назойливым репортерам, но при этом пытавшийся уклониться от запечатления на их аппаратуру.
Да это же То̀мас Мэ̀ррил! Режиссёр понял, что это тот самый актёр, гость из Лондона, который искал знакомства с ним и которого он пригласил на фестиваль. И его теперь атакуют вездесущие папарацци.
Сойдя на берег, Бѐльский пришел в раздражение из-за этих журналюг, преклонявшихся перед Западом, а своего ни во что не ставивших – всех русских знаменитостей те проигнорировали ради заграничной звезды. Но еще больше терзало Бельского некстати всплывшая просьба Риммы достать автограф этой звезды. «Вот ещё! Не многовато ли этому мо̀лодцу внимания от русских, мы, вообще-то, и сами с усами!» – вломилось в мозг мэтру, задетому за своих необласканных актеров.
Иностранец выглядел чуть растерянным, но не утратившим чопорности, обычно присущей англичанам. Он с сильным акцентом, хотя довольно бойко, что-то бала̀кал по-русски, отвечал терпеливо, но без улыбок, держа эмоциональную дистанцию. Он нес повинность с холодной безропотностью человека, понимающего безнадёжность ситуации, отчего его худое лицо порой удивительным образом меняло выражение с сурового на мученическое. «Эх, культура… Европа… – пробормотал Бѐльский, – не может себе позволить послать их… Надо бы научить его отбривать мягко, интеллигентно, но так, чтобы не возникало сомнений, и не повадно было лезть».
То̀мас Мэ̀ррил выждал, пока репортеры, как комары-кровососы, оставят его, и с тем же мягким страдальческим выражением остановился. «Ну, прямо ни дать ни взять – князь Мышкин» – едко заметил про себя Бельский.
А Мэ̀ррил всматривался в чудесные летние дали, пытаясь найти ответ на своё неразгаданное ощущение. Какое-то знакомое чувство окутало его – ощущение, что он всё уже это видел ещё сто лет назад, задолго-задолго до того дня, когда впервые посетил Россию.
Мэ̀ррил заметил Бѐльского и, узнав – удивительно, они ж никогда раньше не виделись! – сделал к нему два неуверенных шага. Бельский всё ещё находился в состоянии раздражения. «Почему этому господину иностранцу так захотелось познакомиться со мной? Чего ему надо? От меня, и от России? Не бурла̀чить же здесь гастролёром вознамерился сей гость заморский!» – разгорячаясь, молчком ерепѐнился Бельский.
– Простите, вы – Юрий Бѐльский? – неуверенно, искажая слова, начал Мэ̀ррил по-русски. В целом он изъяснялся весьма неплохо и понятно.
– Да, – отрывисто, совсем невежливо откликнулся Юрий, – а вы, понятное дело, То̀мас Мэ̀ррил. Вас ведь весь мир знает в лицо! А нашего брата только – на нашей территории, где уж нам… – не удержался от язвительного тона Бельский, забыв о соблюдении политѐса.
Как ни странно, Мэ̀ррил понял почти всё и возразил с живостью:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.