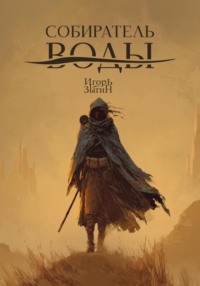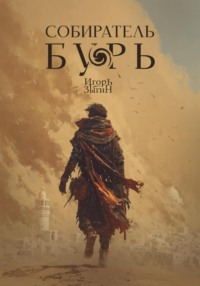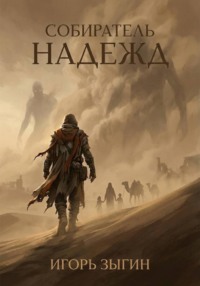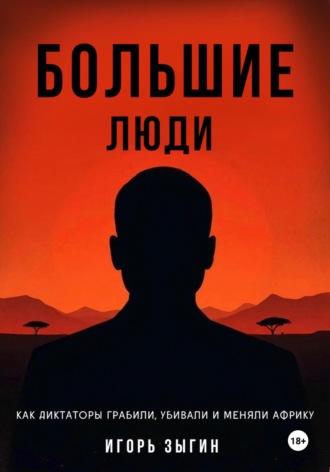
Полная версия
Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку
– Именем Всемогущего Бога и воли центральноафриканского народа провозглашаю себя Императором Бокассой Первым! – звучным баритоном произнес он, самостоятельно водружая корону на голову.
Аплодисменты прокатились по трибунам. Двести четыре килограмма лепестков роз, импортированных спецрейсом из Франции, посыпались с неба. Слуги в белых перчатках разносили гостям икру белуги, фуа-гра, устрицы из Бретани и трюфели – 240 тонн деликатесов, доставленных из лучших парижских ресторанов. В охлажденных павильонах дожидались своей очереди 60 000 бутылок французского шампанского и бургундского. В центре банкетного стола красовался торт весом полтонны.
Это была одна из самых дорогих коронаций в истории человечества. 22 миллиона долларов – ровно четверть годового бюджета Центрально-Африканской Республики. Чтобы понять масштаб этой суммы, представьте, что президент современной России потратил бы на свою инаугурацию 75 миллиардов долларов, или что глава африканского государства размером с Чад израсходовал на одну церемонию столько же, сколько его страна получает международной помощи за четыре года.
Но самое поразительное происходило не на стадионе, а за его воротами. В эти же часы, пока 120 музыкантов играли торжественные марши, а гости поднимали бокалы с «Дом Периньон», в детской больнице Банги умирали дети от малярии – не было лекарств. В школах столицы учителя писали на досках мелом по дереву – не было денег на школьные принадлежности. В городских кварталах матери кипятили траву, чтобы накормить голодных детей.
66% населения страны жили менее чем на доллар в день – это означало, что стоимость коронации Бокассы превышала годовые доходы 800 000 его подданных. Средний доход на душу населения составлял 177 долларов в год, то есть император потратил на одну церемонию эквивалент 340 лет жизни обычного центральноафриканца.
В тот самый момент, когда Бокасса I под ликующие возгласы садился на свой двухтонный орлиный трон, в пригороде Банги 57-летний рабочий Нгуида хоронил своего 12-летнего сына Белге. Мальчик был застрелен солдатами Императорской гвардии за то, что бросал камни в проезжавшую мимо правительственную машину. Пуля попала в спину, ребенок умер на улице с выпавшими из разорванного живота кишками. Отец нашел тело и всю ночь рыл могилу голыми руками – не было денег на гроб.
Эту империю называли «театром одного актера». Из 2500 приглашенных на коронацию иностранных гостей приехали только 600, включая сто журналистов. Император Хирохито вежливо отклонил приглашение. Европейские монархи нашли срочные дела. Даже африканские лидеры предпочли отправить вместо себя младших министров. Присутствовавшие дипломаты позже записывали в мемуарах: «Удивительное зрелище. Один из беднейших уголков планеты превратился в театр, где единственный актер играл роль французского императора».
– Они завидовали мне, потому что у меня была империя, а у них – нет, – объяснял Бокасса низкую явку высоких гостей.
Но за этим театральным представлением скрывалась куда более сложная и зловещая реальность. Коронация стала возможной благодаря французским деньгам – номинально выделенным как «помощь развитию», фактически профинансировавшим личные амбиции диктатора. Франция оплатила изготовление короны и трона, доставку лошадей и деликатесов, услуги оркестра и мастеров. Французские военные самолеты перевезли из Камеруна 60 новеньких Mercedes – по пять тысяч долларов за машину только за авиаперевозку.
Эта щедрость объяснялась не альтруизмом, а холодным расчетом. В недрах Центрально-Африканской Республики лежали огромные запасы урана – топлива для французских атомных электростанций. Алмазные россыпи обеспечивали 54% экспортных доходов страны. Французские компании вывозили эти богатства практически бесплатно, а взамен гарантировали политическую защиту «императора» и финансирование его прихотей.
История Бокассы – это не просто рассказ о сумасшедшем диктаторе, устроившем за народные деньги костюмированный бал. Это урок о том, как работает система, превращающая нищие страны в сырьевые придатки, сирот в тиранов, а цивилизованные государства – в молчаливых спонсоров геноцида. Чтобы понять, как стала возможной эта карикатура на власть, нужно вернуться к началу – к истории мальчика, который в шесть лет потерял семью и в 56 лет решил стать императором.
## Сирота колониальной системы
Деревня Бобанги в 1927 году больше напоминала военный лагерь, чем мирное поселение. Французские колониальные чиновники требовали от вождя племени мбака Миндогона Муфасы поставить сотню крепких мужчин на принудительные работы. Компания «Форестьер» строила дорогу через джунгли, и ей нужны были рабочие руки – бесплатные, разумеется. По всей французской Экваториальной Африке местных жителей сгоняли на подобные проекты, как крепостных в средневековой Европе.
Миндогон Муфаса был не простым крестьянином. Торговец слоновой костью, уважаемый вождь, человек, чье слово имело вес среди десяти тысяч соплеменников. В его хижинах хранились бивни, за которые европейские торговцы платили серебром. Его жены носили ожерелья из стеклянных бусин, привезенных из далекой Венеции. По меркам Центральной Африки, он был богат и влиятелен.
Но влияние африканского вождя в колониальной системе имело четко очерченные границы. Когда французский комиссар Дезире Матран появился в Бобанги в сопровождении сенегальских стрелков, статус и богатство Миндогона значили не больше, чем перья на головном уборе шамана.
– Ваши люди нужны Франции, – заявил комиссар через переводчика. – Сто мужчин к утру следующего дня.
– Мои люди заняты полевыми работами, – ответил вождь. – Сейчас сезон посадки ямса. Если мужчины уйдут, дети будут голодать.
Для Миндогона это был вопрос выживания племени. Представьте современного мэра небольшого города, которому федеральные власти приказывают отправить половину трудоспособного населения на стройку без зарплаты и определенного срока возвращения. В сезон сбора урожая. Без гарантий, что люди вернутся живыми.
Но французские колониальные власти не терпели возражений. Система принудительного труда была краеугольным камнем колониальной экономики. Дороги строились руками африканцев. Плантации обрабатывались африканцами. Рудники разрабатывались африканцами. Все бесплатно, под дулами винтовок сенегальских стрелков.
К тому времени по всей французской Экваториальной Африке уже прокатилась волна восстаний против принудительного труда. Пророк Карну в соседнем регионе призывал к сопротивлению французскому правлению. Его послание было простым: «Мы не рабы. Мы работаем на своей земле, а не на чужих плантациях».
Вдохновленный примером Карну, Миндогон принял роковое решение. В ноябре 1927 года он освободил нескольких своих соплеменников, которых компания «Форестьер» удерживала на дорожных работах в нечеловеческих условиях. Это было актом открытого неповиновения.
13 ноября 1927 года французские жандармы арестовали вождя прямо в его хижине, на глазах у шестилетнего сына Бокассы Мгбундулу – так звучало полное африканское имя будущего императора. Миндогона заковали в кандалы и увезли в окружной центр Мбаики. На городской площади перед зданием префектуры его забили до смерти. Официально он умер «при попытке к бегству». На деле это была публичная казнь, призванная запугать других потенциальных бунтовщиков.
Мать Бокассы, Мари Йокова, не пережила горя. Через неделю после похорон мужа она покончила с собой, оставив двенадцать детей сиротами. В традиционном африканском обществе смерть главы семьи означала катастрофу, но самоубийство матери превращало эту катастрофу в полное крушение мира.
Детей разобрали родственники. Шестилетнего Мгбундулу взяли на воспитание католические миссионеры из Школы Святой Жанны д'Арк в Мбаики – того самого города, где француженцы убили его отца.
Ирония была жестокой: система, которая уничтожила его семью, теперь предлагала ему спасение.
В миссионерской школе мальчик попал в странный мир между двумя цивилизациями. Днем он изучал французскую грамматику, историю Франции, католический катехизис. Вечером в спальне шептал молитвы на родном языке санго и вспоминал отцовские рассказы о духах предков.
Поворотным моментом стало увлечение маленького Бокассы французской книгой по грамматике, автором которой был некий Жан Бедель. Учителя заметили, как сильно мальчик привязался к этому учебнику, и начали в шутку называть его "Жан-Бедель". Постепенно прозвище прижилось – сначала в классе, потом во всей школе.
Для колониальной администрации это было удобно. Европейские имена упрощали ведение документооборота и подчеркивали "цивилизующую миссию" Франции. При поступлении в следующую школу – школу Святого Людовика в Банги – мальчик уже фигурировал в документах как "Жан-Бедель Бокасса".
Постепенно Жан-Бедель научился жить в двух мирах. В школе он был образцовым учеником – прилежным, послушным, благочестивым. Учителя хвалили его за успехи во французском языке и математике. Директор школы писал в отчетах: «Мальчик показывает прекрасные задатки. Из него может получиться полезный служащий администрации».
В 1939 году, в 18 лет, Жан-Бедель Бокасса записался добровольцем в колониальную армию. К тому времени его африканское имя «Бокасса Мгбундулу» исчезло из всех документов. В военном билете значилось только: «Жан-Бедель Бокасса». Превращение было завершено – по крайней мере, внешне.
Французская колониальная армия стала для него университетом жизни. В казармах Браззавиля он познакомился с такими же, как он, молодыми африканцами, вырванными из традиционного общества и брошенными в водоворот европейской войны. В 1944 году его часть участвовала в освобождении Прованса от немецких войск. Сержант Бокасса шагал по улицам французских городов в составе колониальных войск, которые помогали метрополии вернуть свободу.
С 1950 по 1953 год он воевал в Индокитае против коммунистов Хо Ши Мина. Там он впервые увидел, как европейская армия может терпеть поражение от «туземцев». Вьетнамские партизаны, вооруженные автоматами Калашникова и национальной идеей, громили французские гарнизоны. Урок запомнился: европейцы не всесильны, если против них сражаются решительные и хорошо организованные местные жители.
Затем была Алжирская война 1954-1960 годов. Капитан Бокасса подавлял восстание против французского правления – ту самую борьбу за независимость, которую когда-то начал его отец в маленькой деревне Бобанги. Он участвовал в карательных операциях, допросах, облавах. Французские офицеры хвалили его за жестокость и эффективность.
За 23 года службы он получил Орден Почетного легиона, Военный крест с пальмами и французское гражданство – высшую награду для африканца в колониальной системе. Его грудь украшали ордена той самой Франции, которая убила его родителей. В его будущем кабинете будет висеть портрет Наполеона – корсиканца, который покорил Европу и короновал себя императором.
«Если этот маленький человек смог стать повелителем Франции, то и я, африканец, достоин империи», – говорил он приближенным.
Психология Бокассы формировалась как психология сироты, который всю жизнь доказывал свою значимость тем, кто когда-то унизил его семью. Он боготворил и ненавидел Францию одновременно. Мечтал превзойти своих колониальных хозяев в роскоши и могуществе. Хотел, чтобы те же французские генералы, которые когда-то командовали им в Индокитае и Алжире, склонили головы перед африканским императором.
Эта психологическая травма сделала его идеальным кандидатом для новой роли. К началу 1960-х годов Франция нуждалась в управляемых лидерах в бывших колониях – людях, которые были бы одновременно независимыми и послушными, гордыми и зависимыми. Отставной капитан Бокасса подходил как нельзя лучше.
Травма сиротства превратила его в идеального диктатора для эпохи неоколониализма.
## Управляемый переворот
В рождественские каникулы 1965 года в кабинетах Елисейского дворца шли напряженные совещания. На столе лежали досье на президента Центрально-Африканской Республики Давида Дако и на начальника генерального штаба армии ЦАР капитана Жан-Беделя Бокассу. Французские чиновники изучали характеристики, анализировали политические предпочтения, оценивали степень лояльности. Стоял вопрос о смене власти в одной из самых стратегически важных африканских стран.
Давид Дако, двоюродный брат Бокассы, пять лет назад казался идеальным кандидатом. Умеренный политик, выпускник французских университетов, человек без радикальных идей. После получения независимости в 1960 году он проводил проевропейскую политику, позволял французским компаниям спокойно разрабатывать урановые месторождения, не мешал вывозу алмазов. Центрально-Африканская Республика была образцовым клиентом системы «Франсафрика» – той неформальной сети контроля, которую генерал де Голль и его советник Жак Фоккар создали для управления бывшими колониями.
Но к 1965 году Дако начал доставлять проблемы. Сначала небольшие – критические замечания о ценах на уран, жалобы на неравноправие торговых соглашений. Потом более серьезные: разговоры об «африканском социализме» и необходимости «справедливого распределения ресурсов». Хуже всего было то, что президент начал заигрывать с идеями валютной независимости, ставя под сомнение систему франка CFA – основу французского контроля над экономиками бывших колоний.
Валюта франк CFA была гениальным инструментом неоколониального управления. Четырнадцать африканских стран должны были депонировать 50% своих валютных резервов в парижском казначействе. Это гарантировало Франции контроль над финансовыми потоками и неограниченное право французских компаний вывозить прибыли. Любая попытка пересмотра этой системы воспринималась в Париже как покушение на национальные интересы.
Но хуже всего был китайский фактор. В 1965 году Дако принял делегацию из Пекина, которая предложила построить в ЦАР университет в обмен на концессии на добычу алмазов. Для французской элиты это было красной тряпкой.
К концу 1965 года в Елисейском дворце пришли к выводу: пора менять лошадей. Дако стал слишком самостоятельным, а значит, опасным для французских интересов. Нужна была «управляемая альтернатива» – лидер, который был бы зависим от французской поддержки и не мог позволить себе независимую политику.
Кандидатура начальника генштаба Бокассы выглядела идеально. Ветеран французской армии, человек без политической программы, с личными амбициями и комплексами. Капитан, который 23 года служил французской короне и получил от нее все – образование, карьеру, ордена, гражданство. Такой никогда не станет вторым Насером или Патрисом Лумумбой.
31 декабря 1965 года президент Дако благополучно улетел в Париж на новогодние каникулы. В столице ЦАР Банги наступили тихие праздничные дни. В казармах дремали солдаты, в министерствах никого не было, даже французский гарнизон праздновал. Идеальный момент для переворота.
В три часа двадцать минут ночи 1 января 1966 года жители Банги проснулись от рева моторов и автоматных очередей. По темным улицам столицы двигались три бронемашины и грузовики с солдатами. Операция была спланирована с военной точностью: одновременный захват радиостанции, аэропорта, телеграфа, президентской резиденции и всех правительственных зданий.
Сопротивления не было. Армия ЦАР составляла всего 500 человек, и большая часть офицеров либо поддерживала Бокассу, либо просто не желала умирать за непопулярного президента. К рассвету столица была под контролем «революционного комитета».
В семь утра по радио зазвучал хорошо поставленный баритон:
– Граждане Центрально-Африканской Республики! Революционный комитет под моим руководством берет власть в свои руки. Коррумпированное правительство Дако свергнуто. Партии распущены. Конституция отменена. Парламент распущен. Да здравствует революция!
Речь была составлена по всем канонам военных переворотов той эпохи: обвинения в коррупции, обещания навести порядок, призывы к национальному единству. Таких переворотов в 1960-е годы происходили десятки по всей Африке и Латинской Америке. Холодная война создала универсальную формулу захвата власти.
Дако, вернувшись из Парижа, обнаружил, что у него больше нет государства. В аэропорту его встретили солдаты нового режима и под дулами автоматов заставили подписать документ о передаче власти «временному правительству».
Международная реакция была показательной. Франция признала новое правительство через несколько часов после переворота – удивительная оперативность для дипломатических служб, которые обычно неделями изучают любые изменения власти. Великобритания и США последовали примеру Парижа в течение суток. Никто не осудил военный переворот, никто не потребовал восстановления конституционного строя.
Это было время, когда демократические принципы приносились в жертву геополитическим интересам. В условиях холодной войны стабильность поставок стратегических ресурсов была важнее конституций и выборов. Лучше управляемый диктатор, чем неуправляемый демократ.
Позже выяснилось, что французские спецслужбы знали о готовящемся перевороте заранее. Прямых документальных доказательств участия Парижа в планировании путча нет – такие вещи не записывают в протоколы. Но обстоятельства говорили сами за себя: идеальное время (новогодняя ночь, когда весь мир празднует), отсутствие сопротивления, мгновенное международное признание.
Архитектор французской политики в Африке Жак Фоккар позже скажет: «Мы не организовывали перевороты. Мы просто не мешали им происходить, когда это отвечало нашим интересам». Искусство неоколониального управления заключалось в том, чтобы достигать нужных результатов чужими руками.
Переворот вошел в историю как «сен-сильвестрский путч» – по дате католического праздника. Бокасса продемонстрировал отличное чувство времени: пока весь мир встречал Новый год, он тихо прибрал к рукам целую страну.
В первые месяцы после переворота полковник Бокасса (он присвоил себе это звание сразу после прихода к власти) выглядел образцовым правителем. Обещал восстановить порядок, искоренить коррупцию, построить современное государство. Носил простую военную форму цвета хаки, ездил на скромном «Пежо-404», принимал посетителей в обычном кабинете без роскоши.
Для французских дипломатов такой поворот событий был подарком судьбы. Бокасса с первых дней ясно дал понять: Франция – старший брат, младший готов к полному сотрудничеству. Никаких разговоров об «африканском социализме» или китайских университетах. Никаких попыток пересмотра соглашений о франке CFA.
Система взаимовыгодного обмена заработала немедленно. Французские компании получили еще более выгодные условия разработки месторождений. Схема была отработана до мелочей: Франция финансировала строительство рудников и инфраструктуры в виде «помощи развитию», а затем получала уран практически бесплатно в качестве погашения долгов.
Взамен Бокасса получал политическую защиту и личные подарки. Франция гарантировала военное вмешательство в случае угрозы его власти, предоставила 80 парашютистов для охраны режима, поставляла современное оружие для президентской гвардии.
Травма сиротства превратила Бокассу в идеального партнера для неоколониальной эпохи. Он одновременно ненавидел и боготворил Францию, мечтал превзойти ее и служил ее интересам. Это противоречие делало его управляемым, но и крайне опасным. Как покажут дальнейшие события, управляемые диктаторы имеют неприятную привычку выходить из-под контроля.
## Урановые контракты и алмазные схемы
В подвалах парижского министерства финансов хранились карты африканских недр, помеченные разноцветными кружками. Красные означали урановые месторождения, синие – алмазные россыпи, желтые – золотые прииски. Каждый кружок был пронумерован и имел досье с оценкой запасов, себестоимости добычи и стратегической важности. Центрально-Африканская Республика была усыпана этими кружками, как новогодняя елка игрушками.
Система «Франсафрика», созданная генералом де Голлем и его советником Жаком Фоккаром в 1960-е годы, превратила формальную независимость африканских стран в изощренную форму экономического рабства. Она держалась на четырех столпах: валютном принуждении через франк CFA, военном доминировании, эксплуатации природных ресурсов и поддержке лояльных диктаторов.
Механизм работал элегантно, как швейцарские часы. Валюта франк CFA привязывала экономики 14 бывших колоний к французской, требуя депонировать 50% валютных резервов в парижском казначействе. Это означало, что африканские страны не могли свободно распоряжаться собственными деньгами – как если бы техасские нефтяники должны были хранить половину выручки в банках Саудовской Аравии и спрашивать разрешения на каждую крупную покупку.
За период с 1960 по 1990-е годы Франция провела более ста военных интервенций в Африке – больше, чем любая другая держава со времен колониальных империй XIX века. Французские десантники появлялись в африканских столицах с регулярностью курьерской службы, свергая неугодных лидеров и защищая лояльных.
В этой системе диктаторы были не злом, а необходимостью. Сильная рука обеспечивала стабильность поставок урана и алмазов по заниженным ценам. Демократия была роскошью, которую Франция не могла себе позволить в Африке. Свободные выборы могли привести к власти неуправляемых националистов, которые потребовали бы справедливых цен за ресурсы или, того хуже, национализировали французские активы.
Урановое месторождение Бакума было жемчужиной французских активов в Центральной Африке. По геологическим оценкам, там залегало достаточно урана для работы французских атомных электростанций в течение десятилетий. В эпоху нефтяных кризисов 1970-х годов, когда цены на энергоносители взлетели до небес, уран стал стратегическим ресурсом национальной безопасности.
Французы создали в ЦАР дочерние компании URBA (Uranium de Bakouma) и позднее URCA, формально принадлежавшие местным властям, но фактически управлявшиеся из Парижа. Схема добычи была хитро продумана. Вместо покупки урана по рыночным ценам Франция предоставляла «кредиты на развитие» для строительства шахт и дорог, а затем забирала львиную долю продукции в счет погашения долгов.
«Франция строит у нас рудники на свои деньги, а потом забирает весь уран бесплатно, – позже признавался сам Бокасса в одном из интервью. – Мы просим у французов деньги на развитие, получаем их, тратим на инфраструктуру, а потом отдаем им же наши ресурсы».
Это было похоже на ситуацию, когда богатый дядюшка дает племяннику деньги на покупку коровы, а потом каждый день приходит доить ее бесплатно, ссылаясь на непогашенный долг. А с чего платить долг, если молоко бесплатное? Вопрос открытый.
По подсчетам экономистов, за годы правления Бокассы Франция получила от ЦАР ресурсов на 4 миллиарда долларов, предоставив взамен «помощи» на 230 миллионов – соотношение 17 к 1. Даже с учетом инфляции и стоимости инфраструктуры это был грабеж в планетарных масштабах.
Урановые сделки были лишь частью экономической паутины. Еще более изощренными были схемы с алмазами. ЦАР занимала четвертое место в мире по разведанным запасам алмазов, и эта отрасль приносила 54% всех экспортных доходов страны. Но значительная часть добычи проходила мимо государственной казны через контрабандные каналы.
Система двойной торговли сложилась естественным образом. Официально местные старатели должны были сдавать найденные камни государству через Центральное управление по контролю за драгоценными камнями, после чего алмазы продавались на международных тендерах. Но высокие налоги (до 12%) и бюрократические проволочки делали теневой рынок гораздо привлекательнее.
Ключевую роль в контрабандной торговле играла ливанская диаспора. Выходцы из Ливана традиционно контролировали торговлю драгоценными камнями во многих африканских странах. В Банги и других городах ЦАР работали десятки ливанских дельцов, которые скупали алмазы у старателей за наличные франки CFA или доллары и переправляли их в Бельгию через Антверпен – мировой центр торговли алмазами.
Эти торговцы поддерживали связи с ближневосточными финансистами и даже с экстремистскими группировками. Позже выяснилось, что через центральноафриканские алмазы отмывались средства для ливанской «Хезболлы» и других террористических организаций – задолго до того, как мир узнал термин «кровавые алмазы».
К контрабандной торговле подключились израильские посредники, французские авантюристы и даже президент соседнего Заира Мобуту, который позволял переправлять часть камней через свою территорию за долю прибыли.