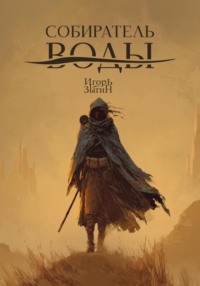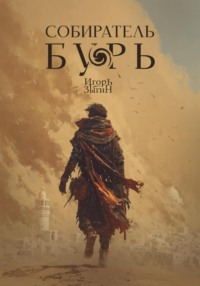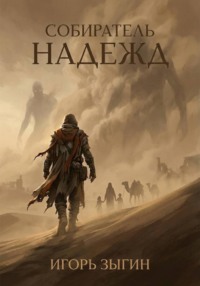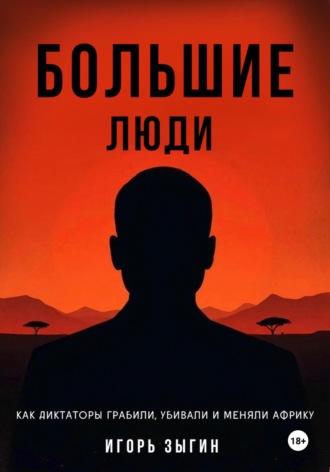
Полная версия
Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку

Игорь Зыгин
Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку
Глава 1. Уганда. Иди Амин – «Последний король Шотландии»
Пролог. Утро обычного диктатораКампала, январь 1972 года. Утреннее солнце окрашивает воды озера Виктория в золотистые тона, когда сорокасемилетний генерал Иди Амин неторопливо поднимается по мраморным ступеням своей резиденции на холме Накасеро. За массивной фигурой в безукоризненном белоснежном кителе, усыпанном медалями Британской империи, следует секретарь с блокнотом – обычная сцена обычного утра в обычной африканской столице.
– Записывайте, – говорит Амин, поправляя китель и любуясь видом на озеро. Голос звучит на удивление мягко. – «Её Величеству королеве Елизавете Второй…»
Секретарь послушно поднимает ручку.
– «От Его Превосходительства Президента пожизненно, Фельдмаршала Аль-Хаджи Доктора Иди Амин Дада…» – диктатор делает театральную паузу. – «…кавалера ордена "Крест Виктории", Военного креста, ордена за выдающиеся заслуги, Командора Британской империи…»
Рука секретаря уже устает – титулы сыплются бесконечной лавиной.
– «…Повелителя всех зверей земли и рыб морских…» – продолжает Амин. – «…и Завоевателя Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности…»
Пауза. Секретарь поднимает глаза.
– Это ещё не всё, – улыбается Амин. – «…и Последнего короля Шотландии».
В кабинете повисает тишина. За окном кричат птицы-носороги.
В этот самый момент, в нескольких километрах отсюда, в подвалах розового здания на том же холме, агенты Государственного бюро расследований пытают электричеством студента университета Макерере. Его преступление – неосторожная шутка о том, что президент «слишком любит говорить по радио». Студент умрет через три дня. О его существовании королева не узнает никогда.
Часть I. Корни катастрофы (1894-1962)Чтобы понять, как человечество смогло породить Иди Амина, необходимо начать с британского протектората Уганда – уникального колониального эксперимента, который стал идеальной фабрикой для выращивания будущих диктаторов. Британцы прибыли сюда в 1894 году не как завоеватели варварских племен, а как «защитники» древнего королевства Буганда от арабских работорговцев. Эта роль благородных «освободителей» позволила им создать систему управления, которая оказалась более разрушительной, чем прямая военная оккупация.
Логика была циничной в своей простоте. Южные области протектората, особенно королевство Буганда с центром в Кампале, стали витриной успешной цивилизаторской миссии. Здесь процветала древняя монархия – централизованное государство, существовавшее с XIV века, со своим парламентом лукико, развитой административной системой и зачатками письменности. Правитель кабака считался полубожественным властелином миллиона подданных – африканским эквивалентом японского императора.
Британцы не разрушили эту систему, а поставили себе на службу. Сюда пришли дороги и школы, плантации хлопка и кофе, а местная аристократия превратилась в младших партнеров колониального проекта. Народ баганда, составлявший четверть населения протектората, получил привилегированный статус «цивилизованных африканцев» – их дети учились в миссионерских школах, взрослые служили переводчиками и клерками, а традиционный монарх кабака сохранил церемониальную власть и получал от британской короны жалованье в 1500 фунтов стерлингов в год – больше, чем получал губернатор колонии.
Северные районы – Ачоли, Западный Нил, Карамоджа – остались на обочине этого праздника жизни. Если на юге строили школы и больницы, то здесь возводили только казармы. Британцы видели в северных территориях единственную ценность – неисчерпаемый источник военной силы для главного инструмента имперского господства: Королевских африканских стрелков.
КАС была уникальным военным образованием – армией без отечества, которая служила интересам империи от Сомали до Малави. Представьте себе Иностранный легион, укомплектованный исключительно африканцами под командованием белых офицеров, который мог быть переброшен в любую точку континента для подавления восстаний или захвата новых территорий. В разное время подразделения КАС воевали в Судане, Кении, Танганьике, Эфиопии – везде, где интересы империи требовали применения силы.
Социолог Махмуд Мамдани точно назвал эту систему «децентрализованным деспотизмом» – каждое племя управлялось через своих «традиционных» вождей (часто назначаемых колониальной администрацией), но реальная власть принадлежала Лондону через армию наемников. Межэтнические конфликты не подавлялись, а культивировались: британцы всегда могли найти одно племя, готовое воевать против другого за жалованье и оружие.
К моменту обретения независимости в 1962 году эта система отравила межэтнические отношения на поколения вперед. Народ баганда привык считать себя естественными правителями страны. Северяне видели в них «британских лакеев» и жаждали реванша. А армия состояла из профессиональных солдат, которые были лояльны не конституции, народу или хотя бы королю, а тому, кто обеспечивал им регулярное жалованье и возможность грабить.
Рождение будущего людоедаВ этом мире разделенных лояльностей и милитаризованных племен около 1925 года родился Иди Амин Дада Ньябира. Точной даты никто не знал – на Западном Ниле не велось записей актов гражданского состояния, да и грамотность была редкостью среди скотоводов племени каква. Его отец Амин Дада совмещал традиционное занятие – разведение коз – с современной профессией солдата КАС.
Каква были одним из самых малочисленных племен протектората – не более пятидесяти тысяч человек, кочевавших в засушливых районах на границе с Суданом. У них не было централизованного государства, городов, письменности, развитой торговли. Для британских вербовщиков это делало их идеальными рекрутами: люди без сильных племенных связей, готовые служить за регулярное жалованье и статус.
Детство Амина прошло между двумя мирами. Мать, Аиша Чумару, была традиционной целительницей из племени лугбара – хранительницей древних знаний и верований, женщиной, которая могла говорить с духами предков и врачевать болезни травами. Отец представлял современность – военную дисциплину, британские порядки, жизнь по расписанию и уставу. В этом взрывоопасном сочетании магического мышления и армейской структуры уже угадывались черты будущего диктатора, который будет принимать политические решения на основе «божественных откровений».
Школа империи: от повара до чемпионаВ 1946 году двадцатиодинолетний Амин пришел в казармы 4-го угандийского батальона КАС в портовом городе Джинья на берегу озера Виктория. Сослуживцы запомнили его сразу – к двадцати годам он вымахал до 193 сантиметров и весил 110 килограммов, что для африканца того времени было исключительной редкостью. Более важной была другая особенность: он обладал редким сочетанием физической мощи и абсолютного послушания – именно те качества, которые британские офицеры ценили в колониальных солдатах превыше всего.
Начинал Амин с самого низа – помощником батальонного повара, но карьера развивалась головокружительно. В военных характеристиках того времени регулярно появлялись записи вроде: «Отличная физическая форма», «Исключительно предан Её Величеству», «Способен решить любую деликатную задачу». Последняя формулировка была армейским эвфемизмом для описания готовности убивать без лишних вопросов.
С 1951 по 1960 год Амин девять раз подряд становился чемпионом Уганды по боксу в полутяжелом весе – рекорд, который не побит до сих пор. Британские офицеры обожали ставить на боксерские поединки, и Амин редко их подводил. По легенде, он никогда не проигрывал и мог одним ударом сломать противнику челюсть. Документальных подтверждений нет, но репутация непобедимого бойца работала на него всю жизнь – даже враги предпочитали вести себя вежливо в его присутствии.
Кенийские джунгли: университет террораПодлинную славу Амин снискал однако не на боксерском ринге, а в джунглях Кении, где с 1952 по 1956 год участвовал в подавлении восстания Мау-Мау – самой кровавой антиколониальной войны в истории Британской Восточной Африки. Здесь, среди зеленого ада кенийского высокогорья, бывший повар получил степень доктора наук по прикладному садизму.
Восстание началось как протест кикуйю против захвата земель белыми поселенцами, но быстро переросло в тотальную войну. Повстанцы практиковали тактику выжженной земли – убивали лояльных вождей, нападали на изолированные фермы, терроризировали «коллаборационистов». Британская администрация ответила методами, которые удивили бы даже надсмотрщиков нацистских концлагерей.
Операция называлась «восстановлением порядка», но по сути была геноцидом. Полтора миллиона кикуйю согнали в концентрационные лагеря, которые эвфемистически именовались «защищенными деревнями». Там их подвергали принудительному труду, пыткам, перевоспитанию и систематическому уничтожению. По разным оценкам, в лагерях умерло от двадцати до ста тысяч человек – точные цифры засекречены до сих пор.
Солдаты КАС, включая Амина, были главными исполнителями этого террора. Они прочесывали джунгли в поисках повстанцев, сжигали деревни целиком, расстреливали подозреваемых без суда и следствия. Британские офицеры давали простые инструкции, чтобы не перегружать своих подопечных лишней информацией: «Убивайте всех, кто убегает», «Не берите в плен старше шестнадцати лет», «Приносите головы для подсчета трофеев».
Именно в кенийских джунглях Амин усвоил основные принципы государственного террора, которые позже применит в Уганде: коллективную ответственность (наказание целых сообществ за действия отдельных лиц), превентивные репрессии (устранение потенциальных противников до их активизации) и публичность насилия (демонстрация последствий неповиновения как средство устрашения).
Годы спустя, когда журналисты спрашивали Амина о его методах правления, он часто ссылался на кенийский опыт: «Я учился у лучших – у британцев. Они научили меня, что порядок важнее жизни». Это не было оправданием – это была констатация факта.
Легенда утверждает, что именно в Кении Амин впервые попробовал человеческое мясо, отрезав и съев кусок от убитого повстанца перед изумленными сослуживцами. Документальных подтверждений нет, но слухи о каннибализме преследовали его до конца жизни. Возможно, он сам их подогревал – ничто так не деморализует врагов, как репутация людоеда.
К 1956 году восстание было подавлено с тевтонской основательностью. Официально погибло двенадцать тысяч повстанцев, но реальные цифры, вероятно, в несколько раз выше. Амин вернулся в Уганду с репутацией «решателя проблем», медалями «За отличную службу» и «За долгую службу» и бесценным опытом массовых убийств. В характеристиках британские офицеры отмечали: «Образцовый солдат. Никогда не задает лишних вопросов. Рекомендуется для выполнения особых заданий».
Новые времена, старые методыВ 1961 году, за год до независимости Уганды, произошло знаковое событие: Амин и еще один угандиец, Шабан Опломба, стали первыми африканцами, получившими офицерские звания в КАС. Это была символическая уступка наступающей эре деколонизации – африканцы должны были командовать африканской армией. На практике система мало изменилась: британские советники остались, западное оружие продолжало поступать, методы обучения сохранились прежними. Амин просто занял место белого офицера в той же колониальной машине.
После провозглашения независимости в октябре 1962 года новый премьер-министр Милтон Оботе назначил Амина заместителем командующего угандийской армией. К 1966 году бывший помощник повара стал полноправным командующим сухопутными войсками. Карьера от рядового до генерала за двадцать лет – головокружительный взлет даже по африканским меркам тех бурных времен.
Часть II. Опасное партнерство (1962-1970)Кровавая команда: Оботе и АминПремьер-министр Милтон Оботе был типичным лидером эпохи деколонизации – харизматичный интеллектуал с западным образованием, который привел страну к независимости под знаменем демократии и прогресса. Но, как и большинство его африканских коллег, он быстро понял, что демократические идеалы плохо совместимы с реалиями управления постколониальным государством.
К середине 1960-х Оботе правил фактически единолично. Для такого режима ему нужен был надежный силовик – человек сильный, но не слишком умный, способный на любые действия, но лишенный политических амбиций. Амин подходил идеально.
Образованный в престижном университете Макерере Оботе и полуграмотный солдат Амин дополняли друг друга как зубило и молоток: один думал, другой исполнял. Их сотрудничество скрепилось кровью 24 мая 1966 года, когда разгорелся конституционный кризис между центральным правительством и древним королевством Буганда.
Штурм дворца: уничтожение тысячелетней традиции
Король, или, по-местному, Кабака, Мутеса II, потомок 35 поколений правителей и формальный президент федеративной Уганды, попытался отстоять автономию своего королевства. Он потребовал вывода правительственных войск с территории Буганды и пригрозил выходом из состава страны – неприемлемый вызов для Оботе, который видел в федеративной системе угрозу собственной власти.
Премьер-министр дал Амину лаконичный приказ: «Решите проблему с Менго». И тот решил ее по-военному, с присущей ему основательностью.
Утром 24 мая 1966 года танки и бронетранспортеры окружили холм Менго, где высился дворец кабаки – символ пятисотлетней истории самого могущественного королевства Восточной Африки. Это был не просто штурм здания, а уничтожение живой традиции. Во дворце хранились королевские регалии: священные барабаны, связывавшие правителей с предками, и мумии древних кабак. Для народа баганда атака на Менго была равносильна варварскому разрушению собора Святого Петра или сжиганию Лувра.
Королевские гвардейцы, вооруженные допотопными винтовками «Ли-Энфилд» времен Первой мировой войны, встретили нападавших ружейным огнем. Для них это была война за само существование Буганды как государства. Амин ответил артиллерийским обстрелом – канонада слышалась по всей Кампале, тысячи жителей высыпали на улицы, не понимая, что происходит.
Сражение продолжалось четыре часа. Когда дым рассеялся, дворец лежал в руинах, а 71-летний кабака исчез. Позже выяснилось, что монарх сбежал через брешь в стене, переодевшись в штатское. Через британское консульство он добрался до Лондона, где и умер в 1969 году, никогда больше не увидев родины.
Для Амина штурм Менго стал моментом откровения. Он увидел, как быстро можно сломить любое сопротивление при наличии подавляющего превосходства в силе. Он понял, что политические проблемы в конечном счете решаются не переговорами, а танками. Этот урок он усвоил на всю жизнь.
Для Оботе операция стала подтверждением правильности выбора исполнителя. Амин показал себя как человек дела, который не станет мучиться сомнениями перед лицом «высших интересов государства». Традиционные королевства были упразднены одним указом, их правители лишены всех полномочий, их казна конфискована. Древняя федеративная система, просуществовавшая столетия, исчезла за одну ночь.
Но в этом триумфе уже таились семена будущей трагедии. Уничтожив традиционные структуры власти, Оботе сделал армию единственным политическим институтом в стране. А армией командовал человек, который усвоил простую истину: власть принадлежит тому, у кого больше танков.
Конголезское золото: партнерство в коррупцииК концу 1960-х Уганда была втянута в хаос соседней Демократической Республики Конго, где после убийства Патриса Лумумбы бушевала многосторонняя гражданская война. Официально Кампала сохраняла нейтралитет, но на практике и Оботе, и Амин активно участвовали в конголезских делах – разумеется, небескорыстно.
Схема была элегантной в своей простоте: угандийские военные поставляли оружие различным конголезским группировкам в обмен на золото, алмазы и слоновую кость. Деньги от этих операций оседали в карманах организаторов – Оботе использовал свою долю для укрепления партии и покупки лояльности политиков, Амин тратил на усиление влияния в армии и обогащение своего клана.
К 1970 году из военного бюджета исчезло около 4 миллионов долларов – эквивалент 25 миллионов в ценах 2025 года. Большая часть денег прошла через руки Амина, который не мог внятно объяснить их судьбу. Когда президентская комиссия потребовала отчета, генерал заявил, что средства потрачены на «секретные операции по защите национальной безопасности».
Оботе понял: его подчиненный вышел из-под контроля. Амин перестал быть послушным исполнителем и превратился в самостоятельного игрока, который мог конкурировать с президентом за влияние в армии. Более того, компрометирующие материалы по конголезским операциям делали генерала опасным свидетелем.
«Движение влево»: как потерять друзей и восстановить против себя спецслужбы
Коррупционный скандал не остался незамеченным западными союзниками, но гораздо большую тревогу у них вызывали идеологические эксперименты Оботе. Параллельно с обогащением на конголезском золоте угандийский президент совершал еще более опасный для западных интересов маневр – дрейф в сторону Советского Союза. К концу 1960-х он объявил о «Движении влево» и программе построения «африканского социализма».
Для британского бизнеса это была катастрофа. В 1969 году Оботе национализировал 80 британских компаний, включая крупнейшие банки Imperial Bank и Standard Bank, а также основные промышленные предприятия. Общий объем британских инвестиций в Уганде составлял около 150 миллионов фунтов стерлингов – эквивалент 2 миллиардов долларов в современных ценах.
Еще тревожнее был геополитический дрейф. Угандийские студенты получали стипендии в Московском университете имени Лумумбы. Советские военные советники появились в Кампале. Сам президент все чаще произносил речи о «борьбе с неоколониализмом» и «солидарности с прогрессивными силами мира». В условиях холодной войны это автоматически делало его врагом.
Представьте американскую реакцию, если бы союзная страна внезапно национализировала все американские компании и пригласила китайских военных советников. Примерно такие чувства испытывала британская элита, наблюдая за превращением бывшей образцовой колонии в потенциальный форпост СССР в Восточной Африке.
На этом фоне репутация Амина как «прямолинейного исполнителя» без идеологических заморочек начала работать ему на руку. В частных разговорах западные дипломаты все чаще поминали генерала как человека «старой школы» – солдата, который не увлекается политическими экспериментами и понимает ценность проверенных союзов. В отличие от своего президента, витавшего в облаках социалистических теорий, Амин оставался человеком конкретного действия.
Оботе, некогда полезный союзник, превратился в головную боль. А его армейский командир все чаще рассматривался как потенциальное решение проблемы.
Часть III. Развод с кровью (1970-1971)Превентивный удар: логика переворотаВ октябре 1970 года Оботе попытался поставить строптивого генерала на место. Он объявил о создании Совета обороны под собственным председательством и фактически лишил Амина права самостоятельно командовать войсками. Это было равносильно объявлению недоверия и прелюдией к аресту.
К январю 1971 года ситуация достигла критической точки. Оботе принял окончательное решение – физически устранить Амина. Но сначала ему предстояла поездка в Сингапур на саммит Содружества (14-22 января), где он планировал выступить против продажи британского оружия правительству ЮАР времен апартеида. Это была принципиальная позиция в рамках поддержки африканских освободительных движений – именно такие заявления и делали Оботе неприемлемым для западных столиц.
Перед отъездом президент дал письменный приказ об аресте Амина. Операцию должен был возглавить подполковник Августино Аквангу – командир элитного механизированного разведывательного полка в Малире, представитель племени ачоли и личный враг генерала из Западного Нила. В операции также участвовали генеральный инспектор полиции Эринайо Орьема и министр внутренних дел Базиль Батарингая.
План был детально проработан и носил кодовое название «Лимонад». Сначала предполагалось разоружить всех солдат из племен Западного Нила в ключевых подразделениях, изъять ключи от танков и бронетранспортеров, заблокировать арсеналы. Затем – заманить и арестовать всех офицеров, лояльных Амину. И только после этого атаковать самого генерала в его командном пункте в районе Кололо. Если он окажет сопротивление – убить «в перестрелке».
Оботе рассчитывал, что операция пройдет как обычная «техническая чистка» армии – к его возвращению из Сингапура проблемы уже не будет. Амин исчезнет, как исчезали сотни других «неблагонадежных» офицеров в предыдущие годы.
24 января: операция «Лимонад» и стакан пива, который изменил историюВечером 24 января 1971 года подполковник Аквангу приступил к выполнению президентского приказа. В 19:00 он приказал изъять у водителей все ключи от танков и БТР механизированного полка и заблокировать их в ординарской. Затем потребовал от часовых сдать оружие «доверенному» старшине. Под предлогом «экстренного совещания» он заманил всех старших офицеров в офицерский клуб в Менго – и запер их там.
Следующим шагом стал инструктаж солдат из племен ачоли и ланго в солдатском клубе о том, как арестовать Амина в его штабе. Все шло по плану – через несколько часов генерал был бы мертв.
А дальше, по словам участников событий, произошла случайность, которая больше напоминает сценарий боевика или военной комедии.
В 21:00 капрал Филип Айико из Западного Нила зашел в солдатский клуб купить пива. Он обнаружил закрытое совещание, на котором присутствовали только солдаты из ачоли и ланго – его туда не пустили. Заподозрив неладное, он бросился предупреждать соплеменников.
Одновременно из офицерского клуба сумел передать радиосигнал лейтенант Элли Асеани, родственник Амина. Он связался с капралом Майклом Аконью в казармах Малире и велел солдатам из Западного Нила «защищаться любыми средствами – мачете, ножами, топорами».
Когда солдаты-северяне поняли, что их планомерно разоружают, они попытались дать отпор. Но все стрелковое оружие было заперто в арсенале за крепкими стенами и замками. В этот критический момент на базу вернулся капрал Мозес Галла – водитель БТР, прошедший подготовку в Чехословакии и Греции. От зарубежных инструкторов он усвоил полезный навык: как завести двигатель бронемашины с помощью пивной открывашки.
Галла взял открывашку, завел свой БТР и на полном ходу протаранил дверь арсенала. Получив доступ к оружию, мятежные солдаты арестовали подполковника Аквангу и отправили танки спасать Амина, который сначала испугался, думая, что за ним пришли.
Но правда ли это?Эта история, записанная со слов участников спустя полвека после событий, выглядит подозрительно кинематографично для такого серьезного исторического поворота. Стакан пива, который изменил судьбу континента? Солдат с открывашкой, спасший будущего диктатора? Сценарий достоин голливудского фильма.
Более прозаическая версия указывает на заранее спланированную операцию с международным участием. Рассекреченные документы показывают: израильский военный атташе полковник Барух Бар-Лев находился при Амине именно в те критические дни. Британский высокий комиссар Слейтер, проснувшись от звуков перестрелки, первым делом обратился к израильскому дипломату – и нашел его в штабе переворота, где тот «консультировал по вопросам безопасности».
Западные спецслужбы имели все мотивы для смещения просоветского Оботе и могли предупредить Амина о планах его ареста через израильские каналы. Отъезд президента в Сингапур стал идеальным моментом для нанесения ответного удара. Переворот мог быть не импровизацией отчаявшихся солдат, а тщательно подготовленной операцией.
Какая версия ближе к истине? Возможно, обе содержат зерно правды. Амин мог знать о планах Оботе заранее, но конкретные события в казармах развивались именно так, как рассказывают ветераны. Солдаты из Западного Нила искренне верили, что спасают своего командира от внезапной угрозы, не подозревая о большой геополитической игре.
В любом случае, к ночи 25 января у Амина были танки, оружие, мотивированные солдаты и молчаливая поддержка западных спецслужб. Все необходимое для захвата власти в постколониальной Африке.
25 января 1971: ночь длинных штыковКак бы то ни было – была ли это цепь случайностей или заранее спланированная операция – к полуночи Амин оказался в уникальном положении. У него были танки, вооруженные и мотивированные солдаты, 15 часов до возвращения президента и молчаливая поддержка западных спецслужб. Все необходимое для захвата власти в постколониальной Африке.
Переворот начался в 1:30 ночи 25 января – именно в тот момент, когда президентский «Фоккер-27» взлетал из аэропорта Энтеббе, направляясь в Сингапур на встречу лидеров Британского Содружества. Совпадение это или расчет, но время было выбрано идеально.