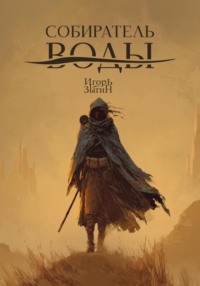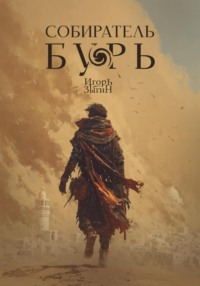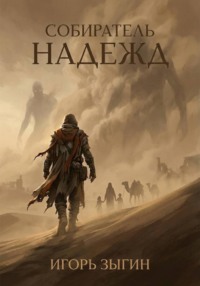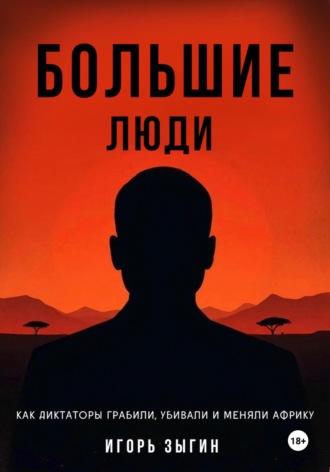
Полная версия
Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку
Операция развивалась с военной точностью. Верные Амину войска одновременно заняли ключевые объекты столицы: радиостанцию «Голос Уганды», центральную почту, банк Уганды, главную тюрьму Лузира и аэропорт Энтеббе. К рассвету советские танки Т-34 (ирония истории: Амин использовал оружие будущих идеологических врагов для захвата власти) контролировали все правительственные здания Кампалы.
Сопротивление было символическим. Верные Оботе подразделения оказались деморализованы и дезорганизованы. Многие офицеры, узнав о происходящем, просто разошлись по домам, не желая умирать за отсутствующего президента. Некоторые бои произошли в Джинье, где гарнизон пытался удержать стратегически важный город, но и там сопротивление было подавлено к утру.
В 6:00 утра радио «Голос Уганды» передало первое обращение «Вооруженных сил Уганды к народу»: «Мы взяли власть в свои руки, чтобы спасти ситуацию… Диктатура, репрессии и несправедливость подошли к концу». Голос диктора дрожал от волнения – он зачитывал смертный приговор угандийской демократии, сам того не подозревая.
Медовый месяц с народомРеакция жителей Кампалы поразила даже организаторов переворота: улицы заполнили ликующие толпы. Особенно радовались баганда, которые видели в падении Оботе возможность восстановления уничтоженного королевства. Для них северянин Оботе был узурпатором, разрушившим пятисотлетнюю монархию и отправившим в изгнание законного кабаку. Амин, обещавший «вернуть достоинство традиционным институтам», казался восстановителем исторической справедливости.
Студенты университета Макерере танцевали на площадях. Даже британские дипломаты писали в депешах о «народном празднике освобождения от тирании». В первые дни Амин блестяще играл роль освободителя: освободил всех политических заключенных, пообещал провести свободные выборы в течение двух лет, заговорил о возвращении конфискованного имущества.
Западная пресса называла его «африканским Пиночетом» – сильным лидером, который наведет порядок и проведет рыночные реформы. В лондонской Times появилась статья с заголовком «Уганда обретает надежду», а в парижском Monde – «Новый лидер для новой Африки».
Оботе, проснувшийся в сингапурском отеле «Рафлз», попытался организовать сопротивление. Он обратился за помощью к СССР, КНР, Танзании. Но было поздно – армия, главный инструмент власти в постколониальной Африке, находилась в руках Амина.
Часть IV. Строительство тирании (1971-1972)Розовое здание на холме НакасероВ августе 1971 года, через полгода после переворота, Амин подписал указ о роспуске существующих спецслужб и создании нового органа государственной безопасности – Государственного бюро расследований. Формально это было техническое переименование, но на практике – рождение одной из самых эффективных машин убийства в истории Африки.
ГБР разместилось в розовом L-образном здании на холме Накасеро в центре Кампалы – в нескольких минутах ходьбы от парламента, верховного суда и англиканского собора. Невинная на вид постройка колониальных времен превратилась в адрес, которого боялся каждый угандиец. Произнести вслух «Накасеро» стало равносильно упоминанию проклятия.
Новую структуру создавали при непосредственном участии израильских инструкторов из Моссада. Полковник Барух Бар-Лев лично курировал подбор кадров и разработку оперативных методов. «Мы обучаем их современным технологиям обеспечения государственной безопасности», – докладывал он в Тель-Авив. Под «современными технологиями» подразумевались наработки израильской разведки: агентурные сети, техническое наблюдение, превентивные операции против потенциальных врагов.
В штате ГБР числилось три тысячи сотрудников, но реальная численность была выше – многие работали под прикрытием в министерствах, университетах, даже церквах. Костяк составляли нубийцы – потомки суданских солдат, осевших в Уганде еще в XIX веке – и недавние иммигранты из Руанды: люди без глубоких корней в угандийском обществе, целиком зависевшие от щедрости режима.
Агентов ГБР можно было узнать издалека: темные очки Ray-Ban (точная копия тех, что носили агенты ЦРУ в голливудских фильмах), яркие гавайские рубашки, новенькие «Тойоты» и «Мерседесы» без номерных знаков. Они ездили вооруженными автоматами Калашникова и пистолетами «Браунинг», не подчинялись обычной полиции и могли арестовать любого без ордера.
Подземелья адаГлавным «новшеством» стал подземный комплекс под зданием ГБР – лабиринт камер и коридоров, соединенный туннелем с президентской резиденцией. По слухам, Амин мог спуститься к особо важным узникам, не показываясь на поверхности. Архитектор проекта, майор Фарук Минава – выпускник британской военной академии Сандхерст, – позже рассказывал, что идею подземных тюрем подсказали израильские консультанты, изучавшие опыт нацистского гестапо.
Аполло Водокелло Лавоко, бывший министр внутренних дел при Оботе, провел в этих подвалах 169 дней. Его воспоминания о «месте, откуда не возвращаются», читаются как «Ад Данте»:
«Камера номер семь называлась «холодильником». Промышленные кондиционеры поддерживали температуру около нуля градусов Цельсия. Заключенных держали голыми. Через два дня у большинства начиналась пневмония.
Камера номер двенадцать – «бассейн». Помещение размером 3 на 4 метра постепенно заполняли водой, нагретой электрическими спиралями до температуры кипятка. Воду добавляли по несколько сантиметров в день. Заключенный мог выбирать – стоять в кипятке или утонуть.
В камере номер пятнадцать пытали молотками. Не для получения информации – просто для удовольствия. Агенты приходили туда после приема марихуаны или местного самогона «варажи». Они говорили, что это «помогает сосредоточиться на работе»».
Легенды рассказывают о специальных «крокодильих ямах», куда сбрасывали живых заключенных, и о холодильниках, набитых отрезанными головами. Лавоко утверждает, что видел головы в морозильных камерах, но «крокодильи ямы» считает выдумкой: «Зачем тратить деньги на экзотику, когда молоток стоит два шиллинга?»
Современные исследователи склонны считать наиболее зловещие детали мифологизацией реальных ужасов. Профессор истории университета Макерере Семакула Кисиро отмечает: «Реальные методы пыток были более прозаичными – избиения, удушения, расстрелы. Легенды о каннибализме и крокодилах появились позже, когда люди пытались объяснить необъяснимое масштабом зла». Но даже скептики соглашаются: масштаб террора был чудовищным.
Субботние казни: ритуал государственного садизмаПо субботам в ГБР устраивались массовые казни – кровавый ритуал, который стал визитной карточкой режима. Амин лично отбирал жертв из еженедельных списков, составлявшихся начальниками отделов. Процедура напоминала абсурдную бюрократию: подозреваемых группировали по категориям («интеллектуалы», «племенные враги», «экономические саботажники»), а диктатор ставил галочки напротив имен, как менеджер, утверждающий список сотрудников к сокращению.
Казни происходили во внутреннем дворе здания. Амин наблюдал с балкона своего кабинета на втором этаже, попивая чай «Эрл Грей» и иногда делая замечания палачам: «Этого бить дольше – он еще не раскаялся в предательстве», «Того можно прикончить быстро – он уже понял свои ошибки».
Свидетель тех лет, работавший садовником в соседнем здании, вспоминал: «По субботам оттуда доносились крики до самого вечера. А в воскресенье утром грузовики увозили мешки. Мы знали, что в мешках, но никто не говорил об этом вслух. Даже дома, даже жене».
Тела убитых грузили в военные машины и вывозили за город. Чаще всего их сбрасывали в озеро Виктория или реку Нил. Крокодилы действительно пожирали трупы – это была не садистской выдумкой, а практическим решением проблемы утилизации. К 1975 году рыбаки на озере регулярно находили в сетях человеческие останки.
Расширяющиеся круги террораТеррор начался с армии, но быстро распространился на все общество. Первыми жертвами стали офицеры и солдаты из племен ачоли и ланго – политической базы свергнутого Оботе. За первый год правления из армии исчезло около 5000 военнослужащих. Их семьи получали официальные уведомления о «демобилизации по состоянию здоровья», но тела никому не выдавали.
Чистки проходили в казармах Джинджи, Мбарары, Морото. Солдат из «неблагонадежных» племен вызывали на ночные построения и расстреливали прямо на плацу из автоматов Калашникова. Тела закапывали в братских могилах или сжигали в ямах. К концу 1971 года в угандийской армии не осталось ни одного офицера из племен ачоли или ланго выше звания лейтенанта.
Следующей целью стали интеллектуалы. Университет Макерере, основанный в 1922 году и считавшийся «Гарвардом Африки», превратился в зону особого риска. Профессоров хватали прямо с лекций по доносам студентов или коллег. Их обвиняли в «подрывной деятельности», «пропаганде империализма» или просто в «неуважении к президенту».
Доктор Фрэнк Кядондо, профессор политологии, исчез в ноябре 1972 года после лекции о «проблемах демократии в Африке». Его жена получила анонимный звонок: «Ваш муж наговорил лишнего. Он больше не вернется». Семья так и не узнала, где он похоронен.
К 1975 году из 2000 преподавателей и студентов университета около 400 были убиты, 600 бежали за границу, еще 300 сидели в тюрьмах. Учебный процесс фактически остановился. «Гарвард Африки» превратился в руины.
Часть V. Популистский разгром (1972)4 августа 1972: божественное откровениеУтром 4 августа 1972 года Амин прибыл на военную базу в западноугандийском городе Торо для обычного инструктажа офицеров. Но вместо стандартного разбора учений он произнес заявление, которое навсегда изменило лицо страны и вошло в историю как один из самых разрушительных популистских жестов XX века.
– Прошлой ночью мне явился Всевышний Аллах, – торжественно объявил президент, стоя перед строем в полной парадной форме. – Всевышний дал мне указание изгнать из нашей страны всех азиатов. Они приехали в Уганду строить железную дорогу из Момбасы в Кампалу. Железная дорога построена. Теперь их миссия завершена, и они должны вернуться туда, откуда пришли.
Офицеры слушали в оцепенении. Азиатское сообщество – 80 тысяч индийцев, пакистанцев и бангладешцев – составляло всего 1% населения Уганды, но контролировало 90% торговли и промышленности. Они владели 5655 зарегистрированными предприятиями, от крупных текстильных фабрик до мелких лавочек. Их изгнание означало экономическое самоубийство страны.
Но Амин рассуждал не экономическими, а политическими категориями. К середине 1972 года его популярность падала. Обещанные демократические выборы откладывались, экономика буксовала, даже в армии росло недовольство. Президенту нужен был эффектный жест, который вернул бы ему поддержку народа и отвлек от реальных проблем.
Азиатское меньшинство стало идеальной мишенью. Они были чужаками – потомками тех, кого британцы привезли в начале XX века для строительства железной дороги «Лунатик-экспресс» от порта Момбаса до озера Виктория. После завершения стройки в 1903 году около 32 тысяч индийских рабочих получили право остаться в Уганде. К 1970-м их потомки контролировали почти всю современную экономику.
Для простых угандийцев азиаты были живым напоминанием о колониальной расовой иерархии: белые управляли, азиаты торговали, африканцы работали на плантациях. После независимости политическая система изменилась, но экономическое неравенство сохранилось.
Угандийский писатель Дэвид Руберангира, живший в те годы в Кампале, вспоминал: «Мой отец тридцать лет работал кассиром в магазине индийца Рамеша Патела. Каждое утро он приходил к восьми, работал до семи вечера, получал 180 шиллингов в месяц. Патель жил в двухэтажном особняке с садом в престижном районе Кололо, отправил троих детей учиться в Лондон, ездил на новом «Мерседесе». Когда Амин объявил, что магазин теперь принадлежит африканцам, отец впервые за много лет улыбнулся».
Девяносто дней до катастрофыАмин дал азиатам 90 дней на эвакуацию – достаточно для сбора вещей, но недостаточно для продажи имущества или перевода капиталов. Это было сознательное решение: диктатор хотел захватить азиатскую собственность целиком, а не получить с нее налоги.
Ограничения были драконовскими: каждая семья могла взять с собой не более 120 долларов наличными (около 750 долларов в современных ценах) и 220 килограммов багажа. Банковские счета блокировались, недвижимость конфисковывалась, предприятия переходили под государственный контроль. Фактически 80 тысяч человек лишались всего, что накапливали поколениями.
Процедура эвакуации напоминала организованное унижение. В аэропорту Энтеббе азиатов заставляли раздеваться догола под предлогом таможенного досмотра. У них отнимали обручальные кольца, наручные часы, семейные фотографии – все, что представляло хотя бы минимальную ценность. Женщин принуждали к «гинекологическим осмотрам» в поисках спрятанных драгоценностей.
Хариш Патель, владелец небольшой типографии в Кампале, вспоминал: «Нам сказали, что мы можем взять только самое необходимое. Я упаковал семейный альбом – сорок лет фотографий, свадьба родителей, рождение детей. На таможне солдат вытряхнул все фотографии и сказал: «Это не необходимое». Растоптал их сапогами. Моя дочь плакала три дня».
Международное сообщество отреагировало вяло и противоречиво. Великобритания была обязана принять около 30 тысяч азиатов с британскими паспортами, но делала это без энтузиазма. Премьер-министр Эдвард Хит заявил парламенту, что «правительство выполнит свои обязательства, но рассчитывает на понимание со стороны других стран Содружества».
Канада согласилась принять 7 тысяч беженцев, но ввела жесткие квоты и требования к образованию. США фактически закрыли границы, заявив о «неготовности инфраструктуры к приему большого числа иммигрантов». Только Индия приняла беженцев без ограничений, хотя многие из них никогда там не жили и не говорили на хинди.
За 90 дней из Уганды выехало 58 741 человек – почти три четверти всего азиатского населения. Оставшиеся 20 тысяч, в основном граждане Уганды, подвергались постоянным притеснениям и в большинстве своем покинули страну к концу 1973 года.
Раздача добычиКонфискованное имущество азиатов стало крупнейшей в истории Уганды операцией по перераспределению собственности. 5655 предприятий, 4315 ферм и ранчо, тысячи домов, магазинов и мастерских были переданы «достойным африканцам» – понятие, которое Амин интерпретировал очень своеобразно.
Главными бенефициарами стали армейские офицеры и высокопоставленные чиновники. Смутс Гуведдеко, еще недавно работавший оператором на телефонной станции, получил звание полковника ВВС и стал владельцем трех текстильных фабрик в Джинье. Исаак Малияманугу превратился из ночного сторожа в контроллера кофейного экспорта – одной из самых доходных должностей в стране. Фрэнсис Ньянгома, водитель грузовика, стал министром торговли и владельцем сети из 47 магазинов в Кампале.
Критерием распределения была не экономическая компетентность, а политическая лояльность. Амин создавал новый правящий класс, полностью зависимый от его милости. Эти люди понимали: их благополучие держится на одной нитке – благосклонности диктатора. Поэтому они были готовы на все ради защиты режима.
Проблема заключалась в том, что управлять современным предприятием оказалось сложнее, чем его захватить. Новые владельцы не понимали технологических процессов, не знали поставщиков, не умели вести бухгалтерский учет. Бывший телефонист плохо разбирался в логистике текстильного производства. Ночной сторож не понимал тонкостей международной торговли кофе.
Результаты были предсказуемы. Текстильная фабрика «Ньянзе» в Джинье, одна из крупнейших в Восточной Африке, остановилась через три месяца после смены владельца – закончилось сырье, а новый директор не знал, где его покупать. Кофеперерабатывающий завод в Букобе проработал полгода на старых запасах, а потом был закрыт из-за поломки оборудования, которое никто не умел чинить.
К концу 1973 года работала только четверть конфискованных предприятий. К 1975 году – менее 10%. Промышленное производство упало в три раза по сравнению с 1970 годом.
«Магендо»: экономика тенейС исчезновением легальной экономики в Уганде расцвел черный рынок. Появилось новое слово – «магендо» (искаженное английское «magazine» – магазин), которым обозначали всю теневую торговлю. В стране, где официальные магазины стояли пустыми, «магендо» был единственным способом что-то купить.
Простейшие товары превратились в дефицит. Мыло, которое раньше стоило 2 шиллинга, на черном рынке продавали за 50. Сахар подорожал в 25 раз. Бензин, если его можно было найти, стоил дороже виски. Лекарства исчезли из больниц – их скупали спекулянты и перепродавали в десять раз дороже.
К 1976 году буханка хлеба стоила 30 шиллингов – полтора дня зарплаты учителя. Килограмм мяса – 80 шиллингов, почти недельный заработок клерка. Семьи среднего класса, которые при азиатах жили скромно, но достойно, превратились в нищих.
Мэри Акол, медсестра больницы Мулаго, вспоминала: «Мы оперировали при свечах, потому что не было топлива для генераторов. Шили кетгутом, который стирали и использовали повторно. Анестезии не было – делали операции под местным наркозом из травы. Дети умирали от болезней, которые легко лечатся аспирином, но аспирина не было».
Образовательная система рухнула вместе с экономикой. В школах не было учебников, тетрадей, мела. Учителя месяцами не получали зарплату и были вынуждены торговать на рынках, чтобы прокормить семьи. К 1978 году половина школ в стране закрылась. Целое поколение угандийских детей выросло неграмотными.
Цена популизма
Парадокс заключался в том, что «экономическая война» оставалась самой популярной мерой за все время правления Амина. Несмотря на коллапс экономики, многие угандийцы поддерживали изгнание азиатов как акт исторической справедливости.
Популярность объяснялась просто: впервые за десятилетия простые африканцы получили шанс стать собственниками. Солдат, клерк, мелкий торговец внезапно становился владельцем магазина, мастерской или фермы. Социальные лифты, заблокированные колониальной системой, заработали на полную мощность.
Питер Секанди, бывший водитель автобуса, получил сеть из 12 магазинов в пригороде Кампалы. Через год 10 из них закрылись, но два продолжали работать, принося доход в 800 шиллингов в месяц – в четыре раза больше его прежней зарплаты. «Конечно, я поддерживал президента, – говорил он годы спустя. – Впервые в жизни я был хозяином, а не прислугой».
Эта поддержка объясняет, почему Амин продержался у власти восемь лет, несмотря на экономическую катастрофу. Его база состояла не из идеологических сторонников, а из прагматичных бенефициаров – людей, которые получили от режима больше, чем потеряли.
Часть VI. Геополитические качели (1972-1976)Разрыв с «традиционными друзьями»Медовый месяц Амина с Западом закончился из-за банального торга. В марте 1972 года угандийский диктатор обратился к израильскому правительству с просьбой о поставке современных реактивных истребителей «Мираж» или «Фантом». Формально оружие требовалось для «защиты от возможной агрессии Танзании», но Амин не скрывал своих планов по аннексии танзанийского острова Укереве на озере Виктория.
Израильское руководство оказалось в сложном положении. С одной стороны, Амин был ценным союзником против арабского влияния в регионе. С другой – поставка наступательного оружия неуравновешенному диктатору грозила втянуть Израиль в региональный конфликт. После недель размышлений Тель-Авив дал вежливый отказ, сославшись на «технические сложности с обучением пилотов».
Для Амина, привыкшего к тому, что союзники выполняют все его просьбы, это было неприемлемым унижением. Он воспринял отказ как предательство и начал искать альтернативные источники оружия.
Ливийские нефтедоллары и советское оружие
Такая альтернатива нашлась быстро. Муаммар Каддафи, пришедший к власти в Ливии в результате военного переворота 1969 года, активно искал союзников для реализации своих грандиозных планов. 30-летний полковник мечтал стать лидером панарабского и панафриканского движения, объединить весь континент под знаменем борьбы против «западного империализма». Огромные нефтяные доходы – после национализации британских и американских компаний Ливия получала миллиарды долларов в год – давали ему ресурсы для воплощения амбиций.
17 марта 1972 года Амин объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Все израильские советники получили 24 часа на сборы и отбытие из страны. В аэропорту Энтеббе их лично провожал полковник Бар-Лев – тот самый человек, который полтора года назад помогал планировать переворот.
В телеграмме генеральному секретарю ООН Амин объяснил свое решение «поддержкой справедливой борьбы палестинского народа против сионистской агрессии». На самом деле причина была банальнее: новый покровитель предлагал лучшие условия сотрудничества.
Каддафи оказался гораздо более щедрым спонсором, чем Израиль и Британия вместе взятые. За первый год сотрудничества Амин получил от Ливии 25 миллионов долларов наличными – сумму, превышавшую весь годовой бюджет Уганды. Кроме того, ливийцы поставили партию танков Т-55, несколько тысяч автоматов АК-47 и 10 транспортных самолетов Ан-12.
Советский Союз увидел в Уганде удобную возможность для расширения влияния в Восточной Африке. После разрыва Амина с Израилем советские инструкторы заменили израильских, обучая агентов ГБР «передовым методам обеспечения государственной безопасности». На практике это означало освоение техник КГБ: оперативную психологию, методы вербовки агентуры, организацию системы доносов.
СССР поставил Уганде 12 истребителей МиГ-21, батарею зенитно-ракетных комплексов С-75 «Двина» и 50 танков Т-54. Советские летчики-инструкторы обучали угандийских пилотов, а офицеры ГРУ консультировали ГБР по вопросам контрразведки.
Для Москвы Амин был не идеологическим союзником, а удобным инструментом давления на прозападные режимы в регионе. Советское руководство не питало иллюзий относительно характера угандийского диктатора, но рассматривало его как полезную фигуру в большой геополитической игре.
Театр абсурда: психологическая война против ЗападаРазорвав с прежними союзниками, Амин с удвоенной энергией взялся за психологическую войну против них. Его методы были одновременно примитивными и эффективными – он использовал абсурд как оружие.
В 1975 году он присвоил себе титул CBE, который теперь расшифровывался не как «Commander of the British Empire» (Командор ордена Британской империи), а как «Conqueror of the British Empire» (Завоеватель Британской империи). В том же году он направил в Лондон официальную ноту с предложением «освободить угнетенный шотландский народ от английского ига» и стать посредником в переговорах между Эдинбургом и Лондоном.
Премьер-министр Джеймс Каллаган ответил вежливым отказом, но Амин не сдавался. Он регулярно отправлял «братские приветы шотландским борцам за независимость» и предлагал военную помощь «в борьбе против английских угнетателей». В 1977 году он даже назначил себя «почетным президентом Шотландской республики» и заказал для этого случая специальную медаль.
Кульминацией стала телеграмма королеве Елизавете II по случаю ее серебряного юбилея в 1977 году: «Ваше Величество правила долго и мудро, но пришло время передать корону более достойному. Предлагаю свои услуги в качестве регента до совершеннолетия принца Чарльза. В знак доброй воли готов жениться на принцессе Анне и обеспечить ей достойную жизнь в Африке».
Эти выходки могли показаться безобидными чудачествами, но имели серьезную цель: они отвлекали внимание мировой прессы от реальных преступлений режима. Журналисты писали о забавных телеграммах «Последнего короля Шотландии», а не о массовых убийствах в подвалах Накасеро.
27 июня 1976: неожиданные гости в ЭнтеббеУтром 27 июня 1976 года диспетчеры аэропорта Энтеббе получили экстренное сообщение от экипажа рейса 139 Air France, следовавшего из Тель-Авива в Париж через Афины: на борту захватчики, самолет требует разрешения на посадку для дозаправки. Через час Airbus А-300 с 248 пассажирами и членами экипажа приземлился на главной взлетно-посадочной полосе.
Угонщики оказались международной группой: два палестинца из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и двое немцев из левацкой организации «Революционные ячейки». Их лидер, Вилфрид Бозе, бывший студент франкфуртского университета, требовал встречи с президентом Уганды.
Амин прибыл в аэропорт через два часа в сопровождении охраны и телевизионной съемочной группы. Он приветствовал террористов как «борцов за освобождение Палестины» и заявил журналистам, что Уганда «предоставляет убежище всем, кто сражается против империализма и сионизма».
На самом деле решение поддержать угонщиков было продиктовано не идеологией, а расчетом. Амин видел в кризисе шанс показать себя как влиятельного посредника на международной арене. Он рассчитывал на благодарность арабского мира и дополнительную финансовую помощь от Ливии и Саудовской Аравии.