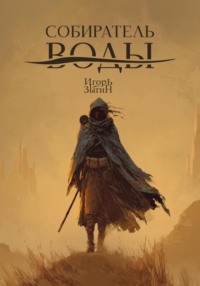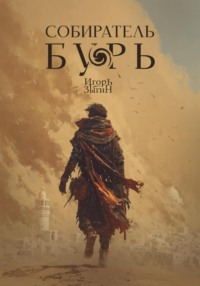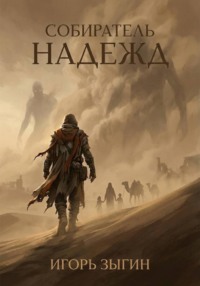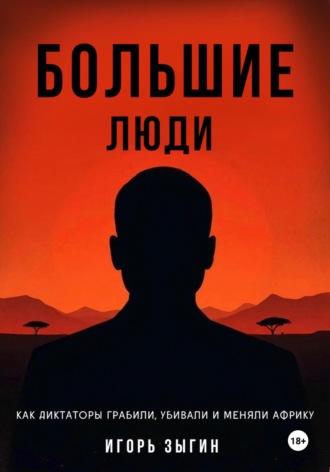
Полная версия
Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку
248 пассажиров и членов экипажа провели неделю в аду. Их держали в старом терминале аэропорта – полуразрушенном здании без кондиционеров, с заколоченными окнами и протекающей крышей. Температура воздуха достигала 45 градусов Цельсия. Воду давали дважды в день по стакану на человека. Кормили рисом с мухами.
3 июля террористы освободили 147 пассажиров неиудейского происхождения, отправив их во Францию. Оставшиеся 101 человек – все израильтяне или евреи других национальностей – понимали, что их ждет смерть. Среди заложников была 75-летняя Дора Блох, британская подданная, которая за день до рейда прилетела в Израиль навестить сына.
3 июля: 53 минуты в ЭнтеббеВечером 3 июля четыре транспортных самолета С-130 «Геркулес» взлетели с израильской авиабазы Офир на Синайском полуострове. На борту находилось около 200 бойцов элитных подразделений «Сайерет Маткаль» и «Шальдаг» под командованием подполковника Йонатана Нетаньяху – старшего брата будущего премьер-министра Израиля.
Операция была спланирована как хирургическая. Разведка установила точное расположение заложников, террористов и угандийской охраны. Специально для рейда построили макет терминала Энтеббе, где отрабатывали каждое движение.
В 23:00 первый С-130 приземлился на взлетно-посадочной полосе. Из грузового отсека выехал черный «Мерседес» – точная копия президентского автомобиля Амина. Угандийские часовые приняли его за кортеж диктатора и не открыли огонь.
Штурм терминала начался в 23:07 и продолжался 53 минуты. Израильские коммандос уничтожили всех семерых террористов и около 40 угандийских солдат, освободили 102 заложника. Одновременно саперы взорвали на стоянке 11 угандийских истребителей МиГ-17 и МиГ-21 – весь боеспособный парк ВВС страны. Чтобы никто не сбил улетающий самолёт.
Цена операции: три погибших заложника, один раненый коммандос и смерть командира подполковника Нетаньяху, который получил пулю снайпера при штурме диспетчерской вышки.
В 00:15 4 июля последний израильский самолет покинул угандийское воздушное пространство. Через 8 часов освобожденные заложники приземлились в Тель-Авиве под овации толпы и вспышки фотокамер.
Унижение и местьДля Амина операция «Энтеббе» стала ошеломляющим унижением. Израильтяне не только провели военную операцию на его территории, но и показали всему миру полную беспомощность угандийских вооруженных сил. Элитная президентская гвардия, охранявшая аэропорт, была уничтожена за час горсткой коммандос.
Международная реакция добила престиж диктатора. Операцию «Энтеббе» восхваляли как триумф над терроризмом. Израильских пилотов принимали как героев в столицах всего мира. Угандийского диктатора изображали как жалкого пособника террористов, неспособного защитить собственную территорию.
Амин ответил единственным доступным ему способом – террором против беззащитных. 5 июля он приказал убить Дору Блох, которая накануне операции была госпитализирована в больницу Кампалы с приступом. 75-летнюю британку вывезли из больницы агенты ГБР и застрелили на дороге в аэропорт. Ее тело сожгли, а пепел развеяли над озером Виктория.
В тот же день началась резня кенийцев в Уганде. Амин обвинил кенийское правительство в пособничестве израильской операции (что было правдой – Кения предоставила свое воздушное пространство и аэродром для дозаправки) и приказал «очистить страну от кенийских шпионов». За неделю было убито около 3000 кенийских граждан, работавших в Уганде.
Операция «Энтеббе» окончательно превратила Амина из экзотического союзника в международного изгоя. Даже те западные политики, которые до сих пор находили оправдания его «эксцессам», больше не могли игнорировать очевидное: угандийский диктатор стал пособником международного терроризма и угрозой региональной стабильности.
Часть VII. Крах (1976-1979)Признаки разложенияК концу 1970-х режим Амина разлагался изнутри. Экономика лежала в руинах, и даже щедрая ливийская помощь не могла компенсировать полное отсутствие производства. Страна жила за счет внешних субсидий и разграбления остатков колониального наследства.
В армии участились фракционные столкновения. Солдаты из разных племен воевали друг с другом за контроль над прибыльными постами. Офицеры открыто торговали оружием и боеприпасами на черном рынке. Дисциплина рухнула – приказы исполнялись только под дулом автомата.
К 1978 году армия, которая когда-то считалась одной из лучших в Черной Африке, превратилась в карикатуру на военную силу. Амин не только свел к нулю военные возможности своей страны, но и «исламизировал» ее на 40 процентов, заменив профессиональных солдат фанатиками и наемниками. То, что раньше было угандийской национальной армией, стало армией, где доминировали иностранцы – нубийцы, суданцы, палестинцы, ливийцы.
В 1977 году произошло две серьезные попытки военного переворота. В марте группа офицеров из племени ланго попыталась захватить радиостанцию и объявить о свержении диктатора. Заговор был раскрыт агентами ГБР в последний момент – 23 офицера расстреляли без суда. В октябре подобную попытку предприняли нубийские полковники, недовольные засильем соплеменников Амина в высшем командовании. Их постигла та же участь.
Амин понимал: чтобы удержать власть, нужно отвлечь армию от внутренних проблем и дать ей возможность заработать в бою. Он давно присматривался к соседней Танзании, где правил его личный враг Джулиус Ньерере – интеллектуал и моралист, который осуждал угандийский режим и предоставил убежище политическим беженцам.
Последняя авантюра: война за Кагеру1 октября 1978 года угандийские войска внезапно пересекли границу в районе Кагеры и оккупировали значительную часть танзанийской территории к западу от озера Виктория. Амин объявил эту землю «исторически угандийской» и пообещал «восстановить справедливые границы, нарушенные колонизаторами».
Реальные мотивы были прозаичнее. Кагера была богатым сельскохозяйственным районом, где выращивали кофе и бананы. Ее захват мог частично компенсировать продовольственный кризис в Уганде. Кроме того, Амин рассчитывал на быструю победу, которая подняла бы его престиж в армии и отвлекла от экономических проблем.
Вторжение началось с артиллерийского обстрела городка Букоба. 2000 угандийских солдат при поддержке танков Т-55 заняли аэропорт и правительственные здания. Местное ополчение не оказало серьезного сопротивления – к вечеру весь выступ был под контролем захватчиков.
Амин лично прибыл в Букобу и провозгласил «воссоединение Кагеры с материнской Угандой». На митинге он заявил: «Эта земля принадлежала нашим предкам тысячи лет. Колонизаторы отняли ее, но справедливость восторжествовала». Танзанийское население встретило «освободителей» молчанием.
Но триумф был обманчивым. Угандийские войска, привыкшие к террору против безоружных, вели себя как обычно. Они грабили дома, угоняли скот, убивали мирных жителей. Около 1500 танзанийцев были расстреляны без всякого повода. Еще 40 тысяч бежали на юг, в леса и болота. То, что задумывалось как освободительная операция, превратилось в бессмысленную резню.
Ньерере наносит ответный ударДжулиус Ньерере оказался не из тех, кто прощает территориальные захваты. 71-летний президент Танзании, несмотря на пацифистские убеждения, объявил о мобилизации и поклялся «выбить захватчиков с нашей земли».
У Ньерере были серьезные преимущества, которых не понимал Амин. В отличие от Уганды, где Амин разрушил все институты государства, Танзания сохранила функционирующую систему управления. Правда, эта система тоже была авторитарной – Ньерере правил однопартийным государством с 1965 года, запретив всю политическую оппозицию. Но его диктатура была патерналистской, а не садистской.
После мятежа танзанийских войск в 1964 году Ньерере сделал то, что не решился сделать ни один другой африканский лидер: полностью демонтировал колониальную армию и создал совершенно новые вооруженные силы.
Танзанийские народные силы обороны (TPDF) строились по принципу «народной армии под гражданским контролем». С самого основания в войска внедрялась идея служения не диктатору, а народу. Офицеры получали политическое образование наряду с военным. Солдат учили, что они защищают не режим, а родину. В результате Танзания стала единственной страной в Восточной Африке, которая ни разу не пережила военного переворота.
Ньерере приказал провести полную мобилизацию – и за несколько недель танзанийская армия выросла с 40 тысяч до 150 тысяч человек. В ряды встали не только регулярные войска, но и полицейские, тюремные надзиратели, студенты национальной службы, добровольцы из числа гражданских.
В то время как общая численность угандийских вооруженных сил составляла всего 20-21 тысячу человек, причем на передовой в любой момент находилось менее 3000 солдат. Более того, угандийская армия страдала от постоянных дезертирств – солдаты бежали целыми подразделениями, не желая воевать за режим, который не платил им жалованье месяцами.
Кроме того, Ньерере смог объединить различные группы угандийских эмигрантов в единый Фронт национального освобождения Уганды (ФНОУ). В него вошли сторонники свергнутого Оботе, монархисты, требовавшие восстановления королевства Буганда, и даже бывшие офицеры армии Амина, бежавшие после неудачных переворотов.
Каддафи попытался спасти своего протеже, направив в Уганду экспедиционный корпус из 3000 ливийских солдат с танками и артиллерией. Но даже это подкрепление не могло исправить фундаментальные пороки угандийской армии.
Развал «непобедимой» армииТанзанийское контрнаступление началось в ноябре 1978 года массированным артиллерийским обстрелом с применением систем залпового огня БМ-21 «Град». Удар оказался полной неожиданностью для угандийского командования. Несмотря на предупреждения разведки о танзанийских приготовлениях, высшие офицеры проигнорировали донесения и не создали никаких укреплений. Вместо подготовки к обороне они занимались грабежом захваченных территорий.
TPDF при поддержке угандийских эмигрантов быстро выбили захватчиков из Кагеры и в январе 1979 года перешли в наступление вглубь Уганды. Сопротивление угандийских войск было символическим.
Армия, которая восемь лет терроризировала мирное население, оказалась совершенно неспособной к настоящей войне. Солдаты, привыкшие к безнаказанности при расправах с безоружными, растерялись перед лицом организованного противника. Целые батальоны сдавались без боя или просто разбегались по домам.
Полковник Джума Башир, командир 3-го пехотного батальона, позже рассказывал: «Мои солдаты умели только грабить и убивать мирных. Когда на них пошли настоящие танки с профессиональными экипажами, они бросили оружие и побежали. Я остался один в штабе с радистом и поваром».
Офицеры первыми бежали с поля боя, прихватив армейскую казну и все, что можно было унести. Генерал Мустафа Адриси, командующий южным фронтом, исчез вместе с полковым золотым запасом – 300 килограммами слитков, предназначенных для выплаты жалованья. Его нашли через неделю в Найроби, где он пытался продать золото индийским ювелирам.
К марту 1979 года танзанийские войска заняли половину территории Уганды. Амин метался по стране, пытаясь мобилизовать последние резервы. Он призывал «всех патриотов встать на защиту родины от империалистической агрессии», но его призывы оставались без ответа. Народ, который восемь лет держали в страхе, не видел смысла умирать за режим, принесший только страдания.
11 апреля 1979: конец империиКампала пала без боя. Утром 11 апреля танзанийские танки Т-54 (ирония истории: то же оружие, которое СССР поставлял Амину) вошли в угандийскую столицу под приветственные крики жителей. Солдаты освободительной армии раздавали детям конфеты и сигареты, взрослым – первые газеты без портрета диктатора на первой полосе.
Амин покинул Кампалу накануне на вертолете Ми-8, прихватив самое ценное: четырех официальных жен, двадцать признанных детей (от разных женщин у него было около 40 отпрысков), нескольких любовниц и два чемодана с золотыми слитками. По легенде, он также захватил мумифицированную голову одного из своих врагов, но документальных подтверждений этому нет.
Последней базой диктатора стал город Араа в Западном Ниле – сердце его родной территории. Здесь он еще надеялся организовать сопротивление, опираясь на племенную солидарность. Но даже соплеменники отвернулись от него. Местные вожди племени каква тайно вели переговоры с наступающими танзанийцами, предлагая выдать Амина в обмен на гарантии безопасности.
18 апреля последние сторонники диктатора сложили оружие. Амин с остатками семьи пешком перешел границу с Суданом, а оттуда на ливийском самолете улетел в Триполи. Восьмилетняя диктатура закончилась бесславным бегством.
В Кампале начались стихийные празднества. Люди танцевали на улицах, жгли портреты диктатора, громили здания ГБР. В подвалах Накасеро обнаружили камеры пыток и груды человеческих костей. Многие угандийцы впервые за восемь лет произнесли вслух имя Амина – и выругались.
Убежище в изгнанииКаддафи принял своего протеже без особого энтузиазма. Амин был полезен как союзник, но как беженец представлял сплошные проблемы. Он продолжал считать себя «законным президентом Уганды в изгнании», требовал военной поддержки для возвращения к власти и вел себя как глава государства.
В 1980 году Амин нашел последнее пристанище в Саудовской Аравии. Саудиты руководствовались религиозными соображениями: как мусульманин, Амин имел право на защиту исламского государства. Его поселили в скромной вилле в Джидде и назначили ежемесячную стипендию в 1400 долларов.
23 года изгнания прошли тихо и бесславно. Амин изучал Коран, играл в теннис, рыбачил в Красном море. Соседи знали его как «угандийского пенсионера», который живет на содержании правительства.
16 августа 2003 года в 8:20 утра Иди Амин умер от полиорганной недостаточности в военном госпитале Джидды. Ему было 78 лет. Похоронили его в тот же день скромно, без помпы. Надгробие гласило: «Иди Амин Дада. 1925-2003. Да упокоит Аллах его душу».
Часть VIII. Что осталосьРуины страны и человеческие потериВ апреле 1979 года международные журналисты впервые за восемь лет получили свободный доступ в Уганду. То, что они увидели, потрясло даже видавших виды репортеров.
Промышленность была мертва. Из 400 крупных предприятий, существовавших в 1970 году, работали только 37. Текстильные фабрики Джинджи стояли с разбитыми окнами и ржавым оборудованием. В главной больнице Мулаго из 800 коек работали 120. Половина школ закрылась. Целое поколение угандийцев выросло неграмотными.
Точное число жертв режима до сих пор остается предметом споров. Международная комиссия юристов в 1974 году оценивала потери в 80 тысяч человек за три года. Более поздние исследования увеличили эту цифру до 300-500 тысяч за весь период диктатуры.
Профессор демографии университета Макерере Джон Блэкер, анализировавший данные переписей 1969 и 1980 годов, пришел к выводу о «демографической дыре» – дефиците около 400 тысяч человек в возрастных группах от 15 до 50 лет. Для 12-миллионной страны это означало, что каждый двадцать четвертый угандиец был убит по политическим мотивам.
Особенно пострадали образованные слои населения. Из 2000 преподавателей и студентов университета Макерере к 1979 году в живых оставались менее 800. Из 400 врачей, практиковавших в Уганде в 1971 году, в стране остались 67. Из 800 судей и адвокатов – 23. Интеллектуальная элита нации была практически уничтожена.
Этнические потери были еще более драматичными. Племена ачоли и ланго потеряли около трети взрослого мужского населения. В некоторых районах целые деревни исчезли с лица земли – жители были убиты, а дома сожжены. Эти территории до сих пор называют «мертвыми зонами».
Мария Адонг из деревни Лирагиру в области Ачоли вспоминала: «В 1971 году у нас было 340 домов. Вернулись в 1980 – стояло 12. Остальные сгорели или развалились. Из 1600 жителей нашлись 89. Мы до сих пор не знаем, где похоронены наши мужья, братья, сыновья. Земля там сплошь белая от костей».
Долгие последствия: социальная травма и новые циклы насилияПадение Амина не принесло мира. Наоборот, оно открыло новый период нестабильности и мести. В декабре 1980 года к власти вернулся Милтон Оботе, который начал собственную кампанию террора против бывших сторонников диктатора.
Возвращение Оботе поддержали племена ачоли и ланго, жаждавшие мести за восемь лет геноцида. Северные районы, откуда происходил Амин, подверглись коллективному наказанию. Солдаты новой армии убивали всех, кто мог сотрудничать с прежним режимом, – или просто принадлежал к «неправильным» племенам.
«Война в буше» 1981-1985 годов унесла еще 100 тысяч жизней. Йовери Мусевени, будущий президент Уганды, поднял партизанскую войну против Оботе. Страна окончательно погрузилась в хаос: центральная власть контролировала только столицу, в провинции хозяйничали вооруженные банды, экономика существовала только на черном рынке.
Лишь в 1986 году, когда Мусевени окончательно победил, Уганда начала медленно выходить из кровавого хаоса. Но процесс восстановления растянулся на десятилетия.
К 1985 году, через шесть лет после падения диктатуры, Уганда оставалась одной из самых бедных стран мира. ВВП на душу населения составлял 120 долларов в год – в три раза меньше, чем в 1970 году. Детская смертность достигла 180 на тысячу новорожденных. Продолжительность жизни упала до 43 лет.
Только к 2010 году экономика Уганды превысила уровень 1970 года. Потребовалось 40 лет, чтобы залечить раны, нанесенные восемью годами диктатуры. И это при условии грамотного управления, международной помощи и отсутствия новых конфликтов.
Что говорят могилыВ 1990-х годах, когда в Уганде наконец установился мир, начались археологические раскопки в местах массовых захоронений. Находки ужасали даже профессиональных криминалистов.
Под бывшими казармами в Мбараре обнаружили братскую могилу с останками 847 человек. Черепа имели характерные повреждения от ударов молотками. В лесу возле Лузиры нашли яму с костями 312 детей в возрасте от 5 до 15 лет – их убили в 1973 году за то, что их родители принадлежали к племени ачоли.
Самая крупная находка была сделана в 1997 году возле дамбы Оуэн-Фоллс на Ниле. Строители, ремонтировавшие плотину, наткнулись на массовое захоронение почти 4000 человек. Судебно-медицинская экспертиза показала: людей убивали в период с 1972 по 1978 год. Многие были связаны проволокой и имели следы пыток.
Доктор Силвия Тамале, руководившая эксгумацией, рассказывала: «Мы работали в масках – запах разложения не выветрился и через 20 лет. Находили клочки одежды, обручальные кольца, очки. В одной яме лежали 47 черепов с дырками от гвоздей – их забивали в голову еще живым людям. Я занимаюсь судмедэкспертизой 30 лет, но такого не видела».
Культура молчанияПсихологические последствия террора оказались не менее разрушительными, чем экономические. В угандийском обществе сформировался синдром, который психологи называют «культурой молчания» – люди до сих пор боятся открыто говорить о годах диктатуры.
Доктор Стелла Нейма, изучающая постконфликтную травму, отмечает: «Многие семьи до сих пор не рассказывают детям, что произошло с их дедушками и бабушками. Говорят просто: «Они уехали» или «Заболели и умерли». Правда слишком страшна для передачи следующим поколениям».
Исследование 2010 года показало: 78% угандийцев старше 50 лет имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства. Многие до сих пор просыпаются от ночных кошмаров, в которых за ними гонятся агенты ГБР. Некоторые не могут видеть темные очки или слышать звук мотоциклов – именно на мотоциклах ездили убийцы из тайной полиции.
В центре Кампалы, недалеко от того места, где стояло здание ГБР (снесено в 1986 году), установлен скромный памятник жертвам диктатуры. Это простая гранитная плита с именами 1200 человек – тех, чьи имена удалось установить из сотен тысяч погибших.
Каждый год 25 января – в годовщину переворота – сюда приходят старики с фотографиями пропавших родственников. Они ставят цветы, зажигают свечи, молятся. Молодежь проходит мимо, не останавливаясь – для тех, кто родился после 1980 года, история Амина кажется далекой легендой.
Последние свидетелиДжозеф Кони, последний выживший агент ГБР (не путать с лидером «Армии сопротивления Господа»), живет в трущобах Кампалы под чужим именем. В 1970-х он отвечал за «обработку» политических заключенных в подвалах Накасеро. После падения режима бежал в Судан, но в 1995 году вернулся по программе амнистии.
В интервью 2015 года 73-летний старик согласился говорить при условии анонимности: «Я делал свою работу. Получал приказы и выполнял их. Если бы отказался – убили бы меня самого. Вы думаете, у нас был выбор? Убить или быть убитым – других вариантов не было».
Он подтвердил слухи о личном участии Амина в пытках: «Большой человек приходил по субботам. Выбирал самых важных врагов и смотрел, как их убивают. Иногда давал советы: «Этого дольше», «Того быстрее». Он говорил, что это часть президентских обязанностей – лично контролировать устранение угроз государству».
О каннибализме Кони отозвался осторожно: «Ходили слухи, что он ел печень особо опасных врагов. Я сам не видел, но один раз приносили из кухни резиденции странное мясо. Сказали – для особого ритуала. Может быть, правда, может быть, легенда. Кто теперь разберет?»
Амин в массовой культуреПарадоксально, но в мировой массовой культуре Амин превратился в комический персонж – экзотического диктатора с чувством юмора. В 2006 году вышел фильм «Последний король Шотландии» с Форестом Уитакером в главной роли. Актер получил «Оскар» за «мастерское изображение харизматичного тирана», а сам фильм собрал 48 миллионов долларов.
Угандийская общественность восприняла фильм как оскорбление памяти жертв. «Они превратили нашу трагедию в развлечение, – говорила Сара Кьолами, потерявшая в годы диктатуры мужа и двух сыновей. – Показали Амина как обаятельного злодея, а не как мясника. Для них это кино, для нас – незаживающая рана».
Рассекреченные в 2000-х годах архивы окончательно развеяли миф о неведении западных правительств. В депеше британского высокого комиссара от сентября 1971 года говорилось: «Несомненно, генерал прибегает к методам, которые в Европе сочли бы неприемлемыми. Однако в африканском контексте его жесткость может быть оправдана необходимостью поддержания порядка. Рекомендую продолжить сотрудничество».
Предупреждение будущемуИстория Иди Амина – это не просто африканская трагедия, а универсальный урок о хрупкости цивилизации. Она показывает, как быстро может рухнуть нормальное общество, если власть попадает в руки к человеку без моральных ограничений.
Уганда 1971 года была не самой отсталой африканской страной. У нее были университет, современная экономика, относительно образованное население. Казалось, что институты достаточно прочны, чтобы выдержать смену власти. Но восемь лет показали: никто не застрахован от тирании, если общество не готово ее остановить.
Амин не был инопланетянином или мутантом. Он был обычным человеком, которого особые обстоятельства превратили в монстра. Колониальная система научила его насилию. Политические расчеты дали ему власть. Международная поддержка обеспечила безнаказанность. Народная пассивность позволила ему действовать.
В каждой стране есть потенциальные Амины – люди, готовые на все ради власти. Единственная защита от них – бдительность общества и готовность сказать «нет» на самых ранних стадиях, пока еще не поздно.
Угандийцы выучили этот урок ценой сотен тысяч жизней. Остается надеяться, что остальной мир не забудет их жертву.
Глава 2. Центрально-Африканская Республика. Жан-Бедель Бокасса – «Император на нищей земле»
Корона за четверть бюджета
Палящее африканское солнце нещадно жгло красные ковры, расстеленные по футбольному полю стадиона имени Жан-Беделя Бокассы в Банги. 4 декабря 1977 года. Четыре тысячи гостей в парадных европейских костюмах и традиционных африканских одеждах томились на трибунах, обмахиваясь программками церемонии. Дипломаты в темных очках переглядывались с плохо скрываемым изумлением. Журналисты лихорадочно делали заметки. Местная знать в ярких бубу старалась сохранить торжественные лица, хотя многие втайне недоумевали: зачем их президенту понадобилась эта дорогостоящая театральная постановка?
В центре поля возвышался двухтонный золотой трон в виде гигантского орла – творение нормандского скульптора Оливье Бриса, над которым тридцать французских ремесленников трудились целый год в специальной мастерской в Жизоре. Рядом стояла карета, запряженная восемью белыми лошадьми, доставленными авиарейсом из Бельгии. Стоимость одной только авиаперевозки лошадей обошлась в сумму, на которую можно было содержать сельскую школу целый год.
Под звуки 120-местного французского военного оркестра на поле медленно вышел 56-летний мужчина среднего роста. На нем был золотой мундир, расшитый жемчугом, – точная копия коронационных одежд Наполеона I, изготовленная парижским домом «Гизелин» в сотрудничестве с Пьером Карденом. Горностаевая мантия весом тридцать килограммов волочилась за ним по красному ковру. В правой руке он сжимал алмазный скипетр, в левой – державу. На голове сверкала корона работы парижских ювелиров дома «Артюс Бертран» – восемь тысяч бриллиантов, включая центральный камень в восемьдесят карат, общей стоимостью два с половиной миллиона долларов.