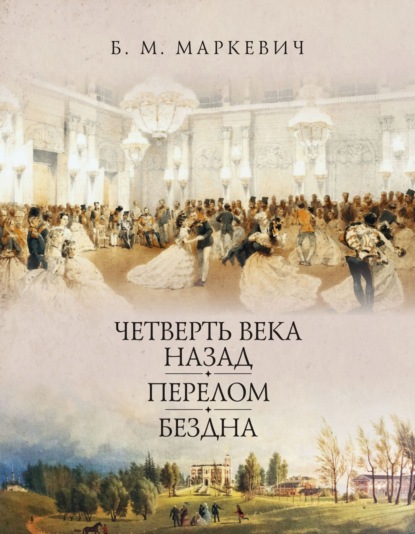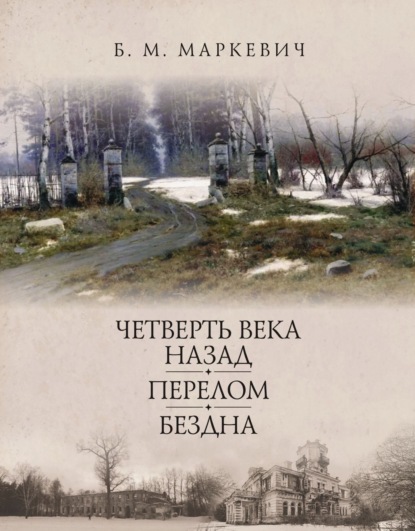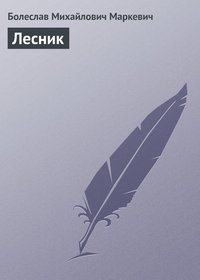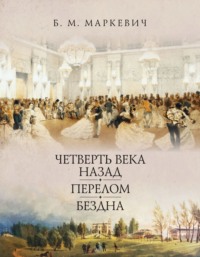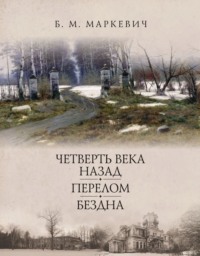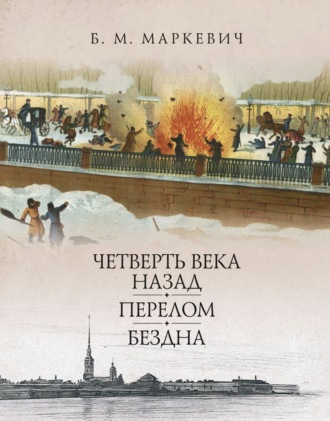
Полная версия
Бездна. Книга 3
Когда он, как узнал это впоследствии, на десятый день пришел в сознание, была ночь. Он лежал на постели в довольно просторной, незнакомой ему комнате, освещенной низкою лампой, заставленною от него каким-то развернутым большим фолиантом, но тусклый пламень которой дозволил ему различить две человеческие фигуры, безмолвно и недвижно сидевшие у него в ногах. Одною из них был доктор Фирсов, другою – жена… Он скорбно вспоминал теперь: он узнал ее тотчас же и тут же закрыл поспешно глаза под наитием какого-то досадливого, чуть не злого ощущения. Он как-то сразу сообразил все: он был ранен, она извещена была об этом и приехала, не теряя минуты, оставив детей на руках «какой-нибудь Лизаветы Ивановны», – приехала с домашним врачом своим, со всеми средствами к успешному его врачеванию, с несказанною тревогой в душе, с неотступною решимостью не покидать его постели до его выздоровления… или смерти… Ко всем винам его пред нею присоединилась еще новая ответственность за все те муки, которые испытывала она теперь из-за него, присоединялась и тяжесть благодарности за ее «непрошенное великодушие»…
И долго не был он в состоянии одолеть это чуть не враждебное чувство к ней, к этому преданному и тихому женскому существу, исхудавшему и бледному, как наволока подушки, на которой покоилась его забинтованная голова, молча и не отрываясь глядевшему на него своими впалыми, казавшимися теперь огромными, темно-карими глазами. Долго еще, пользуясь своею действительною физическою слабостью, он притворялся, что не замечает ее присутствия, избегал ее взгляда, не говорил ни с ней, ни с «ее» доктором, внушавшим ему теперь со своей стороны какое-то отвращение, и отвечал на их вопросы отрывистыми междометиями, имевшими целью отнять у них надежду на дальнейшие объяснения… Но угадывала или нет Александра Павловна то, что происходило на душе у ее мужа, он ни разу не мог заметить в выражении лица ее, в тоне речи или невольном движении какой-либо признак неудовольствия или тайного упрека. Он был жив, спасен, рана шла к лучшему – ей ничего, казалось, другого не нужно было… Она неслышною походкой скользила по комнате, подносила ему безмолвно лекарство в урочные часы, «перстами легкими как сон»4 приподымала и поддерживала больную голову его, когда полковой доктор, специально пользовавший своего раненого командира, с помощью Фирсова переменял на ней перевязки, и словно вся сама, благоухающая как ландыш в смирении своем, горела при этом лишь трепетным желанием, чтоб он не замечал ее, не почитал себя обязанным благодарностью за непрестанный, денный и нощный, уход ее за ним…
Он заснул как-то рано вечером и проснулся глубокою ночью. Ta же лампа за большим фолиантом мягко освещала комнату. Но Фирсова в ней не было. Одна она сидела на обычном месте, в ногах его, – сидела, уронив голову на край его ложа, и он, вглядевшись в абрис затылка ее и плеч, увидел, как вся она вздрагивала от рыданий, которые заглушала в складках одеяла, покрывавшего его… Бесконечное чувство раскаяния и жалости охватило его в эту минуту. «Саша!» – проговорил он задрожавшим голосом… Она вскинула голову вверх, испуганно устремила на него глаза… «Прости меня!» – прошептал он. Она вскрикнула, перекинулась через кровать к его руке, прильнула к ней – и так и замерла…
Месяца чрез полтора он ехал с нею в покойном дорожном дормезе, à petites journées5 (он далеко не был еще в состоянии переносить переезды по железным дорогам), на юг, в Италию, ища врачующей благодати солнца и уединения… Они нашли их в маленьком городке Пельи, на Генуэзской реке[9], огражденном от ненастий севера полукругом поросших пиниями гор, – счастливом уголке, «где вечно ясны небеса», где розы круглый год цветут не отцветая,
In grüner Laub die Gold-Orangen blüh’n,Der Lorbeer boch und still die Myrte steht[10]6…Они поселились над городом, на Villa Doria, в старом palazzo XVII века, с фресками на стенах, высокими залами и волшебным видом на Геную и зелено-голубую даль Средиземного моря. Чрез две недели затем Анфиса Дмитриевна Фирсова, сияющая счастием (она лишь за два месяца пред тем вышла замуж за толстяка-доктора, сопровождавшего со Скоробогатовым Троекуровых за границу), с нянею и немцем-курьером, говорившим на всех языках, привезли в полном здравии в Пельи детей из Всесвятского… Александра Павловна, как выражалась она, почувствовала себя теперь «как в Царстве Небесном»…
Медленно между тем поправлялся раненый. Он вспоминал, как в те дни просиживал по целым часам на террасе, под жгучим теплом итальянского зимнего солнца, устремив глаза на золотистую рябь тихо плескавшегося моря, без мысли, без движения, «живя, как говорил он себе теперь, сладкою и тупою жизнью растения». Его словно оковала здесь какая-то парализия психических отправлений, отупление ощущений и сознания… В таком состоянии провел он почти всю зиму… «Оттает, погодите!» – утешал никогда не унывавший Николай Иванович Фирсов Александру Павловну, начинавшую серьезно тревожиться.
Скоробогатов, исправлявший теперь должность камердинера при своем «генерале» (Борис Васильевич произведен был в этот чин за то самое дело, в котором был ранен, – дело, кончившееся полонением почти всей банды, застигнутой в усадьбе), каждый раз, как входил к нему утром со свежевычищенным барским платьем на руке, вглядывался в него избока своими узкими, татарскими глазками и, сердито отвернувшись вслед за тем, мурлыкал себе что-то под нос.
– Что это ты? – спросил его однажды, заметив это наконец, барин.
– Чтоб тому, говорю себе, ваше превосходительство, – неожиданно ответил старый служивый, – шельмецу этому на том свете ни дна ни покрышки!
– Кому это?
– A что вот сделал вам так, что и посейчас прежнего куражу не можете вы себе достать.
Глаза Троекурова усиленно заморгали… В первый раз в эту минуту воскресало в его памяти то, что произошло с ним тогда. Но он усиленно усмехнулся:
– Да, угодили меня ловко! – как бы небрежно уронил он.
– А кто, – полушепотом и подчеркивая молвил Скоробогатов, наклоняясь к нему, – успели заметить?
– Н-нет! – с усилием произнес Борис Васильевич.
– А я его признал, ваше пр… Самый тот есть шарлатан с подвязною бородой, изволите помнить, что в крусановских лугах кость вам перешиб. Наш, русский, не то чтоб из поляков, – изменщик, стало быть… Не успел в матушке-Расее набаламутить, так, значит, к безмозглым к эвтим в слуги пошел… Беда! Стою этта я с вашим рыжим, как вы изволили слезть, – гляжу, флаг они выкинули: ну, думаю, пардону просят, наша взяла!.. Вы тут сичас к дому бросились, – а он, вижу, в тот самый раз подбег к окну… Он, ваше превосходительство, он самый! Хоша в чамарке и на голове четыруголка ихняя, а я его издалечка сразу признал, – белесый такой, плюгавый из себя… Подбег, говорю, своим что-сь кричит, а сам перегнулся по-над вас и из ривольвера сверху целит… Я тут лошадь бросил, к вам: «Берегись, кричу, ваше!..» А вы, гляжу, уж и с ног валитесь… Ах ты, Господи!.. – И Скоробогатов отчаянным движением ударил себя изо всей силы ладонями по бедрам… – Не дали ж ему зато пардону солдатики, – добавил он чрез миг, сверкнув глазами, – в решето штыком искололи…
Троекуров с побледневшим лицом уперся в него взглядом. Он хотел сказать что-то… и не мог. Но старый солдат понял упрек, выразившийся в этом взгляде:
– А что ж ему, анафеме, другого сделать, ваше пре-ство? – возразил он недовольным тоном. – Потому, первое сказать, Бога он своего забыл, противу своих воевать пошел; а вторым делом, как же он, пес, когда флаг они выкинули, – сдаемся, значит, в полон, – а он в само-то время стрелит?.. Собаке, говорится, собачья и смерть, так ему и надо было! – сурово заключил он.
– Рассказывал ты об этом кому-нибудь здесь? – спросил его Борис Васильевич после довольно продолжительного молчания.
– Что ж мне рассказывать, ваше пре-ство! Сам понимаю…
– Что ты понимаешь?
И внезапная краска выступила на лице Троекурова.
– Потому что ж тут хорошего, что вы от своего чуть смерти не получили!.. За Расею стыдно, ваше… – добавил он в виде объяснения.
– Хорошо, ступай… и чтоб об этом никому!..
– Слушаю-с…
На летаргическое состояние, в которое погружена была до этой минуты мысль Троекурова, разговор этот произвел действие электрической искры. Он как бы вдруг встряхнулся весь, загорелся опять пламенем жизни… Но не на радость ему было это мгновенное воскрешение. Образ «изменщика», выстрелившего в него и исколотого затем «в решето» его солдатами, стал неотступно и болезненно преследовать его теперь… «Почему так случилось, – спрашивал он себя с какою-то странною, суеверною внутреннею тревогой, – что среди вооруженного сброда повстанцев-поляков я должен был натолкнуться именно на того единственного русского человека, которому убить меня могло доставить удовольствие? Неужели приписать это тому чему-то бессмысленному, что люди зовут „слепым случаем“?.. Нет, слепых случаев не бывает – все тесно связано и органически истекает одно из другого в этом мире, причины и последствия, зло и наказание, и закон рокового возмездия стоял недаром краеугольным камнем в верованиях древних народов… Кто мне докажет, что этот несчастный, стреляя в меня, не был избранным орудием кары, назначенной мне высшим определением, после чего погиб сам жестокою смертью за все то злое, что совершено было им в свою очередь на этой земле?..»
И то жгучее чувство самоосуждения, с которым он в Москве, по получении письма от княжны Киры[11], решил уйти ото всего в темные ряды армии, разгоралось у него с новою силой… Гроза тех страшных дней навсегда, по-видимому, миновала теперь. Не исполнил ли он в настоящее время, говорил он себе иронически, «все, что от порядочного человека требуется в подобных случаях»: покаялся, просил жену простить ему, и она великодушно, без колебаний и условий, даровала ему это прощение… Но все ли это, удовлетворен ли он в душе своей?.. Нет, далеко не все! Состоялось примирение, вернулось согласное супружеское сожитие; но обрел ли он вместе с тем тот «истинный смысл жизни», которого недоставало ему до сих пор, ту высоту духовного подъема, которым определяется этот смысл?.. «Надеть узду на себя не трудно, – надо знать, для чего ты ее надеваешь», – рассуждал Троекуров; «Александре Павловне никакой узды не нужно, чтобы находить в себе удовлетворение, которое та (он разумел Киру) и я тщетно искали всю жизнь. Не потому ли это, что она век свой думала о других и забывала о себе?..»
К жене он испытывал теперь чувство совершенно для него новое – чувство какого-то набожного благоговения. Душевный цвет ее будто впервые распустил пред ним все свои лепестки и охватил все существо его своим неотразимым ароматом… Чувство это выражалось у него наружно в какой-то прилежной, как бы почтительной внимательности к ней, к ее словам и мнениям, к малейшему желанию, которое он угадывал у нее. Прежний фамильярный, легкий, чуть-чуть насмешливый тон его с нею, тон первых времен супружества, в котором сквозь нежность влюбленного мужа всегда невольно проглядывало сознание умственного превосходства его над нею, заменил теперь оттенок постоянной серьезности и уважительности в отношениях, в разговорах его с нею, будто боялся он оскорбить шутливым или легкомысленным словом ту чистую святыню, которую носила она в себе. Он будто постоянно ждал от нее каких-то откровений, каких-то «светочей в ночи»… Александра Павловна – все та же неизменная «Сашенька» первых дней – весьма скоро заметила эту перемену, но она не польстила ей, ни обрадовала ее – она ее страшно испугала. Она почуяла, что этот «сильный, умный человек», муж ее, чего-то требует теперь от нее, требует именно, объяснила она себе тут же, того же «умного, что находил он у Киры»… и чего «откуда же я ему возьму?» с отчаянием восклицала она внутренно… И вся она как улитка ушла вслед за этим в свою скорлупку…
Увы, благосклонные читательницы мои, между этими супругами, которых бурная волна жизни вынесла, казалось, благополучно к новым медовым берегам, стало с этой минуты какое-то роковое недоразумение, образовался провал, которому с течением времени суждено было все упорнее идти вглубь. То, что по всем данным должно было послужить к теснейшей связи между ними, чуть не разводило их опять. «Не то, не то, – сказывалось в душе Сашеньки в ответ на благоговейную внимательность к ней мужа, – не то, что в те счастливые времена, когда сажал он меня на колени и говорил: „Ну, рассказывай, глупая моя девочка!“ Он кается, бедный, ему все еще стыдно предо мной, потому что он честный, благородный, и я ему навсегда простила все, все… но он ее все еще помнит, ему все хочется найти во мне то, что было в ней, а я не могу, не могу», – заключала она со мгновенно проступавшими у нее из глаз слезами. «Она родилась ангелом милости и всепрощения, – говорил в свою очередь мысленно Троекуров, – но забыть все же она не в состоянии. Согнутый лист бумаги, как ни расправляй его потом, сохраняет навсегда след своей складки; в такой нежной душе, как ее, согнутому не разогнуться до самой смерти. Прошлое обаяние исчезло… Прежнего доверия… прежнего счастия она уже не в силах мне дать!..» Оставалось довольствоваться, как с горечью выражался он мысленно, «внешним обрядом супружеского благополучия»…
Они вернулись в Россию. Борис Васильевич со страстною жадностью погрузился в дело управления своими обширными поместьями. Он весь был полон теперь помыслов «о других» и решимости осуществить их на практике.
Годы проходили. Многого успел он достигнуть – еще более посеянного им осталось бесплодным, благодаря новым условиям быта нашей бедной родины… Но он не отчаивался, он упорно шел вперед в своих планах экономического и нравственного преуспеяния зависевшего от него сельского и рабочего населения…
Годы проходили, но «согнутое» все так же не разгиналось; между женой его и им стояло все то же густое облако недоразумения, для рассеяния которого достаточно было бы, может быть, одного слова, одного освещающего слова… Но такие слова почему-то никогда не срываются с уст наших, когда они нужны… Троекуровы мало-помалу как бы сжились с этим положением. Для обоих их проходила уже пора, когда человек дерзко и упорно требует у судьбы личного, непосредственного счастья. У них подрастали дети – подрастала красавица Маша, в которой отец ее с тайным восхищением узнавал всю душевную прелесть ее матери с чем-то более полным, более широким…
Образ ее в эту минуту проносился в мысленном представлении Бориса Васильевича. Стянувшиеся на лбу морщины мгновенно рассеялись, и тихая улыбка пробежала по его губам. Он поднял веки.
Кто-то стучался к нему в дверь из гостиной и спрашивал его оттуда:
– Можно войти?
– Конечно! – поспешил он ответить, узнавая голос жены и вставая идти навстречу ей.
Она была все еще очень хороша, несмотря на некоторую опухлость очертаний, причину которой следовало приписать гораздо более бестревожию деревенской жизни, чем тому, что названо Расином «des ans l’irréparable outrage»7. Ей было еще только тридцать четыре года… Ее глаза «волоокой Геры» глядели все так же строго и прямо, но в складках губ было что-то невыразимо мягкое и притягательное… Губы эти как бы слегка подергивало теперь от волнения:
– Мне сейчас, – тревожно заговорила она, входя, – доложили, что приехала Настенька Буйносова, – ты помнишь, la cadette8, которая ходила за отцом… Он так ужасно погиб, – рассказывал тебе Николай Иваныч?.. Ей верно что-нибудь нужно, и я велела скорее просить ее. Но она приказала ответить, что желает тебя видеть… Ты никогда их не любил… но она так несчастна теперь… Ты позволишь пригласить ее к тебе?
– Для чего спрашивать, Alexandrine? Само собою!..
– Так я скажу…
Она повернулась идти и, приостановясь на пути, проговорила с радостною усмешкой:
– Васю Николай Иванович пустил в сад гулять.
Он кивнул на это, усмехнувшись тоже, и спросил:
– A Маши все еще нет?
– Ведь раз верхом, она вечно на полдня пропадет! – чуть-чуть поморщившись, проговорила Александра Павловна и вышла.
XV
Троекуров прошел сам в гостиную встречать приезжую.
Бледная, осунувшаяся, вся в черном, она была видимо несколько смущена, входя, но также видимо поборола тут же решительным усилием это смущение и, пожав слегка дрожавшими пальцами протянувшуюся к ней руку хозяина, проговорила твердо и спокойно:
– Вас, вероятно, должно удивить то, что вы видите меня у себя, Борис Васильевич, но…
– Прежде всего я этому искренно рад, Настасья Дмитриевна, – перебил он ее действительно искренним и участливым тоном, как-то сразу заполонившим ее, – я был в отсутствии, вернулся только сегодня и сейчас узнал от Николая Ивановича Фирсова о вашем несчастии. Но не пройти ли нам ко мне в кабинет; там нам будет удобнее разговаривать…
В кабинете он усадил ее на мягкий диван и сел сам на стул против нее, ожидая, что она скажет.
Она начала не сейчас, как бы сосредоточиваясь и колеблясь:
– Смерть отца – не одно несчастие, павшее на меня, Борис Васильевич; в ту же ночь – вам вероятно известно? – брата моего увели жандармы.
Троекуров повел утвердительно головой.
– Я о нем… о моем брате приехала говорить с вами, – вымолвила она через силу.
Он с невольным в первую минуту изумлением глянул ей в глаза…
Она поняла и, внезапно оживляясь:
– Я знаю, вам это может показаться… бессмысленным с моей стороны, – воскликнула она скорбно зазвеневшим голосом, – но я теперь… я одна на свете, не знаю, к кому обратиться за советом… за помощью.
Он порывисто ухватил ее за обе руки и крепко пожал их:
– Что могу я для вас сделать, Настасья Дмитриевна?
– Спасти его, если можете!
– Как? – веско проговорил он.
Она опять замедлила ответом, как бы соображая, что именно хотел он выразить этим вопросом. Печальные глаза ее поднялись на миг на Троекурова и снова опустились…
– Я не знаю, – заговорила она наконец, прерываясь чуть не на каждом слове, – я решилась обратиться к вам, потому что мне известно… Григорий Павлыч Юшков мне сам это рассказывал… когда он студентом еще попался за прокламации… он вам одолжен был… что его выпустили… Вы, конечно, можете мне возразить, что Григорий Павлыч другое дело, что ваши семейные отношения, дружба с его отцом…
– И прежде всего, – договорил за нее Троекуров, насколько мог мягче, – и прежде всего уверенность, – подчеркнул он, – что его революционерство было лишь временным безрассудством молодости, которое не имело и не могло пустить в нем корней, что заключения недельки на две меж четырех стен будет совершенно достаточно как для наказания, так и для отрезвления его. Так поняли и в Петербурге тогда, и его мальчишество не имело для него более серьезных последствий.
Он примолк на время, сосредотачиваясь в свою очередь, пытливо глянул ей в лицо и продолжал:
– Брата вашего я совсем не знаю… не видал даже никогда, кажется. Но вам я верю, Настасья Дмитриевна, – произнес он с ударением, – и ото всей души желал бы помочь вам. Если вы дадите мне честное слово, что брат ваш такой же не совсем твердый на ногах, но не испорченный в корень молодой человек, попавшийся в сети, расставленные ему каким-нибудь негодяем-товарищем, как было это тогда с Юшковым, я обещаю вам сделать для него все, что сделал… что был в состоянии сделать для того в свое время… Порядки по политическим делам, если вам известно, усложнены теперь участием в них суда; за успех моего ходатайства я могу отвечать еще менее, чем прежде… Но все равно, я готов поехать в Петербург, обратиться к министру юстиции, – я его знаю давно… и за отличного человека, – словом, сделать все, что от меня зависит… Но мне для этого надо ваше слово, Настасья Дмитриевна, – заключил он.
Она сидела растерянная, глядя на него во все глаза: что должна… что могла она ответить ему?
– Брат мой не «негодяй», – пробормотала она, ухватываясь в своем смущении за одно из выражений, употребленных им сейчас, нисколько не относившееся к ее брату, – он заблуждается, я признаю… Но побуждения его чисты и высоко честны!..
Глаза у Троекурова усиленно заморгали:
– Вес и значение слов, – сказал он, – так передерганы у нас в последнее время, что в них разобраться трудно. Я оставлю поэтому совершенно в стороне вопрос о том, что следует в действительности разуметь под «чистотой» и «высокою честностью побуждений» вашего брата. Ввиду того, для чего вам пришла добрая мысль обратиться ко мне, мне нужно знать только одно: полагаете ли вы, что он в состоянии отказаться от этих своих «побуждений» и всего того, что из них исходит в его теперешнем катехизисе, или нет?
Она судорожно заломила скрещенные пальцы своих бледных рук:
– Что мне сказать, как отвечать за него!.. Я знаю только, что его взяли… что его сошлют…
– Думаете ли вы, что это будет несправедливость? – спросил он.
Она пристально воззрилась в него и как-то неожиданно для самой себя воскликнула:
– Нет, я этого не думаю… но простить всегда можно!..
– «Простить», – повторил он, – прекрасно! Что же, брат ваш после такого прощения отказался бы от революционной пропаганды и обратился бы в мирного гражданина?
Она бессознательно вздрогнула: последний разговор с Володей, его заключительные слова во всем их ужасе пронеслись у нее теперь в памяти:
– Не знаю… – прошептала она чуть слышно.
– Из вашего ответа, извините меня, – молвил на это, помолчав, Троекуров, – я, кажется, имею право заключить без ошибки, что тот, о «прощении» которого вы хлопочете, не сбитый временно с толку юноша, но убежденный, непримиримый враг существующего порядка и может быть удовлетворен только полным разрушением его. Так это?
Он ждал ответа.
– Пропаганда их безвредна, – нежданно ответила вместо этого ответа девушка, – и сами они это теперь видят. Народ не принимал их и выдавал властям.
Не то печальная, не то ироническая улыбка пробежала по лицу ее собеседника:
– A властям в свою очередь надлежало возмутителей отпустить на все четыре стороны, дабы народ знал, что то, что он извека, вместе со своими правителями, разумел делом преступным, правители эти теперь считают безвредною шалостью, что они слишком гуманны и либеральны стали, – подчеркнул он, – чтобы осмелиться мыслить и поступать так же бесхитростно и здраво, как он, как этот народ?.. Ведь так это выходит по-вашему, Настасья Дми…
Он не успел договорить. Двери из его библиотеки шумно распахнулись настежь и из них вылетела молодая девушка со шлейфом амазонки, перекинутым на руку, и в маленькой круглой мужской шляпе, тут же слетевшей наземь с прелестной, будто выточенной головки, в порывистости движения, с которою она кинулась к Борису Васильевичу:
– Папа, голубчик, ты вернулся, как я счастлива! – лепетала она низким грудным голосом, охватывая шею отца обеими руками и звонко, на всю комнату, целуя его в обе щеки. – Мы только что во двор вскакали со Скоробогатовым, a Анфиса Дмитриевна мне из флигеля в окошко кричит: «генерал приехал!»… Я сейчас поняла почему – и прямо помчалась к твоему крыльцу… Et me voilà1! – расхохоталась она, раскидывая руки врозь. – Тебя напугала телеграмма maman, да? Она отправила ее без меня, я бы никогда не допустила…
– Ты не видишь, что у меня гости, Маша? – прервал он ее с улыбкой, словно солнечным лучом озарившею ему все лицо, поворачивая ее за плечо лицом к Настасье Дмитриевне, глядевшей в свою очередь со своего места на девушку глазами, полными невольного восхищения.
Она была в самом деле очаровательна. Высокая, широкоплечая и тонкая, белокурая, как был отец, с более ярким, чем у него, золотистым оттенком целого леса волос, двумя толстосплетенными косами, падавшими у нее до колен, с темными, как у матери, глазами и бровями, она была свежа как майская роза и здорова как горный воздух… Ей еще четырех месяцев не хватало до полных шестнадцати лет, но она была развита физически как восемнадцатилетняя особа и уже года полтора носила длинные платья по настоянию отца, находившего «смешным, ridicule», говорил он, «одевать ее ребенком, когда она успела на полголовы перерасти мать», и к некоторому неудовольствию Александры Павловны, верной старым традициям, которую покойная Марья Яковлевна Лукоянова одевала в коротенькие юбочки и панталончики до шестнадцатилетнего возраста невступно.
– Ах, Боже мой, mademoiselle Буйно… Настасья Дмитриевна, – вспомнила она, быстро подбегая к гостье с протянутою рукой, – как я вас давно не видала!..
– Давно! – конфузливо улыбаясь, ответила та, пожимая ее пальцы. – Я бы вас не узнала, вы так выросли… и волосы совсем будто другого оттенка стали: они у вас теперь цвета спелого колоса…
Троекуров утвердительно закивал:
– Blonde comme les blés2, – промолвил он, смеясь.