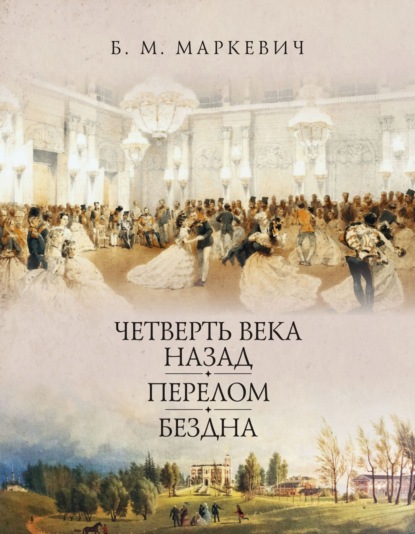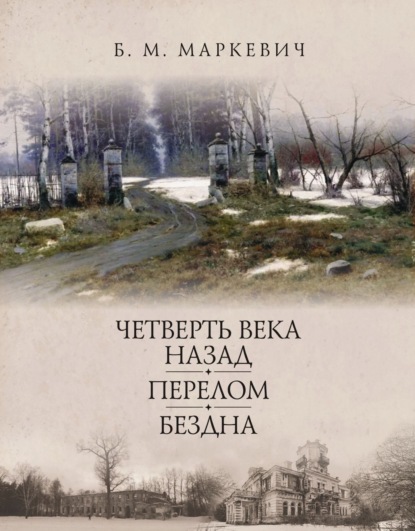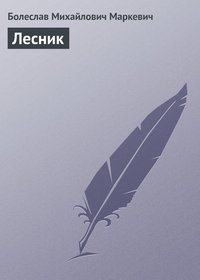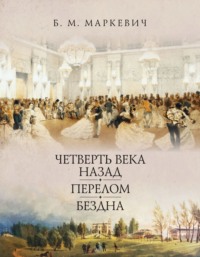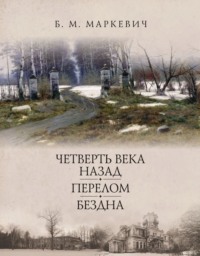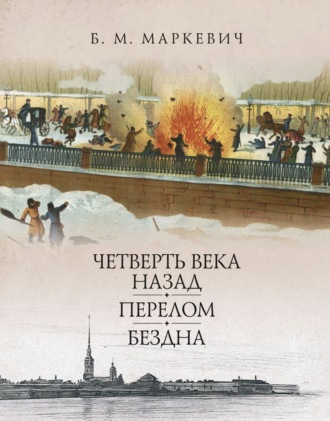
Полная версия
Бездна. Книга 3
Он только «убедительно» просил графиню Елену одуматься, рассудить, «насколько правильно с ее стороны пренебрегать теми полезными для нее указаниями, которые он как ближайшее к ней мужское лицо и друг»… Она не дала ему продолжать. «C’est à prendre ou à laisser!» – с жестокосердою настойчивостью повторила она… Отто Фердинандович вспомнил еще раз о «наследнике»… и о «доверенности» и уступил.
Но помириться с новым положением своим он все-таки не мог: ему недоставало того легкомыслия или того добродушия, с каким славянский муж ужился бы с таким положением, находя в нем даже некоторую привлекательную сторону, и Отто Фердинандович считал нужным при всяком случае давать это чувствовать своей обидчице. Наливал ли он ей воды за столом, спускал ли ее с лошади в манеже, или принимал чашку чая из ее рук на вечере у ней en petit comité13, куда он каждый раз признавал для себя необходимым являться, его уныло вытянутое лицо говорило ей неизменно то же: «Ты видишь, мол, как я приличен, учтив и даже мил с тобою, но я все же уязвлен, и ты это понимай!»… Елена Александровна понимала действительно: вид «этого spectre de Banco14», которого, как уверяла она, изображал теперь ее обезоруженный «властелин», раздражал ее хуже зубной боли. Но это нисколько не располагало ее отдать себя снова под его ярмо. Она только старалась по возможности избегать всяких встреч и разговоров с ним, и свидание с глазу на глаз допускала лишь в тех неизбежных случаях, когда ему бывала необходима подпись ее под каким-либо документом по ее имениям, которыми он продолжал все так же полноправно и удачно управлять. Обитая под одним кровом, супруги наши были теперь так же чужды друг другу, так же разнились в образе жизни, как жители противоположных полушарий. Отто Фердинандович командовал полком в окрестностях столицы, где и проживал половину своего времени, вставал с зарей, весь день проводил на службе. Жена его подымалась с постели в два часа пополудни и ложилась в пять утра, принимала каждый день «между пятью и шестью», обедала, ездила по театрам, чаевала и ужинала в 15-«coterie intime» отчаяннейших «кокодеток», – их же царство настало в те дни, – говорила самым модно-циническим argot парижских бульваров, декольтировалась «avec un chien de tous les diables», по выражению толстенькой графини Ваханской, ближайшей ее приятельницы, и укладывала в лоск своим кокетством все сонмище военных и гражданских сановников, папильйонирующих в виде «отдыха» от великих трудов своих на благо отечества в известных гостиных петербургского большого света. «В сияющей лысине каждого из этих государственных старцев, – уверял какой-то mauvais plaisant, – вы можете видеть как в зеркале отражение неподражаемой chute d’épaules графини Драхенберг»… Сам граф Анисьев, занимавший теперь весьма видный пост и, несмотря на свои давно ушедшие за полвека годы, слывший у женщин за «homme irrésistible», предпринял правильную осаду сердца огненной красавицы – «la femme de feu»-15, – ее же не без ехидства прозвала так, по заглавию одного весьма скабрезного 16-романа Belot, все та же маленькая и толстенькая Lizzy Ваханская (носившая вследствие этого в свою очередь прозвание Boulotte), намекавшая этим якобы единственно на рыжеватость своей «meilleure amie». Но сердце это не сдалось графу Анисьеву, и прозвище, данное графине Драхенберг, могло действительно – весьма долгое время по крайней мере – относиться к единственно огненному цвету ее волос. При всей сущности ее жизни и распущенности речей, усвоенной ею в обществе приятельниц своих «кокодеток», в душе ее теплилась немалая доля идеализма своего рода, смутного искания чего-то «интереснее» того, что «в области чувства» могла она ожидать от петербургских свитских генералов и статских карьеристов… Дав им наглядеться бывало вволю целый вечер на свои блистательные плечи, наслушавшись их казенных любезностей и острот, понадерганных из «Figaro» и всяких французских книжек, поставляющих готовые mots российским «козёрам»-16, она садилась в карету глубоко утомленная и с нервной зевотой гадливо говорила себе, укутываясь в пушистый белый мех своей ротонды: «Они еще скучнее со своим обольщениями, чем мой муж со своею добродетелью».
Так прошло несколько лет. Mo то, что французы насмешливо называют «психологическим моментом» в жизни женщины, не минуло наконец и ее. За год пред тем как встречаемся мы с нею в Венеции, она в Крейцнахе, куда ездила лечить ребенка своего от золотухи, встретилась с человеком, пред которым разлетелась в прах вся ее нерушимая до той минуты внешняя безупречность. Это был некий венгерец, граф Шегедин, музыкант, поэт и путешественник. Лет он был уже не совсем молодых, прихрамывал притом на правую ногу, как лорд Байрон, но его полуцыганская, полуразбойничья наружность носила отпечаток такой силы, в черных, как ночь, глазах горела такая неотразимая воля соблазна, что «женщина, – говорили про него бывалые барыни, – которую он удостаивал своим вниманием, должна была или беспрекословно сдаться ему тотчас, или бежать от него скорее в какой-либо неведомый еще людям уголок земли (так как все ведомые исхождены-де им были вдоль и поперек), где бы не имел он возможности преследовать ее…» Репутацию имел незавидную: он, по ходившим о нем слухам, проиграл и прожил на своем веку два или три огромные наследства, был два раза женат, каждый раз на богатых красавицах, и каждый раз красавицы эти умирали спустя год после брака, неизвестно как и отчего, в какой-нибудь отдаленной стране, куда влекла их мужа страсть к приключениям или наживе, и откуда вести едва доходили до Европы. Уверяли, что он когда-то служил в английской армии в Индии, покушался произвести возмущение между сипаями, был в этом уличен, судим и приговорен к смерти, но спасся каким-то чудесным образом при помощи жены какого-то раджи, очутился затем на одном из островов Малайского архипелага, населенном дикими, провозгласившими его якобы царем над ними… Все это, конечно, сильно отзывалось сказкой; верно было то, что он принадлежал действительно к одному из древнейших родов Венгрии, но не владел там, ниже в какой иной земле, никаким недвижимым имуществом, что значительных капиталов за ним тоже никто не знал, что не мешало ему проживать тысяч пятьдесят гульденов в год, и что его же одноземцы называли его «средневековым condottiere17, странною игрой судьбы перенесенным целиком в XIX век»… Дурная слава графа Шегедина, как это неизбежно бывает в подобных случаях, послужила ему на пользу в глазах Елены Александровны еще более, может быть, чем его музыка, французские стихи и звеняще-проницающий голос. Он с этим своим темным прошедшим, напоминавшим легенду о Рауле Синей-Бороде, с загадочными условиями настоящего своего существования, со своею наружностью «кондотьера», так мало походил на «прилизанные», шаблонные, «до гадости один другого повторяющие» типы дешевых невских ловеласов!
Он не ухаживал за нею, не расточал слов, но она была околдована с первой минуты… Он овладел ею нежданно, внезапно, – она сама потом не в силах была объяснить себе как… Он сидел однажды у нее после обеда со своею цитрой, на которой играл с каким-то удивительным, захватывавшим за тончайшие нервы слушательниц его выражением. Она внимала ему, не отрываясь взглядом от его поникших к инструменту век, вся захолодела от непонятного, никогда еще до той минуты не испытанного ею волнения… Шегедин оторвал вдруг на полутакте руки от струн и протянул их к ней, устремив на нее в упор свои сверкавшие черные глаза. Она поднялась с места и безответно, безвластно пошла на этот немой зов… Он охватил ее стан железною рукой, привлек к себе, приник к ее губам пылающими губами… Она ничего далее не помнила…
Из Крейцнаха он поехал за нею на Таунское озеро в Гмунден, где мальчику ее предписано было пользоваться горным воздухом. Русских там не было никого, ниже каких-либо знакомых графини из чужеземцев. Она свободно могла отдаваться своей любви… Любовью ли, впрочем, называть то, что испытывала она в те дни? Нет, это было скорее какое-то наваждение, что-то похожее на рабское подчинение ясновидящей таинственному влиянию своего магнетизера: тут было упоение и трепет, блаженство и страх, – «неправедные ночи и мучительные дни»18. Было что-то безудержное, чуть не зверское в знойных порывах страсти этого человека, вызывавших в ней иной раз невольно такие же пламенные отзвуки… Но за ними следовали у нее часы какой-то надрывающей физической тоски, если можно так выразиться: она не раскаивалась, не упрекала себя ни в чем, она готова была, казалось ей, назвать графа Шегедина любовником своим пред целым светом – но ей было тяжело, словно пред смертным часом… Он еще менее, чем она, способен был объяснить себе то, что происходило в ней в ту пору, и со свойственною ему раздражительностью упрекал ее в холодности: «Я бессильна, – отвечала она ему, слабо усмехаясь, – я бессильна отвечать, как бы вы желали, à votre amour de tigre»19…
– Вы называете меня «тигром», – сказал он ей однажды на это, – да, я люблю вас лютым и ревнивым как у хищника чувством и не выпущу вас более из моих объятий; вы должны быть моею навеки… моею женой…
– Но я замужем, je suis mariée, вы знаете! – воскликнула она.
– Vous vous démarierez, voilà tout20, – резко выговорил он, – вы разведетесь: я этого хочу! Муж ваш не препятствие, если вы меня любите.
Она подняла на него глаза и тут же опустила их и замолкла. Развод, это значило разлуку с сыном; муж, «закон» отняли бы его у нее в этом случае, она понимала, a ребенок ее был дорог ей, и никогда ей так сильно не сказывалось это, как в ту минуту… Но возражать она не имела силы: у нее своей воли уже не оставалось; вся она, чувствовала молодая женщина, была в «его» власти.
Она согласилась на все, отгоняя все возникавшие в ее голове возражения… Граф Шегедин, как оказывалось, был весьма сведущ по части существующих в России постановлений о разводе. Он объяснил молодой женщине, что муж ее должен «принять вину на себя», дабы дать ей законное право выйти замуж за него, Шегедина, и что весь вопрос заключается в том, «какую цену захочет положить граф Драхенберг за свое отречение»… «А если ни за какие деньги не захочет согласиться?» – вырвалось у нее невольно. Шегедин только плечами пожал на это и презрительно улыбнулся, – и ей самой тогда представилось, что «хотя муж ее и считается самым благородным человеком в Петербурге», но что все же он «расчетливый немец» и предпочтет «соглашение à l’amiable21» за крупную сумму «открытому скандалу»…
Наступала осень; графине давно было пора вернуться в Петербург. Шегедин долго не решался отпустить ее. Он звал ее в Вену, к матери, с которою близко был знаком и чрез посредство которой, по его мнению, можно было начать «прямые переговоры» с графом Драхенбергом… «Это значило бы все испортить, – возражала молодая женщина, – моя мать не пользуется никаким авторитетом в глазах мужа; напротив, я одна, личным объяснением с ним, могу склонить его дать мне свободу»…
Страстный венгерец сдался на ее убеждения, но с тем, что сам он месяц спустя после приезда ее в Петербург приедет туда «на помощь ей и покровительство»… Она уехала.
Но очутившись снова в доме своем на Сергиевской, Елена Александровна пришла вдруг в смущение. Она как-то внезапно почуяла, что «расчетливость» Отто Фердинандовича дальше известных пределов не пойдет, что он действительно «настолько все-таки рыцарь, что продать жену свою другому ни за какие деньги не согласится», a следовательно, нечего и начинать с ним разговор об «этом»… Да и когда же было ей разговаривать с ним? Русская армия стояла в те дни под Плевной. Войска мчались на парах с севера за Дунай, a в числе их полк, которым командовал граф Драхенберг. Он только-только успел дождаться ее возвращения, чтобы «проститься с сыном» и передать ей, «графине», в запечатанном пакете «на случай, если он не вернется», подробное изложение «системы действий», которой следовал при управлении ее имениями и которую «он осмеливается ей советовать удержать и впредь, когда другой станет этим заниматься». Возможно ли было ей, в самом деле, в такую минуту заявлять ему, что она желает развестись с ним?.. Она чуть не расплакалась даже, когда он, прощаясь с нею в передней, прижал руку ее к губам, и перекрестила мгновенным движением его наклоненную голову… A тот между тем слал ей каждый день из Вены, куда переехал из Гмундена и где успел совершенно привлечь на свою сторону графиню Пршехршонщовскую, пламенные и тревожные письма, допытываясь, «в каком положении стоят их дела», напоминая ей о ее «обетах (ses serments)» и заявляя, что невыносимое беспокойство, испытываемое им, заставит его, по всей вероятности, ускорить приезд свой в Петербург. A в Петербурге, в том особом светском кружке, к которому принадлежала графиня, связь ее с Шегедином была уже предметом общих разговоров. О гмунденской «идиллии» первая узнала каким-то чрезвычайным путем графиня Ваханская, находившаяся в ту пору в Биарице, и, вернувшись оттуда, разблаговестила об этой «amusante histoire»22 по всем благоприличным домам столицы, в тот приемный час пред обедом, когда в «интимный кабинет» хозяйки расчесанный франт-слуга в белом галстуке вносит уставляемый на раздвижном столике серебряный tea-kettle23 с чайным прибором и всяким сладким печеньем… Венгерский дон-Жуан не покидал еще своей квартиры на Ringstrasse, a на набережных Невы уже каждая из «кокодеток» готовилась in petto к состязанию, имевшему конечною целью отбить его у «femme de feu», – между тем как ее, эту счастливицу, резали на кусочки кругом того же tea-kettle и сладкого печенья на раздвижном столике, с тем единодушием завистливого злословия, которым отличается искони изящный петербургский гранмонд. Графине Драхенберг в то же время сообщали те же приятельницы, под видом сердечного участия и предостережения, об «ужасных клеветах», «atroces calomnies», на ее счет, которые они же разносили по городу… «И это пока еще нет его здесь; что же будет, когда он приедет, когда мы с ним как на сцене принуждены будем являться предо всеми ими?» — тревожно думала молодая женщина и все чаще об этом задумывалась… Под владычеством странного чувства находилась она со времени разлуки своей с ним; она, как сказочная царевна, словно только что ушла из очарованного замка, где все дышало обольстительною, но ревнивою, но страшною властью похитившего ее волшебника, и жадно вбирала в себя воздух вновь обретенной ею свободы. Ta власть и любезна была ей, и пугала ее… и с каждым днем все сильнее брало это последнее ощущение верх над первым… Ну да, она любила его, любила несомненно, никого еще до него не любила она так, да и вовек не любила; но ведь эта любовь ее к нему – «рабство»… «Рабство, – докучливо стучало у нее в голове, – он всю тебя хочет, каждый твой помысел, каждое сердечное движение». Он ничего не способен оставить ей, даже для сына… для сына! Он ревновал ее к этому ребенку, он «ненавидел его в душе, потому что не могла же разлюбить его совсем из-за него»… Недаром зовут его «Синею Бородой»: кто знает, сделайся он ее мужем, и дрожь пробегала у нее по телу, «не кончила ли бы и она так, как его первые две жены?..» Ну да, она его любит, но «имеет ли она право отказаться для него от сына… и ото всего»… И когда же? Теперь, когда «политические дела в таком положении», когда муж ее… отец ее ребенка понес свою жизнь на поле сражения… «Нет, нет, я люблю этого человека, но есть минуты, когда надо уметь жертвовать собою…» В одно прекрасное утро графиня Елена Александровна поехала в главное управление Красного Креста, просидела там более часу, вернулась оттуда прямо домой, велела никого не принимать и засела за большое «объяснительное» письмо к графу Шегедину. В письме этом она сообщила ему, что у нее «сердце нестерпимо сжимается при мысли о том, какое впечатление произведут на него ее строки», но что есть в жизни обстоятельства, «des circonstances impérieuses plus fortes que la volonté humaine»24, пред которыми человек должен поневоле смириться, и что под гнет таких обстоятельств попала она вслед за возвращением в отечество. «Нравственная обязанность, падающая на нее, как на лицо, владеющее значительным состоянием, в ту трудную годину, которую переживает ныне Россия, столько же, сколько и желание, заявленное ей в высших сферах (dans les hautes sphères de notre Cour25), поставили ее в необходимость, пожертвовав крупную сумму на раненых, принять еще лично в заведывание один из госпиталей, устраиваемых Красным Крестом в различных местностях на театре войны за Дунаем (какой именно, она не говорила), и она немедленно должна туда ехать». Она «умоляла» его не сетовать на нее за то, что называла она «печальным, но священным долгом», и отложить «их лучезарные мечты (leurs rêves radieux)» до лучшего будущего… Нелицемерная слеза, действительно выпавшая при этом из глаз нашей графини и размазавшаяся большим кляксом по ее свеженачертанному лиловыми чернилами писанию, должна была, по ее мнению, убедить его самым неотразимым образом в несомненной искренности тех 26-«sentiments douleureux et amers» и жалоб на «sort fatal»-26, на роковую судьбу, отдаляющую момент их свидания «на неопределенное время», которыми заканчивалось ее послание.
Но, получив его, венгерский «тигр» заскрежетал от ярости. Эта «белоснежная» женщина с ее русскими миллионами его покидала, бежала от него, бежала, очевидно, нарочно в район местности, занимаемый русскою армией, куда его не пустят, где ей нечего опасаться его преследования… Но, может быть, еще не поздно, он еще застанет ее в Петербурге, свидится с нею… A свидится – победа останется за ним: он знает власть свою над нею, он возьмет свое, «хотя бы сто тысяч московских чертей, кумушек и соперников стояли между нею и им»… И в тот же день вечером граф Шегедин, угрюмо уткнувшись в угол вагона Венско-Варшавской дороги, катил, новый Язон, добывать ускользнувшее из рук его золотое руно к ледяным берегам Финского залива.
Но он уже не застал там графини, и Lizzy Ваханская, с которою он ранее встречался за границей и к которой, зная о ее дружбе с той, поехал тотчас же по приезде, к немалому ее восхищению, злорадно объявила ему, что она не далее как вчера получила телеграмму от этой 27-«pauvre Llly», которая в настоящую минуту находится в Никополе, «ужасной, нездоровой трущобе, где она рискует потерять белизну своей кожи, son plus beau titre à l’adoration des hommes»-27, домолвила она со своим ехидно-добродушным остроумием.
Шегедин тем не менее еще не потерял надежды. «Женский каприз, славянская бестолковость, жалкая боязнь глупых толков, – объяснял он себе тем или другим мотивом нежданное бегство своей жертвы, – но ей там скоро надоест, он легко убедит ее вернуться». И между тем как общество «кокодеток» à qui mieux mieux28 расточало пред ним свои соблазны, – он попал в моду с первого же появления своего в гостиной Lizzy; он собирал всякими тонкими путями точные сведения о состоянии, о прошлом, о «специальном» положении графини Драхенберг в свете, об отношениях ее к мужу, – и тем сильнее росло в нем решение овладеть ею во что бы то ни стало, чем яснее становилось для него, что ни «Двор» (он почему-то воображал себе сначала, что Двор может стать между нею и им), ни муж, ни иные «внешние условия» не послужат помехой его желанию, если только она останется верна своим обетам…
Но, к немалому изумлению его и тревоге, она не отвечала на страстные письма, которые продолжал он слать ей каждый день, да и никому не писала, как бы нарочно для того, чтобы лишить его возможности иметь какие-либо о ней вести… Граф Шегедин был человек внезапных и дерзких решений: он собирался ехать в Одессу, a оттуда под чьим-либо паспортом, под видом какого-нибудь агента поставщиков провианта на армию, перебраться за Дунай, отыскать ее… как вдруг какое-то, откуда-то полученное им сообщение заставило его, совершенно неожиданно для всех, мгновенно выехать из Петербурга за границу… Куда? зачем? – осталось тайной, объяснения которой тщетно добивались очарованные им петербургские mondaines29 у чинов австрийского посольства; транс- и цислейтанские30 дипломаты отвечали на вопрос загадочными пожатиями плеч и холодными улыбками, причем официально заявляли, что «l’embassade impériale n’en a aucune conaissance»31… Заходили между тем какие-то странные слухи неведомого происхождения, заговорили о «подделке» каких-то австрийских бумаг, о «государственном преступлении», в котором будто бы принимал участие этот недавний любимец петербургских гостиных и раскрытие которого заставило его бежать-де в Америку… Дамы с тем большим негодованием протестовали in corpore32 против «такой клеветы», чем настоятельнее повторяли ее поклонники их, завидовавшие успехам венгерского «condottiere» в их очаровательной среде…
Весть об этом, поспешно сообщенная в Никополь графинею Ваханскою, Елена Александровна приняла почти равнодушно… Увы, страсть ее к графу Шегедину была для нее в настоящую пору поконченное дело, что немцы называют «ein überwundener Standpunkt»33; она пережита была ею и сдана в архив с тем легким духом, с тою простодушною бессовестностью, на которые имеют особую привилегию женщины. Иными помыслами и впечатлениями полно было ее пылкое воображение. Дело Красного Креста – к которому примкнула она первоначально, видя в нем для себя лично выход из затруднительного положения, – стало теперь в глазах ее делом жизни. Она отдалась ему, сама не зная как, порывисто, мгновенно, с какою-то внезапною жаждой самоотвержения и жертвы, как отдалась венгерцу, все тем же бессознательным побуждением своей впечатлительной природы. Эта изнеженная, избалованная, капризная светская барыня оказалась вдруг самою деятельною распорядительницей, самою неутомимою и усердною сестрой милосердия, проводила дни и ночи в госпитале, перевязывала самые гнойные раны, не морщилась ни пред каким надрывающим зрелищем искалечения, ни пред каким претящим обрядом ухода за больными. Способность преодолевать чувство отвращения, которой отнюдь не подозревала она в себе до тех пор, доставляла ей глубокое внутреннее услаждение. «Я воображаю, что было бы с Lizzi на моем месте!» – говорила она себе с улыбкой торжества и сожаления по адресу приятельницы. Она сыпала деньгами на «своих» раненых, «своих» врачей, «своих» сестер и совершенно искренно была убеждена в ту минуту, что врачевать увечных и недужных «телесно и духовно» было ее настоящим призванием на земле…
Долго ли продолжалось бы в ней это восторженное душевное состояние, сказать трудно, но ее деятельность по Красному Кресту прервана была на третьей же неделе смертью мужа, убитого наповал пулей в грудь… Она все кинула, отправилась на место битвы, испросила разрешения вырыть тело и повезла его в свинцовом гробе чрез всю Россию в замок предков его в Курляндию, где Отто Фердинандович, как стало известно ей по вскрытии пакета с его завещанием, положенного на хранение в полковой ящик, желал быть похороненным в фамильном склепе подле отца своего, убитого под Гроховым в Польскую кампанию в рядах того же полка, во главе которого так же доблестно, как он сам, погиб теперь сын его.
К госпиталю своему графиня более не возвращалась. Пока приводила она в исполнение волю мужа и утешала, сама проливая при этом чистосердечнейшие слезы, его старушку мать, русские войска успели дойти до Сан-Стефано. Война почиталась оконченною… «On n’a plus besoin de moi»34, – решила молодая вдова, у которой, за смертью мужа, оставались на руках заботы об управлении своим огромным состоянием. Не мудрствуя лукаво, она передала это управление пожилому немцу, бухгалтеру, состоявшему у покойного в большом доверии, которого назначила своим главноуправляющим, и первыми вешними днями отправилась с сыном в Швейцарию… «Неприятной встречи» за границей ей опасаться не приходилось: как она узнала, ее «тигр», которого ошибочно считали скрывшимся в Америку, убит был на родине своей, на поединке с редактором одной пештской газеты, опубликовавшей какой-то жестоко позоривший графа Шегедина документ. Извещенный об этом, Шегедин понесся прямо из Петербурга в венгерскую столицу, где нанес диффаматору своему публичное оскорбление и пал затем с простреленным черепом, унося в могилу ключ к разъяснению этой истории, – о ней же в Петербурге имелись весьма смутные сведения, так как прежде всего там в свете никто не читает немецких газет, да и в самых венских листках по этому предмету никаких особых подробностей не заключалось… Какое впечатление произвела эта новая смерть на графиню, не знаем; во всяком случае она окончательно делала ее свободною…
В Люцерне, где сын ее пользовался молочным лечением, она нашла довольно приятное общество, в том числе отставного русского генерала Троекурова с прелестною семнадцатилетнею дочерью. Она тотчас же поспешила познакомиться с ними: девушка наружностью своей и милым нравом очаровала ее с первого раза, a об отце ее она слышала много в Петербурге, как об «элеганте» и покорителе сердец прежних времен. Живых следов этого былого «элегантства» она не могла не признать в нем, но сам он показался ей мрачным и надменным, «un orgueilleux taciturne»35. Он действительно держался относительно ее на строго учтивой ноге и видимо не желал допустить никакой интимности между ею и своею дочерью. Это стало особенно заметно ей со времени приезда в Люцерн одной русской четы.