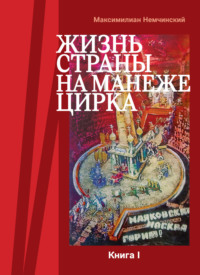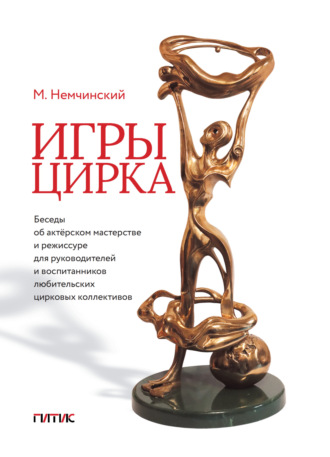
Полная версия
Игры цирка. Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов
Трюк – азбука цирка, его гаммы. Без виртуозного владения трюком цирк немыслим. Но техника исполнения трюка не исчерпывает возможностей цирка. Более того, именно после овладения трюком и начинается цирковое искусство.
Происходит это потому, что цирковой трюк воспринимается зрителем не сам по себе, а через отношение к нему. Актерское отношение к трюкам формирует его зрительское восприятие. Вместе с тем именно через отношение артиста к исполняемому трюку выявляется определенная система его поведения на манеже, выявляется манежный образ. В этом диалектика циркового трюка – формируя манежный образ, он сам возрождается в нем. Трюк в цирке организует и взаимоотношения партнеров. Но так как партнерами наравне с людьми могут выступать животные, предметы и аппараты, трюк, следовательно, объединяет все слагаемые циркового действия. Это и дает право воспринимать чередование трюковых комбинаций как организацию всей манежной системы отношений циркового артиста, как организацию манежного образа.
Трюк как основное специфическое действие цирка перемежают паузы. В традиционном чистом виде цирковая пауза так и была паузой, отдыхом между трюками. Но если паузу, подобно трюку, проанализировать как элемент логически обоснованный манежной жизни циркового артиста, то уже приходится вести об игре пауз.
Манежное действие при таком же анализе разлагается на подход к трюку, трюк и отход от трюка.
Подход к трюку всегда знаменует в цирке подачу трюка. Самый выигрышный трюк выигрывает вдвойне, если вовремя напомнить о трудностях его выполнения. Благодаря этому пауза может стать действием, не только организующим трюк, но и предопределяющим активность его восприятия зрительным залом. Разнообразное обживание паузы трансформирует сам характер трюка, раскрашивает его многоцветьем пантомимического действия.
Отход от трюка чаще всего принимает вид комплимента. Стилистика комплимента, подчиненная общей эстетичеcкой направленности эпохи, определяется как актерскими возможностями артистов, так и стоящими перед ними постановочными задачами. Комплимент как завершение трюка, его венец, является, по сути, прямым общением со зрительным залом.
Подача трюка и комплимент служат теми действенными прослойками, которые придают цельность как трюковым комбинациям номера, так и всему манежному образу. Игра пауз в условиях цирка равна «зонам молчания» (А. Д. Попов) театра. Если трюк – язык цирка, то именно в паузе артист обретает право на его «произношение». Игра пауз – это логическое обоснование манежной жизни циркового артиста.
Темпоритм, обусловленный необходимостью исполнения трюка, существенно изменяет и индивидуальный темперамент артиста, присущий его жизненному существованию темпоритм. Взаимопроникновение этих двух темпоритмов и рождает тот третий, который пронизывает манежное действие циркового артиста. Именно создание системы манежных отношений, манежного темпоритма приводит циркового артиста к овладению специфической логикой манежного существования. Другими словами, к внутреннему перевоплощению.
Зрелищность цирка обусловливает и определенное внешнее перевоплощение артиста. Будничности цирк всегда противопоставляет яркую эксцентричность своих проявлений, надбытовую праздничность своих артистов. Однако костюм и грим, столь важное звено внешнего перевоплощения в театре, на цирковом манеже имеют значение куда более подчиненное. Характерному изменению внешности цирковые артисты предпочитают изменение характера манежного поведения. Внешнее перевоплощение в цирке – это прежде всего овладение иной, манежной пластикой.
Но пластическая жизнь артиста на манеже не может быть случайной или надуманной, она естественно предваряет трюковые комбинации и сопутствует им. Поэтому‐то игре пауз цирка присуща особая упорядоченная пластика, которая конструктивно сводится к одному из трех возможных пластических решений: комплимент, мимодрама, хореография.
Комплимент, как отмечалось выше, является несомненным отчуждением создаваемого манежного образа. Вместе с тем характер движения трюка предопределяет жест комплимента. Двойная отчужденность – и в системе общения, и в характере совершаемого действия – сообщает пластике комплимента предельную условность. Это скорее не действие, а пластический знак, символ действия.
Цирковой номер при последовательном развитии манежных отношений как цельного действия логически связывает трюк и игру пауз и воспринимается уже как мимодрама, выявление через пластику актера внутренней жизни создаваемого им образа.
Мимодрама может проявляться как пантомима жеста (отношения партнеров в момент подхода к трюку или смене трюков внутри комбинации) или как пантомима тела (отношения партнера, выявляющиеся в смене комбинаций и возможных при этом пространственных переходах).
Кроме того, пластическую жизнь циркового артиста и в общем решении номера и в законченности отдельного жеста организует хореография.
Однако очевидный физический характер цирковой работы не должен обманывать. Своеобразие цирка в том, что через физическое он утверждает нравственное. «Ни одну минуту нельзя сомневаться, что ловкость и сила большинства артистов цирка, доведенная до пределов, сопровождается также изумительного напряжения вниманием, увлекательной отвагой, чертами уже психологическими и при этом чрезвычайно важными»[11].
Редкостная цельность циркового искусства обусловлена единением психофизических данных артиста во всех его внешних и внутренних проявлениях. Формы, которые принимает художественный образ в цирке при манежном воплощении, в равной степени зависят как от индивидуальности артиста, так и от обстоятельств, предлагаемых замыслом номера. Образ, определенно заявленный в начале номера, по большей части уже и остается таким до его окончания. Больше того, смена костюма или введение в номер нового трюка ни в коей мере не означает перемены сути создаваемого образа. Все это заставляет трактовать манежный образ циркового артиста как образ-маску.
Однако, как и в народном театре, маска циркового артиста – это четко обозначенные границы его манежной импровизации. Именно импровизации, так как каждый трюк, при всей своей сделанности и завершенности, многими поколениями артистов проверенной технической обоснованности любого составляющего его элемента, предельно сиюминутен. Но первозданность самого факта исполнения трюка, так же как и весь творческий процесс воплощения манежного образа, четко регулируют правила построения циркового номера.
Поэтому, кроме владения технологией мастерства исполнения конкретного трюка, артист цирка обязан задумываться и о том, чтобы сложность исполнения трюка была понятна не только коллегам, но и неискушенным зрителям. Эта задача входит в процесс подачи трюка, о котором речь шла выше. Этот элемент исполнения трюка артисты между собой энергично именуют «продажей трюка».
Вот как, обстоятельно, подробно разъясняя постановочные задачи и насыщая свой рассказ профессиональной терминологией, описывает этот процесс Е. М. Кузнецов: «…На арену выбегают девять юношей, рослых и стройных, радостных сознанием своей ловкости и силы, мускулистых, обветренных, загорелых, совершенно обнаженных: на них лишь узенькие, телесного тона “плавки” и легкие туфельки, как у пловцов. Что бы они не делали, они выполняют задачу непринужденно весело, вызывая ассоциации с физкультурной молодежью, которая резвится где‐нибудь на пляже, на песчаной отмели у реки, и зритель не сразу замечает, что по технике, по уровню профессионального мастерства, они легко справляются с такими заданиями, которые спортсменам недоступны.
Метод решения общетворческой задачи становится особенно понятным в финале номера Беляковых. Три рослых “спортсмена” стоят на плечах друг у друга, стоят во весь рост, “прямой колонной”, тогда как четвертый “спортсмен”, находясь на “подкидной доске” и получив нужный “посыл”, должен взлететь в воздух, сделать по пути взлета двойное сальто и “прийти” на плечи “верхнего” в колонне (т. е., говоря профессиональным языком, должен сделать “двойное сальто в колонну на третьего”). Рекордный трюк… Тишина… Принимаются предохранительные меры: еще раз проверяются “дистанции”, прыгун опоясывается предохранительно “донжей”, особым пояском, на котором он повиснет в случае просчета, ошибки, неточности. – “Внимание!..” Воцаряется настороженная тишина. – “Ап!..” Тело взлетело, развернулось, мелькнуло в двойном сальто… Сухо скрипнули блоки “лонжи”… Мимо!.. Просчет… Неудача… Повторение трюка – и… снова просчет!.. Внимание напряжено до предела. Степень трудности задачи сделана ясной: она кажется недоступной. И тогда “спортсмен” в последний миг неожиданно отстегивает спасательный поясок, отбрасывает “лонжу” (испуганный режиссер быстро подбегает с целью запретить продолжение номера) – и вот теперь, ничем не “связанный”, ничем не “застрахованный”, акробат-прыгун легко и свободно взлетает на девять-десять метров, мягко, как расправленная пружина, “крутит” двойное сальто, и точно, как вкопанный, “приходит” во весь рост на плечи “верхнего”, т. е. “третьего в колонне”»[12].
Настоящий артист стремится трюк не просто выполнить, но и сыграть.
Взаимопроникновение театра и цирка
С театром, исследованным вдоль и поперек, все представляется ясным и решенным. Там, выходя на сцену, драматическую, оперную или балетную, актер создает образ. Пусть он даже без грима, пусть он не говорит, а поет, пусть речь его не колебание голосовых связок, а пластика тела, сам факт того, что актер воссоздает логику действования вымышленного персонажа, вызывает к жизни инобытие сценического образа.
Язык каждого театрального искусства по‐своему условен и специфичен, но все они объединены тем, что суть их – действие. Сама структура и терминология говорят об этом. Спектакль подразделяется на действия (акты), действия – на явления. Исполнители именуются актерами, т. е. действующими, они и значатся в театральной программе как действующие лица.
Точный отбор действий, строгое соответствие предлагаемым обстоятельствам, жизненная достоверность и душевная наполненность при их воссоздании – залог рождения сценического образа. Так обстоит дело в театре. А в цирке?
Какое изменение претерпевает опрокинутая К. С. Станиславским в театральную практику пушкинская триада (правдоподобие чувств, истина страстей, предлагаемые обстоятельства) на цирковом манеже? Насколько действия, совершаемые в цирке, могут быть соотнесены с действием сценическим? Меняется ли облик и существо циркового артиста во время исполнения номера или же он так и остается на ученической ступени «я в предлагаемых обстоятельствах»? Наконец, ограничиваются ли предлагаемые обстоятельства исключительно жанром номера и реквизитом, с которым артист работает? Иными словами, правомерны ли разговоры о существовании некоего циркового сценического, манежного образа?
Вопрос этот предполагает в первооснове своей восприятие циркового мастерства как самостоятельного вида искусства.
Любое теоретическое рассуждение о цирке может явиться результатом анализа построения номеров не одной или нескольких, а по крайней мере десятков программ. Это связано с практикой постановочной работы в цирке, при которой режиссер-постановщик программы является прежде всего координатором и имеет отношение скорее к украшательской подаче номера, чем к подлинной постановочной работе над ним, которая в основном отдана на откуп самим артистам.
Артист цирка, в отличие от театрального, был (и чего греха таить – в большинстве случаев является и сейчас) един в трех лицах – и автор, и режиссер, и исполнитель. Качество номера, следовательно, зависит не только от его профессионального мастерства, но и от его вкуса, общей культуры.
Особенности производственного пространства, многожанровость, структура представления, действительность реализма, особое, неизвестное никакому другому искусству партнерство, метод обработки действия – вот что обусловливает самобытность циркового искусства. Проанализируем подробнее каждое из перечисленных слагаемых.
Наиболее бросающейся в глаза спецификой цирка можно назвать его многожанровость. Ни одно другое искусство, ни один вид зрелища, за исключением эстрады, не может похвастать таким многообразием жанров, которое объединяет цирковой манеж единым представлением.
Действительно, можно ли представить что‐либо, на первый взгляд более случайное и бессистемное, чем сменяющие друг друга выступления акробатов и гимнастов, жонглеров, эквилибристов, иллюзионистов, дрессировщиков, вело- и мото- номеров и, конечно же, клоунов? В свою очередь, акробатика подразделяется на такие несхожие номера, как акробаты-прыгуны, акробаты на батуте, силовые акробаты, пластические этюды (раньше кратко и образно именовавшиеся каучуком), акробаты в колонне.
Сюда же относятся конно-акробатические жанры – вольтижировка на лошади, гротеск- и парфорс-наездники, жокеи и джигиты.
К гимнастическим воздушным номерам относятся и групповые полеты, и одиночные трапеции, кольца, бамбук, штейн-трапе и корде-парель, корде-волан, лопинг и воздушные рамки, доппель-трапе и вращающиеся аппараты, так называемые вертушки.
Жонглеры могут работать на ковре, но могут быть и жонглерами на лошади и на лестнице, и силовыми жонглерами. Эквилибристы ходят по проволоке и канату, балансируют на лбу или на плече перша, держат на ногах лестницы. Даже дрессура включает в себя работу с голубями и тиграми, с кроликами, со слонами, с носорогами и, конечно же, с лошадьми, без которых до сих пор немыслим цирк вообще.
Точно так же и клоуны могут быть буффонными или музыкальными, мимистами, разговорниками, выходить только на одно антре или, заполняя паузы, «работать у ковра», пародируя номера программы.
Если приглядеться внимательно, то в этой бессмысленной, казалось, мешанине, в этом вавилонском столпотворении людей и жанров, животных и реквизита можно обнаружить определенную систему и понять, что формирование цирковых номеров восходит к трем источникам.
Первым можно считать распад классического конного цирка. Многие его элементы развились в самостоятельные жанры, такие как жонглирование, акробатика, эквилибр. Даже клоуны начинали свою цирковую профессиональную жизнь как акробаты конного цирка.
Как когда‐то конный цирк, сейчас на манеже господствуют спортивно-акробатические жанры. Их популярность способствует развитию физкультурной жизни нашей страны, что, в свою очередь, ведет к обогащению трюкового и исполнительского мастерства цирка. Спорт – второй источник, питающий цирковое искусство. Цирковую атлетику, акробатику и гимнастику постоянно пополняют воспитанники спортивных обществ. Обрели новую жизнь на цирковом манеже и многие спортивно-гимнастические снаряды. Сейчас уже трудно представить себе цирковое представление без турника и батута, без трапеции, колец, параллельных брусьев. Гири, ядра и штанга имеют многовековую цирковую биографию. Завоевывают себе право на жизнь в цирковом искусстве и разновысокие брусья.
Третьим источником формирования цирковых номеров следует признать технику. Столь понятное для любого искусства желание быть созвучным своему времени, в цирке вылилось в пристальное внимание к любым техническим новшествам.
Так, например, изобретение велосипеда и рост его популярности распахнули перед велосипедистами барьер циркового манежа.
Демонстрируемый первоначально в качестве технической новинки, велосипед постепенно приноравливался к цирковым условиям конструктивно (укрепление рамы, уменьшение передачи), трюково (за образец была взята жокейская работа на лошади и высшая школа верховой езды), а затем и образно (разборный велосипед, моноцикл, различно декорированные машины). Велосипед на манеже постепенно из объекта самодемонстрации превратился в средство создания циркового образного зрелища. Появились велосипедные номера, названия которых красноречиво раскрывают их содержание, – «Баскетбол на велосипедах», «Флирт в спортивном магазине» и тому подобное.
Схожий путь на манеж можно проследить у мотоцикла, автомобиля. Было даже время, когда таинственные ящики Кио не выносили или выкатывали, а вывозили в манеж на троллейкарах.
Техника принесла в цирк и такое понятие, как «механический аттракцион». Это и вращающиеся пьедесталы, и движущаяся проволока, и всевозможные поднимающиеся аппараты, и бесконечные «вертушки», упоминавшиеся выше. Номеров, взращенных на этой основе, развилось столь много, что их в настоящее время можно выделить в самостоятельный жанр.
Искусство цирка использует для своего роста достижения спорта и техники, но не заимствуя, а ассимилируя их. Поэтому многожанровость, сама являясь специфической чертой циркового искусства, таит в себе еще одну его особенность. Цирк не только широко использует приемы и достижения театра, цирк – искусство, поэтизирующее спорт и технику.
Цирковое искусство за долгие годы своего существования выработало строго соблюдаемые особенности производственного пространства.
Круглый манеж постоянных размеров, окруженный со всех сторон амфитеатром, – основное место действия цирка. Несмотря на предельную простоту, форма манежа таит в себе целый ряд художественных и эксплуатационных моментов, определяющих и своеобразие построения цирковых номеров, и существующую в настоящее время систему их проката.
Цирки, по сути, являются прокатными площадками как отдельных номеров, так и целых программ. Именно неизменность, постоянство манежа служит основным залогом стабильности показа циркового номера. Стабильность размеров манежа гарантирует стабильность места установки любого циркового аппарата (и длину его оснастки – растяжек, блоков и т. п.), стабильность количества прыжков акробатов, когда они производятся из центра манежа или же из форганга, стабильность размеров центральной клетки при выступлениях хищников и, конечно же, стабильность демонстрации конюшен дрессированных лошадей. Именно соблюдение зрительского и исполнительского удобства конного цирка и продиктовало в свое время форму и размеры циркового манежа. Поэтому они постоянны во всем мире, диаметр манежа колеблется между 13 и 11,8 м.
Цирковой манеж представляет собой соединение двух игровых разновысоких плоскостей, это площадка самого манежа и верх барьера, его окружающего. Барьер несет определенную функциональную нагрузку, вызвавшую в свое время его появление – он служит ограничением при беге лошадей и местом крепления всевозможных растяжек и лонж.
Но художественное значение барьера в цирковом представлении несоизмеримо выше его функционального значения. По барьеру бегут друг другу навстречу животные в любом собачьем номере. Перебирая передними ногами по барьеру, а задними по манежу, ходят лошади. По барьеру коверный совершает свой первый выход, кончающийся каскадом на манеж. С барьера – или через барьер – делают прыжки акробаты. Был даже номер, в котором наездник вольтижировал на лошади, галопирующей по верху барьера. Словом, все цирковые номера, за исключением разве что воздушных, используют барьер в пространственном разрешении своих трюковых комбинаций, комплиментов или реприз.
Круглый цирковой манеж требует от артистов и режиссеров особой изощренности при мизансценировании. Зритель, сидящий почти по всей окружности манежа, должен быть равно удовлетворен просматриваемостью и адресованностью лично для него исполняемых трюков. Это породило крестообразные и диагональные построения номеров с непременным акцентированием комплиментами всех тех сторон, к которым артист при исполнении трюка не был повернут лицом. Но наиболее эффектным разрешением пространственных трудностей круглого манежа все же надо признать классическую цирковую работу на лошади, скачущей вдоль барьера. При этом зритель через равновеликие промежутки времени имеет возможность видеть артиста (артистов) и самым крупным планом, и общим, к тому же в циклически меняющемся ракурсе – прием, почти равнозначный кинематографическому столкновению монтажных кусков. Этот же принцип мизансценирования повторяют акробаты-прыгуны в прыжках вдоль барьера.
Его механизированный вариант – исполнение номеров на вращающихся пьедесталах. Несмотря на многовековую культуру цирка, круглый манеж постоянно дарит нас новыми сюрпризами пространственного мизансценирования.
Расположение циркового манежа как бы на дне чаши амфитеатра предопределяет особый ракурс, в котором зритель видит артистов цирка. Театральные актеры воспринимаются, в основном, с нижней точки и действуют, соответственно, на фоне задника. Тела цирковых артистов читаются в проекции на манеж. Круглый цирковой манеж, как увеличительная лупа, придает всем, на нем находящимся, всему на нем происходящему особую значимость, масштабность и выразительность. Любопытно, что цирк, искусство контрастов, верен себе и здесь. Четко выраженный верхний ракурс при восприятии основной массы цирковых номеров – партерных – для воздушных сменяется столь же определенным и резко выраженным нижним ракурсом.
Цирковой манеж, открытый со всех сторон зрительскому вниманию, предоставляет свое трехмерное пространство для работы трехмерного циркового артиста.
Цирковой манеж венчает полусфера. Брезентовая или железобетонная, она организует свое, цирковое, небо. Цирк в исключительных случаях загромождает купол элементами оформления. Разумеется, не из экономии. Ведь воздух в цирке не живописный пленэр, а место работы.
Полусфера служит вертикальным продолжением манежа. Цирковые номера тяготеют к вертикали. Это касается не только першей, ножной или переходной лестницы и проволоки, в которых сама аппаратура диктует оторванное от плоскости манежа вертикальное мизансценирование. Ведь и жонглирование, особенно у соло-жонглеров, по сути, происходит в вертикальной плоскости. То же можно сказать и об акробатах-прыгунах. Но если в приведенных примерах воздух «обживается» в момент исполнения трюка, то целый ряд номеров, таких как акробаты в колонне, силовые акробаты или выступления всех видов наездников, даже пространственно строятся именно в высоту.
Полусфера – это земля гимнастов. Все воздушные номера от групповых полетов до солисток на трапеции или корде-пареле располагаются в пространстве купола. Уже сам факт исполнения трюков не на надежном манеже, а на зыбких гимнастических снарядах, конечно же, увеличивает их эффектность. Этому же способствует резко выраженный нижний ракурс, в котором зритель воспринимает работу гимнастов. Попирая законы тяготения, артисты парят в полусфере купола.
В полусфере же, приподнятая над уровнем манежа, располагается сцена. Ее постоянное место находится над форгангом, актерским выходом.
Оформлением и его сменой сцена может внести определенный изобразительный акцент в развитие циркового представления. Чаще всего она используется в параде или эпилоге программы. Но иногда ее оформление может помочь выступлению аттракциона или крупного номера.
Сцена представляет дополнительные возможности для мизансценирования. Расположение сцены над форгангом позволяет, скажем, проводить на ней показ какого‐либо номера в то время, как манеж готовится для более крупного номера. Прыжком со сцены на манеж начинал когда‐то свои репризы коверный Константин Берман. На сцене же могут появляться, а затем спускаться на манеж и участники каждого номера в парад-прологе или непосредственно перед своим выступлением, это уже зависит от изобретательности режиссера.
Сцена может служить истоком водопада, обрушивающегося с четырехметровой высоты на манеж и заполняющего его водой в считанные минуты. Но это уже производственные особенности не любого циркового представления, а непосредственно водяных пантомим.
Что же касается повседневного использования сцены, то перенос места действия с манежа на сцену и обратно, соединение сцены и манежа лестницами по бокам форганга и подвижной лестницей, перекрывающей трехметровую ширину форганга, использование живописных задников, постоянных или по необходимости сменяемых, а также включение в оформление сцены элементов декорации создают неисчерпаемые возможности истинно циркового мизансценирования.
К особенностям производственного пространства цирка следует отнести и расположение оркестра. Где бы оркестр ни находился, над форгангом или центральным проходом, важна именно его оторванность от манежа.
При отсутствии светового акцента на оркестре и сосредоточенности внимания зрителей на исполняемом номере оркестранты как бы дематериализуются, и музыка звучит сама по себе. Звучит из‐под купола, отовсюду. При таком исполнении музыкальное произведение теряет самостоятельную ценность и воспринимается уже не более как ритмически организованный фон работы номера. Но вместе с тем возвышенное расположение оркестра позволяет в необходимые моменты, как, например, в номерах музыкальных эксцентриков, акцептированным вниманием превратить оркестр в зримого партнера, с которым можно вести музыкальные диалоги. Вернуть оркестр из небытия можно, разумеется, не только действенным, но и световым акцентом, сосредоточив на нем лучи прожекторов, но это обычно делается, когда оркестр солирует, то есть на увертюрах.