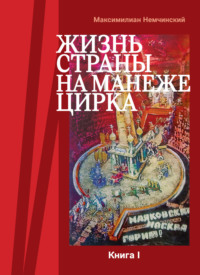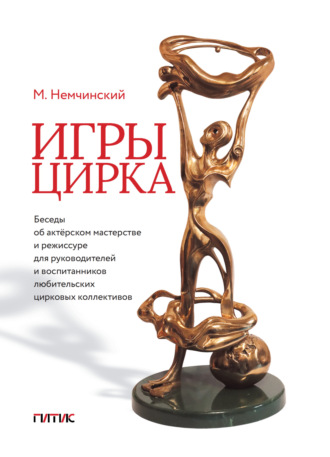
Полная версия
Игры цирка. Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов
Рассмотренные особенности цирка – круглый манеж постоянных размеров, окруженный со всех сторон амфитеатром, полусфера купола, сцена и оркестр, оторванные от плоскости манежа и размещенные соответственно над форгангом и центральным проходом, – составляют специфику производственного пространства. Цирковые номера, производственные условия которых в свое время сформировали особенности производственного пространства циркового здания, в настоящее время сами вынуждены соизмерять с ними свои выразительные возможности.
Не менее значительное место в специфике циркового искусства занимает структура представления.
Контрастность как принцип выстройки программы характерна для циркового спектакля. Речь идет не о схеме «номер – пародия на него коверного». Принцип воплощается более объемно и многосторонне. Здесь столкновение партерных и воздушных номеров, героики и буффонады, иллюзии и техники.
Контрастность цирка диалектична, ведь в ней не только демонстрация многообразия циркового жанра. В ней прежде всего утверждение многогранного мира и способности человека всем этим многообразием овладеть, подчинить своей воле, силе и ловкости, утверждение безграничности возможностей человека.
Контрастное столкновение номеров по жанрам, по разрешению, количеству и индивидуальности участников, контрастность костюмов, музыкального сопровождения, места действия, освещения – все служит тому, чтобы из контрапунктирующей мозаики номеров сложить цельную картину праздничной цирковой программы.
Цирковому представлению в целом и каждому номеру в частности присущ динамизм. Речь идет не о быстроте, не о скороговорке. Динамизм в цирке – это предельная насыщенность действия, образная и трюковая, в минимально возможное время.
Стремление дать в кратчайший отрезок времени наиболее яркое, образное и законченное художественное произведение делает каждый цирковой номер самобытным и самостоятельным. Цирковой номер, как афоризм, должен сразу запасть в душу.
В противном случае он теряет смысл. Прошло 7–10 минут, номер закончился, за артистами запахнулся занавес. Самое лучшее, через год, через три зритель снова сможет увидеть их на манеже.
Настоящий цирковой номер и за это время не должен быть забыт.
Умение каждую минуту сделать емкой, каждый трюк, каждое действие провести на гребне физического и духовного накала определяет цирковой динамизм. Начатое на высокой ноте представление в цирке так и развивается по восходящей, поднимаясь по актерскому и зрительскому эмоциональному регистру. Столь же динамично, насыщенно, как номера, проходит в цирке и их смена.
Пауза между номерами в цирковом представлении отличается от чистой перемены в театре. Там закрывающийся занавес или наступающая темнота дают возможность зрителю передохнуть, проанализировать виденное, отвлечься от магии сцены. Цирк своему зрителю передышки ни в чем и никогда не дает.
Паузы между номерами в цирке не перерыв, а развитие представления.
Действенное разрешение пауз не однотипно. Чаще всего их заполняет коверный клоун. Его репризы могут быть и самостоятельными, классическими или современными, разговорными или мимическими, это уже смотря по репертуару коверного и его индивидуальности.
Но традиционный ход построения циркового представления предписывает заполнение пауз пародированием только что показанных номеров. Традиционным является и эксцентрическое разрешение уборки аппаратуры исполненного номера, ковра или манежа. Участие коверного превращает ее из служебного мероприятия в смешную, а иногда и поучительную интермедию. Кстати, и в отсутствие коверного приготовление манежа к выступлению очередного номера обставляется по возможности постановочно. Как самый распространенный пример назовем разравнивание манежа из опилок перед выступлением конников шеренгой униформистов, выполняющих эту работу под специальный оркестровый номер, согласовывая шаги и движения граблями друг с другом и с музыкой.
Пауза в цирковом представлении носит преимущественно зрелищный характер и подчинена заданному темпоритму программы. А в представлении тематическом является носителем и сверхзадачи спектакля.
Трудно переоценить значение, которое в структуре циркового представления имеет пользование светом. Праздничность, яркость, мажорность, свойственная цирку, – это и лучезарность его освещения, ровным светом заливающего зрительный зал и манеж.
Свет в цирке используется сообразно необходимости организовать тот или иной круг внимания. То, что К. С. Станиславский предлагал для учебного тренинга актерского внимания, цирк использует для организации внимания зрителя.
Аналогия, конечно, чисто внешняя. Ни о каком заимствовании ни с той, ни с другой стороны не может быть и речи.
Пользуясь терминологией Станиславского, отметим «большой круг внимания» – полный свет, соответствующий парадам и эпилогам; «средний круг внимания», при котором освещен предпочтительно манеж и занимающие его крупные номера; и «малый круг внимания» – работа в кольце прожекторов.
Свет в цирке может по желанию быть и цветным. Вся осветительная аппаратура снабжена фильтрами, прожектора – сменными, фонари же световых колец заряжены красным, желтым, синим и зеленым, оставляя каждый пятый для белого света. Цветной свет позволяет живописно трактовать номера или, по надобности их фрагменты.
Наиболее эффектным способом использования света в цирке можно признать пользование световой диафрагмой. Концентрированные лучи прожекторов усиливают изобразительное решение номера. Особенной выразительности можно добиться в освещении воздушных номеров, когда по куполу вместе с гимнастами синхронно работают их многократно увеличенные двойники-тени.
Использование света в цирке уже сейчас несет большую эмоциональную нагрузку. Но еще много нужно сделать для того, чтобы попытаться на цирковом манеже осуществить мечту Вс. Э. Мейерхольда: «Свет должен воздействовать на зрителя как музыка»[13].
Контрасту цирковых номеров и жанров сопутствует контраст сопровождающей их музыки. Характер исполняемой в цирке музыки неоднороден. Здесь сказывается прежде всего музыкальный вкус, культура самих артистов. И конечно, ритмические требования номера, возможности организации его пластики.
Праздничность, стремительность, легкость большинства цирковых номеров предопределила и привлечение в качестве первостепенного материала так называемой легкой музыки. Модные танцы, мелодии песен из кинофильмов, опереточные арии и танцевальные номера широко представлены в музыкальном сопровождении цирка. Не меньшее значение, чем соответствие музыки характеру трюков, имеет ее популярность, что предполагает зрительское расположение к номеру. Поэтому музыкальное сопровождение цирка так чутко откликается на каждую смену музыкальной моды, на появление любого шлягера.
Исходя из тех же соображений, номера, требующие медлительности, величавости для своего развития, так охотно обращаются к музыке оперных маршей и балетных шествий.
Еще более значимым представляется обращение к симфонической музыке. Это знаменует и рост музыкальной культуры самого цирка, и действенную пропаганду лучших образцов отечественной и зарубежной музыкальной классики. Многие цирковые номера находят в подобной музыке естественное и свободное подспорье своей пластической жизни.
Но какой бы ни была музыка в цирке, она, в отличие от балета, не ведет за собой артиста, а следует за его работой. Музыка в цирке всего лишь сопровождение номера, но сопровождение, придающее номеру цельность и законченность произведения искусства.
Музыка в цирке подстегивает зрительский интерес к каждому номеру, выявляет ритм трюковых комбинаций, организует финальные аплодисменты. Музыка в цирке – это пульс представления.
Своеобразную, отличную от всех театральных искусств форму приняло в цирке партнерство.
Конечно, цирку свойственно привычное общение артистов друг с другом, выраженное как в словесном действии, так и в трюковой работе. Это партнерство – основа всей спортивно-акробатической, клоунской и гимнастической работы. Специфичность этого вида партнерства в том, что она более остро, чем в театре, ставит вопрос об ансамблевости работы, так как в цирковых условиях это не просто вопрос верного сценического самочувствия, но залог возможности существования номера. Согласованность действий, синхронность работы, равная ответственность за успешное выполнение каждого фрагмента номера, каждого трюка, а в ряде случаев и за жизнь партнера ведут к тому, что партнерство в цирке – это не просто слаженность работы, но и созвучие пластики, характера, индивидуальности артистов.
Уже собственно цирковой является работа человека с животным. Лошади, львы, голуби, кенгуру, собаки, медведи, страусы, белки, журавли… Пришлось бы переписать почти всего Брэма, чтобы полностью перечислить четвероногих или пернатых партнеров цирковых артистов. Трудно найти живое существо, которое человек не подвергал бы дрессуре. Фигура дрессировщика неразрывно слита с цирковым манежем. Различная форма дрессуры (болевая, дуровская гуманная, «кнута и пряника») и различная манера поведения дрессировщиков на манеже могут составить тему специального исследования. Здесь же внимание хотелось бы сосредоточить на партнерских, равноправных взаимоотношениях человека и животного.
Это явление характерно в основном для развития современного цирка. Хотя и в истории можно найти схожие прецеденты. Самым замечательным и до сих пор, кстати, не повторенным можно считать работу русского дрессировщика Петра Крутикова. Он появлялся из форганга без шамбарьера, без стека и, поклонившись публике, тотчас покидал манеж, располагаясь в зрительских креслах. Он даже разговаривал со своими соседями. А жеребцы, заполнившие тем временем манеж (Крутиков работал исключительно с жеребцами, что гарантировало особую красоту экстерьера, грациозность движений, темп работы), самостоятельно меняли аллюры, построения, очередность следования друг за другом, направление, скорость бега. Дрессировщик неприметно управлял своей конюшней. Он представлял вниманию зрителя не демонстрацию своей власти над лошадьми, а именно выучку лошадей.
На манеже государственного цирка, также самостоятельно, без всадника в седле, исполнял номер высшей школы верховой езды жеребец Юрия Ермолаева (дрессировщик при этом сидел в зрительном зале).
Так, на рубеже XIX и XX вв. и в 50‐е гг. XX в. на отечественном манеже было заявлено о самостоятельной художественной ценности выступления животного, то есть, по существу, о праве животного на партнерство.
Но одно дело, когда верная мысль декларирована творчеством какого‐либо выдающегося мастера, и совсем другое, когда она становится традиционным воплощением данного положения. Очень долго и очень непросто равноправное партнерство человека и животного утверждалось в практике цирка.
Быстрее всего обрела права гражданства так называемая клоунада с животными, в которой животные «изображали» людей. Кстати, такая клоунада имеет одну из самых славных цирковых родословных и восходит к выступлениям поводыря-скомороха с медведем. Наиболее древние примеры подобных клоунад – «Как сельские девки смотрятся и прикрываются от своих женихов», «Как малые ребята горох крадут и ползают, где сухо, на брюхе, а где мокро, на коленях, выкравши же – валяются», «Подражают судьям, как они сидят за судейским столом» и тому подобное – письменно засвидетельствованы уже в XVIII в.[14]
В этом случае партнерство заключается в том, что разыгрываемая животным пантомимическая сцена получает окончательное художественное оформление в словесном комментарии дрессировщика.
Наиболее популярными представителями этой школы дрессуры принято считать династию Дуровых.
Другая школа дрессуры, которая в отечественном цирке объявила животное равноправным артистом программы, была заявлена «Медведями-канатоходцами» Бориса Эдера и разностороннее развитие получила в «Медвежьем цирке» Валентина Филатова и в «Цирке шимпанзе» Ванды и Валентина Ивановых. В этом случае разыгрывалась не ассоциативная бытовая или политическая ситуация, а самостоятельное цирковое представление, в комментариях не нуждающееся, говорящее само за себя количеством представленных номеров цирковых жанров и качеством работы.
Следующим шагом в признании за животными права на равноправное с человеком партнерство было объединение их на исполнении трюка. Первоначальная реализация этого хода сводилась к включению животных в отлаженные трюковые комбинации или же к дублированию исполняемых человеком действий, в том числе трюков. В первом случае животные как бы подменяют собой реквизит.
Так, в аттракционе «Слоны и танцовщицы», созданном Александром Корниловым по сценарию А. Н. Буслаева, слоны держали в хоботах трапеции и корде-воланы, на которых работали гимнастки, или же, расходясь, опускали в шпагат девушку, опиравшуюся на их лбы ногами.
Во втором же, более прогрессивном по подходу случае животные привлекались на исполнение отдельных трюков или же ставились в сходные с человеческими ситуации. Здесь можно назвать номер Александра и Анатолия Сосиных, в котором отдельные комбинации включали участие собачки в акробатических трюках. С бурым медведем на плечах поднималась Ирина Сидоркина по вольностоящим лестницам. Гималайский медведь жал стойку в руках у Луиджи Безано.
Собаки, лошади, медведи, слоны, одетые в разнообразные одежды, под музыку танцевали разные танцы. Лошади, например, приходили в устроенную на манеже спальню, струей воздуха из ноздри тушили свечу и ложились в кровать, натягивая зубами на себя одеяло. Или же ужинали в ресторане. Причем существовали сценки, когда лошадь обслуживала человека-клиента и когда она сама являлась клиентом.
Сошлемся на примеры драматизированного участия конницы в цирковых пантомимах братьев Франкони еще на рубеже XVIII и XIX вв., как в массовых перестроениях лошадей под всадниками, соответствующих поведению миманса, так и в сольной работе (трюк с раненой и хромающей лошадью и т. п.). Е. М. Кузнецов одно время даже предлагал выделить самостоятельный раздел конного цирка под условным наименованием «дрессированная лошадь в драматической ситуации» или «дрессированная лошадь как актер».
Но все это были отдельные трюки в ходе демонстрации привычной дрессуры животных.
Поистине новаторской можно назвать работу Вениамина Белякова. В свой номер «Акробаты на качелях» он ввел бурых медведей как равноправных участников номера. Медведь вместе с человеком приносит подкидную доску. Медведь помогает людям отбивать доску, с другого края которой идет па трюк человек. Медведь сам становится на подкидную доску и крутит сальто-мортале, только что исполненное человеком. И в конце номера медведь, как и все его участники, делает финальный кульбит и комплимент. Если в свое время новаторскими представлялись номера Филатова и Ивановых, то теперь, с дистанции времени, можно сказать, что их работа, при всей ее серьезности, лишь количественно расширяла ассортимент трюков, тогда как Беляковы качественно по‐новому подошли к решению самой сути проблемы участия дрессированного животного в цирковом представлении.
Был период, когда принцип работы с животными как с равноправными партнерами широко применялся при подготовке новых номеров отечественного цирка.
Наибольшей популярностью отличалась «медвежья полоса». По сценарию Ивана Брюханова, многолетнего помощника Кио, акробат Геннадий Минасов выпустил аттракцион «Медведи-иллюзионисты». Семейство Бирюковых включило медведедя в свой номер музыкальной эксцентрики. Флора Минина превратила медведя в партнера своего номера пластического эквилибра.
Словом, современный цирк практически провозглашает художественное равноправие животного с человеком в исполнении любого трюка в любом номере любого жанра.
Этот подход утверждает не столько возросшую школу дрессуры, сколько поиск средств выразительности, обогащение палитры цирка.
В цирковом представлении имеются номера, где партнером артиста выступают предметы.
Цирк предметен, и артиста в его работе почти всегда сопровождает реквизит, будь то стек в руках дрессировщика, «сигара», которую крутит на ногах антиподист, штанга, выжимаемая атлетом, или же кусок мыла, никак не дающийся коверному в руки и заставляющий его гоняться за собой по всему манежу. Реквизит, при помощи которого, благодаря которому артист в состоянии выполнить определенный трюк, определенный номер.
Но в данном случае речь идет не о предметах, которые служат средством выявления мастерства актера. Речь о предметах, выступающих носителями актерского мастерства. В номерах жонглеров, так же как в номерах манипуляторов, основным объектом зрительского внимания являются не сами артисты, а предметы, с которыми они работают.
Так, в работе манипулятора главным действующим лицом номера является игральная карта, самостоятельно вылезающая из колоды по требованию зрителей, папироса, в произвольных местах возникающая из дыма, или, скажем, блестящие никелированные кольца, которые в руках зрителя упрямо не желают разъединяться, а подхваченные манипулятором, легко расходятся и тут же нанизываются в звенящую цепь. Смысловой акцент номера строится именно на действовании предметов. Впрочем, действие это неоднозначно и может вылиться в диалог между артистом и предметом.
Или, скажем, артист, окончив манипуляцию с шариками, прячет их в карман и хочет приступить к следующему фокусу, но тут из его цилиндра появляется спрятанный шарик. Его походя снимают и прячут вслед за остальными в карман. Но шарик вылезает у артиста изо рта. Один раз, второй, третий, пятый. С большим трудом манипулятору удается утихомирить расшалившийся предмет.
Конечно, качество трюка зависит от техники престидижитации, но именно виртуозность владения этой техникой одухотворяет предметы и делает номер явлением искусства.
Точно так же при выступлении жонглера внимание зрителя поглощает не движение рук, бросающих предметы, а самое их движение, будь то кольца, булавы, палочки, мячи, ракетки или любые другие оживающие в руках артиста предметы. Их количество, чередование, ритм их движения, направленность полета – вот что определяет композицию номера. Этим, конечно, не перечеркивается индивидуальность самого жонглера. Но ведь индивидуальность его проявляется именно через отношение к предметам, с которыми артист работает.
Поэтому нельзя не согласиться с профессиональной убежденностью А. Кисса: «С некоторых пор степень мастерства жонглера почему‐то стали измерять количеством выбрасываемых предметов. Думается, что такой критерий ошибочен. Можно и с пятью-шестью предметами исполнять такие трюки, которые по своей сложности не уступят жонглированию восемью обручами… Только освоение технически сложных трюков, сочетание их в интересные комбинации может выдвинуть артиста в ряды лучших представителей жанра»[15].
Индивидуальность артиста, его техничность сообщают индивидуальность и движению предметов.
Если темпоритм актерского существования манипулятора сравнительно спокоен и может произвольно меняться соотносительно с реакцией зала, что сообщает движению предметов, с которыми работают, как бы повествовательность, то жонглер (руки его, во всяком случае) живет в более организованном, циклическом ритме, а потому и движение предметов жонглирования воспринимается уже как зримая музыка.
Это и позволяет при рассмотрении работы иллюзиониста и жонглера говорить соответственно о пантомиме вещей и танце вещей.
Заострение внимания зрителей именно на работе предметов – лучшее подтверждение специфической цельности циркового реализма, неизвестной никакому другому искусству спаянности формы и содержания.
Своеобразными партнерами артиста в цирке выступают и аппараты. Присущая цирковому искусству способность поэтизировать технику одухотворяет механические конструкции.
Проследим эту мысль на примере с велосипедом.
Ассоциативное, свойственное искусству сопоставление велосипеда с лошадью в свою очередь предопределило развитие возможной работы на велосипеде как равнозначной конной акробатике и выездке лошади. Подтверждением этому ходу рассуждений могут служить афиши, рекламирующие велосипедистов как «акробатов на стальном коне». Каждая лошадь, как известно, предельно индивидуальна мастью, экстерьером, норовом. И работа на каждой лошади сопряжена с акцентированием внимания на ее индивидуальности. Поэтому, должно быть, с развитием велофигуризма на манеже стали появляться и велосипеды «с индивидуальностью». То есть трюковые.
Дальнейшее развитие велосипедных номеров в советском цирке шло преимущественно по линии выявления спортивно-акробатических возможностей жанра, и акцент делался на фигурную езду и вольтижную работу артистов, а не на трюковое раскрытие машин. Впрочем, разборный велосипед, так же как разновысокие моноциклы, присутствовал почти в каждом номере. Демонстрацией целой «конюшни» подобных велосипедов был номер гастролировавшего в 1925 г. в советских цирках Пауля Петцольда.
Постоянно меняя маски, вернее, состояние, он менял и машины. Пьяный, он выезжал на велосипеде, оба колеса которого имели сильную восьмерку. Влюбленного, его несли колеса в виде сердца. Торопящимся, он появлялся на машине, колеса которой представляли собой укрепленные по кругу ботинки. И так далее на всем протяжении 10-, 15-минутного номера. Вся работа, по существу, сводилась к демонстрации небывалых машин. И именно машины воплощали образное начало номера. Аппарат «сопереживал» артисту. Он становился собратом по несчастью и счастью, партнером.
Подобную тенденцию, правда, в более общем виде, можно проследить и в оформлении номеров воздушных гимнастов.
Скажем, традиционную воздушную рамку в номере Немчинских обнимал полумесяц с юмористическим профилем и широко открытым глазом, который подмигивал в определенных местах смены трюковых комбинаций. Да и весь полумесяц, в созвучии с работой артистов, светился каждый раз другим цветом, а в финале номера вспыхивал вихрями фейерверка и, крутясь, опускал гимнастов на манеж. Сочетание стиля работы артистов с внешним видом аппарата, с его световыми акцентами и пространственными перемещениями, дополняя друг друга, сливалось в цельный художественный образ и воспринималось зрителем, по словам Е. М. Кузнецова, как «гимнастический ноктюрн».
Здесь можно вспомнить и номер Бараненко с самолетом или «Полёт на ракете» В. Лисина и Е. Синьковской. Артисты и аппарат в приведенных примерах настолько полно гармонировали друг с другом, что под куполом, казалось, вниманию зрителей предлагалась работа не двух, а трех исполнителей. Аппарат в этих и подобных им номерах являлся не просто декоративно-оригинальным оформлением функциональной конструкции, он задавал и разрешал смысловое звучание номера.
Много позже Виктор Лисин, уже как режиссер, создал аппарат и номер для Эльга Анзорге и Рены Мануковой. Никакого повествовательного образа за этим аппаратом не стояло: очень экономно решенная конструкция типа воздушной рамки. Но настолько продуманы, целесообразны, элегантны были линии хромированных труб, так свободно и естественно трансформировались они, спускаясь, в бамбук, на котором артистки могли передохнуть в комплименте, так своевременно вбирали трубы в свое полое нутро отработавший реквизит, настолько каждая линия была функциональна и эстетична одновременно, что номер явился утверждением гармонии нашего механизированного века – содружества человека с машиной, причем машиной настолько совершенной, что аппарат воспринимался уже не мертвой механической конструкцией, а одухотворенным помощником гимнасток.
Отношение к аппарату как к партнеру артистов сродни поэтическому антропоморфизму и служит лишним утверждением синтетичности циркового искусства.
И, наконец, своеобразным партнером артиста в цирке постоянно является сам зритель. Этому способствуют и особенности производственного пространства, и структура представления, и композиция ряда номеров, и техника выполнения отдельных трюков. Открытость мастерства цирковых артистов позволяет им свободно вступать в контакт со зрителем, не боясь никаких разоблачений.
Невысокий и неширокий барьер, отделяющий манеж от зрительного зала, – вот и вся, скорее символическая, преграда между артистами и зрителями цирка. Скорее, барьер даже является местом, соединяющим манеж с залом. Целый ряд цирковых номеров для своего разрешения требует прямого вовлечения зрителя в действие.
Зрители, например, приглашаются на манеж контролировать такие иллюзионные номера, как «Полёт в космос», «Сундук-молния». У зрителей заимствуют ценные вещи для осуществления фокуса «Загадочная посылка». Или приглашают ассистировать иллюзионисту («Неисчерпаемый сундук»), вызывая смех остальных зрителей, когда секрет разоблачается и видно, в какой скрюченной позе и как, притаившись, лежит новоиспеченный фокусник. Когда‐то зрителей приглашали на манеж, чтобы сесть в ладью, которую потом балансировал на лбу Рафаэль Манукян. Зрителю предлагается выбрасывать назад на манеж мячи, помогая лошади-футболисту или же жонглеру, ловящему их на зубник…