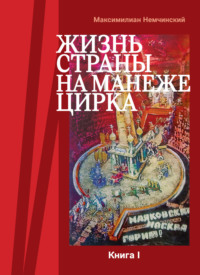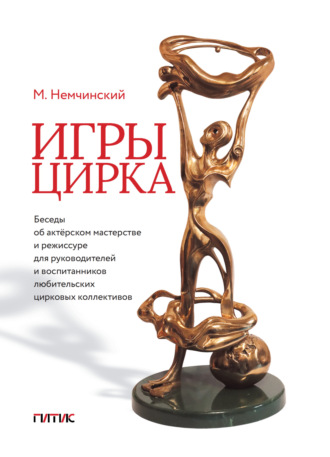
Полная версия
Игры цирка. Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов
М. Н. Если я верно тебя понял, количество участников номера и трюки, которые они исполняют, диалектически связаны между собой. С одной стороны, конкретный трюк диктует присутствие на манеже определенного количества артистов, с другой – наличие некоторого числа участников требует включения в номер таких трюков, при которых именно это количество исполнителей было бы технически необходимо и художественно оправдано. Так?
В. Д. Верно. Трюк, если можно так выразиться, диктует не только привлечение в номер того или иного количества участников, но и разумное, наиболее эффектное их, этих артистов, использование. Другими словами, трюк предопределяет композицию номера. Например, я отошел в последнем варианте номера от партерных прыжков. Почему? Потому, что в спорте сейчас придумали трамплинную лыжную дорожку. Это изобретение, безусловно, сильно двинуло вперед прыжковую акробатику в спорте. Стали эту дорожку применять и в цирке…
М. Н. Владимир Максимов в «Черемоше»…
В. Д. Не только он. Уже многие. Была она и у меня. Но я очень быстро от нее отказался. Дорожка эта мне мешала делать грандиозные, космические, как я их называю, прыжки в высоту. Нет слов, лучше летать наверх, лучше свое, цирковое показывать, чем то, что уже где‐то ассоциируется со спортом. Я эту дорожку убрал и все партерные прыжки убрал. Оставил только чисто цирковые, по кругу, прыжки. По кругу – флик-фляки, за ними по кругу арабские, вместе с тем и на месте множество арабских, флик-фляков, колесиков. И все это, как я уже говорил, – под мигание стробоскопа, которое словно разлагает прыжок на его составные элементы. В этих, как бы остановившихся движениях, в трюках, производящих впечатление снятых рапидом, есть, мне кажется, современность, угадывается намек на полеты к другим планетам, на наш век с его теснейшим соединением достижений техники и мысли человеческой, его физических данных, готовность к полетам в космос. Мне кажется, что все эти мысли воплотились в групповом финале номера так, как это надо в цирке, – красочный апофеоз, эмоциональный взрыв, фейерверк! Именно такой финал соответствует основе номера – «космическим» прыжкам в высоту.
М. Н. Значит, ты считаешь, что цирковой трюк – это основной организатор номера, его участников, его композиции?
В. Д. Это не я считаю. Это практика цирка утверждает.
М. Н. Следовательно, если продолжить твои рассуждения, можно провозгласить трюк главным организатором циркового номера?
В. Д. Нет, ни в коем случае. Выразителем – да. Главным средством воздействия на зрителя – безусловно. Но организатором номера цирка, как и любого другого произведения искусства, мне кажется, является утверждение той или иной идеи. Она утверждается средствами циркового искусства, то есть прежде всего трюками, но важно знать – и помнить, – что трюк в цирке не самоцель, а средство общения с партнером и со зрителем.
М. Н. Означают ли твои слова, что ты сторонник так называемого сюжетного номера, который выстраивается как игровая сценка?
В. Д. Вовсе нет. Мне представляется неверной любая попытка ограничивать строгими установлениями, пусть даже самыми убедительными, попытку самостоятельно найти форму любого произведения искусства, а уж такого разнопланового, как цирковое, тем более…
Расскажу, для примера, каким родился первый номер, который я возглавил, вернувшись в цирк после окончания Великой Отечественной войны.
Раздавался «Марш энтузиастов», и под него шпрехшталмейстер объявлял, что сейчас выступят Довейко, Россини и Мамедов, участники Великой Отечественной войны, они бомбили Берлин, они взяли Берлин и вернулись, награжденные орденами и медалями. И на сцене появлялись мы с Гогой Россини, оба в спортивных костюмах, в рубашках с короткими рукавами и коротких штанишках. В руках у нас был волейбольный мяч.
Из главного прохода выходил мальчик (Коля Ивакин был такой щуплый и низкорослый, что ему с манежа нельзя было тогда дать больше 12 лет). Мальчик тащил за руку фотокорреспондента (Мамедов изображал несколько шаржированного корреспондента тех лет – клетчатые гольфы, сверкающий фотоаппарат и т. п.). Манеж был оформлен как уголок сквера в виде спортивной площадки с клумбой, скамейкой и тумбой. Вот туда, на спортивную площадку, мальчик и вел за собой отца.
Мы с Гогой, перебрасывая волейбольный мяч, случайно упускали его из рук, и он попадал в голову фотокорреспондента. Тот падал, делая каскад. Мы быстро сбегали по боковым лестницам на манеж и прыгали с барьера по сальто-мортале. К нам тут же подходил мальчик и просил показать, что мы еще умеем. Мальчик вроде бы тоже хотел стать спортсменом. Мы, конечно, не отказывали и тут же начинали делать всякие комбинации – двойной пируэт, два с половиной пируэта, двойной задний… А мальчик просил еще и еще… Мы без отказа – на, смотри на любые двойные сальто-мортале. И мальчик начинал прыгать вместе с нами.
После этого шла игровая пауза. Мы вроде бы уставали и садились отдохнуть на скамейку. А корреспондент пристраивался нас сфотографировать. Но когда он хотел уже сделать снимок, скамейка превращалась в подкидную доску, и мы все скатывались на манеж.
Следующая часть номера шла как игра с подкидной доской. Мы, спортсмены, присаживались на одну сторону доски, а корреспондент, желая сфотографировать нас, бежал к другой. Он напрыгивал на поднятый край доски вместе с мальчиком, и мы с Гогой шли в прыжки. Потом я стоял на тумбе, а корреспондент пристраивался с аппаратом внизу. Я прыгал на доску, и Мамедов, отбросив фотоаппарат в сторону, крутил с доски каскадный прыжок, просто так, дрыгая ногами в воздухе. После этого комического начала шли разные фигурные красивые двойные сальто-мортале. И как завершение этой комбинации без музыки исполнялось мое тройное сальто-мортале с подкидной доски на землю.
Затем у нас следовали прыжки в партере. Прыгали все. И мы с Россини, и мальчик, и сам корреспондент – всем на удивление. Последним шел я по кругу сальто-мортале с пируэтами.
Когда я заканчивал второй круг, униформа уже устанавливала у артистического прохода доску и тумбу. Я прямо с комплимента, не давая стихнуть аплодисментам, забегал на тумбу.
– Приготовились!.. Внимание!.. – говорил Буше (помнишь этого самого знаменитого шпрехшталмейстера советского цирка?). – Ап!
Я отбивал доску, и Гога Россини летел на сцену в плечи Мамедову (7 метров 15 сантиметров! Мы тщательно выверили этот рекорд по высоте. Заметь, прыжок шел без лонжи).
Россини приходил «в плечи» Мамедову, мы с Ивакиным быстро взбирались к ним наверх, на сцену, и там все вместе делали финальный комплимент спортивного плана.
М. Н. Типичный сюжетный номер.
В. Д. Правильно, я и не спорю. Но заметь, что в те времена сюжетных номеров в жанре прыжковой акробатики практически не было.
М. Н. Что же тебя заставило сделать номер именно таким? Ты сможешь это припомнить?
В. Д. Еще бы, конечно, смогу. Но однозначно тут не ответишь. Прежде всего люди, которые стали участниками номера. Мамедов, Гога Россини, я – взрослые, повидавшие жизнь парни, и Коля Ивакин – совсем мальчик не только по возрасту, но и по виду.
М. Н. Участие детей в номерах – старинная традиция цирка. Очевидно, не это было решающим в твоем постановочном решении.
В. Д. Разумеется, нет. Но и это тоже. Ведь возможности партнеров определяют характер номера. Что же касается рождения замысла номера, то я, как каждый артист, стремился к своему, оригинальному… Ты же помнишь труппы акробатов-прыгунов первых послевоенных лет – большие группы, обязательные шаровары как традиционная «акробатическая» одежда, лихое гиканье при прыжках… Я решил создать номер во всем отличный от существующих. Даже в костюме. Ведь это я придумал тогда коротенькие штанишки типа теперешних шорт, в которых до сих пор выступают акробаты-прыгуны цирка. Мне казалось, что такая одежда лучше подчеркнет мускулатуру артиста и тем самым поможет ему создать более ярко выраженный художественный образ. Но это так, к слову. Что же касается номера, то, мне казалось, сочетание светлого спортивного начала и добродушного юмора полностью соответствовало тогдашнему настроению – и моему, только что демобилизовавшегося боевого летчика, прошедшего через войну, и всего народа нашего, нашего зрителя, с облегчением вступившего в мирную жизнь. На том этапе именно такой номер и должен был быть создан. Чистая случайность, что первым это сделал я.
Шли годы. Менялись вкусы. Менялся состав моих партнеров. Менялся, разумеется, и номер. Совсем иные мысли волновали меня. Совсем иначе складывался и образ номера. Было создано несколько вариантов. Но я хочу рассказать о последнем. Он называется «Романтика». Акробатический ансамбль «Романтика».
М. Н. Почему «Романтика»?
В. Д. Сейчас объясню. Начались космические полеты. Человек не только оторвался от земли. Он покинул Землю, охватил ее всю разом взглядом и – полюбил еще сильнее. Вот эти два вроде бы взаимоисключающие чувства – любви к Земле и любви к полетам – и стали основой нового номера. Стремление к мечте, осуществление мечты, мечта, становящаяся былью, действительностью, – ведь в этом суть и нашей жизни, и нашей цирковой работы. Все мы романтики в цирке. Я ввел в номер девушку. Все удивлялись – девушка у Довейко? Как? Почему? Зачем? А затем, чтобы попробовать по‐цирковому отразить суть нашей эпохи – любовь к Земле, к девушке, к жизни и стремление к грандиозным полетам (поэтому трюковой упор номера я и делал на прыжках на перши и на ходулях) – вот это проявление романтики!.. Такую мысль я постарался воплотить не только в трюках, но и в композиции номера.
Темнота. Песня о цирковой романтике. И шпрехшталмейстер говорит о том, как в заграничных гастролях оценивалась работа труппы, о том, что газеты ФРГ писали о нас, как о «космических прыгунах», в США – «фантастических акробатах», в Японии – о «тайфуне», в Румынии назвали «летающими волшебниками».
Сразу же за этим прожектора высвечивали три точки на манеже. В центре у форганга я читал стихи о цирковой романтике. По барьерам, справа и слева от меня, в скульптурных позах (я их называю «группы тематических скульптур») стояли, замерев, участники номера. Каждую строфу ребята быстро меняли позы, всякий раз принимая такую, которая изобразительно отвечала звучащей в стихах мысли.
После этого тут же зажигался полный свет и шел бешеный темп. Завязка, фейерверк! Двойное сальто-мортале на колонну из трех! Сальто-мортале бланш по параболе через весь манеж на двухметровых ходулях! Сальто-мортале в плечи партнера на ходулях!
За сольными прыжками шла вольтижная работа девушки – две комбинации. И решены они не просто трюково, здесь, как и во всем номере, разработана и игровая сторона – все ребята как бы стремятся помочь девушке, подбросить ее, поймать, спассировать, быть в трюке рядом с ней.
И опять смена ритма. Перши. 4,5-метровый перш. Нижний держит его на плечах, на перше стоит верхний партнер, и на всю эту высоту идет парень двойным сальто-мортале, а за ним красивым сальто-мортале бланшем девушка. Кресло на высоком перше. Тройным сальто-мортале приходит в него парень! За ним следом девушка. И не как‐нибудь – двойным сальто-мортале (до Иры Мосиной трюк этот считали исключительно мужским). Мой тройной с пируэтом на манеж – иду в него легко и чисто. И наконец, Володя, сын, на одной ходуле, уже победив самого себя, новый мировой рекорд – сальто-мортале с двумя пируэтами.
Казалось, на этом можно и кончить. Но нет. Сильные сольные прыжки требуют массового финала. И все партнеры идут в прыжки, но не по пи`сте[8], не выбегая из форганга, а на месте, по всему манежу. И все это, как я уже говорил, под мелькание стробоскопа, которое придает цирковым прыжкам загадочную, неземную прерывистость, замедленность, как бы невесомость.
И комплименты. Замедленные, по сравнению с финалом, величественные. И здесь, заметь, мне удалось найти новый ход вместо обычных трафаретных одинаковых поз для всех с обязательно поднятой рукой.
Все мы шли в несколько рядов от шпрехшталмейстера к главному проходу свободным, как бы скользящим шагом и вдруг, по музыкальной фразе, все разом опускались на одно колено, склонив голову. Если объяснить такой ход словами, то хотелось передать следующее – мы гордимся своей работой и благодарны вам, зрителям, за ваши горячие аплодисменты, за то, что вы поняли, насколько сложны те трюки, которые мы дарили вам, насколько мы хотели доставить вам радость своим мастерством. После этого мы поднимались с колена. И стояли так, я с девушкой посередине, каждый в своей индивидуальной позе, выражающей его характер. (Хотелось, чтобы зритель понял это так – мы цельный, единый коллектив, но каждый из нас – своеобразная, не схожая ни с кем личность.) И самый уход – уже наша непосредственная благодарность зрителю за теплый прием – мы идем вдоль барьера лицом к зрителю и аплодируем ему.
М. Н. В каких костюмах идет этот номер?
В. Д. Костюмы были придуманы, конечно, совсем другие, чем в моем первом варианте номера, да и во всех последующих и не только моих. Хотелось, с одной стороны, создать именно русский, в чем‐то фольклорный костюм, с другой – обязательно цирковой костюм, а с третьей – найти необычное, новое одеяние для акробатов-прыгунов. И художница Марина Ратнер сумела очень точно понять и воплотить мою мысль. У всех белое трико, шнурованные сапожки. У солистов – белые колеты. Участники труппы – в фиолетовых или сиреневых колетах. Девушка одета совершенно отлично ото всех. Ее костюм розового цвета. Колеты расписаны очень интересно найденным русским орнаментом. И от русской одежды взяты большие, ажурные, как бы летящие за тобой рукава. (К слову, когда мы впервые надели эти костюмы, опять посыпались упреки – как можно, на прыгунах и вдруг трико! Куда, мол, лучше и точней шаровары или короткие штанишки – уже и штанишки предлагали! Но мы сумели отстоять наши костюмы.) И этот новый костюм, мне кажется, особо помог нам воплотить тот дух романтики, который соединяет уважение к фольклорным традициям с попыткой по‐цирковому осмыслить сегодняшнюю жизнь в таких ее проявлениях, как полеты в космос. Костюм стал не просто цирковой одеждой. Он отвечает – и подчеркивает – эстетическую и идейную устремленность нашего номера.
М. Н. Это верно. Костюмы эти как‐то удивительно точно соответствуют всему ходу номера. Фейерверку трюков отвечает фейерверк красок. И если первый номер, о котором ты рассказал, своей игровой основой имел конкретный сюжет и жизненные взаимоотношения определенных бытовых типажей (спортсмены – мальчик – фотокорреспондент), то в «Романтике» жизненные бытовые ассоциации выражены не столь определенно и конкретно. Хотя, конечно же, они угадываются зрителем и ненавязчиво, но точно и последовательно играются артистами. При этом трюк, даже рекордный трюк, – не просто трюк, а манежное действие, наполненное определенным актерским отношением.
В. Д. Правильно. Вот это и представляется мне самым важным в цирковом номере. Трюк – не просто спортивное достижение. Трюк – это способ артиста цирка рассказать о своем душевном мире. А уж на какую канву ляжет исполнение трюка, дела не меняет. Это уже дело вкуса артиста или же требование композиции номера.
Точка опоры
(Продолжение)
Физическая природа акробатических и гимнастических трюков прежде всего требует техничности их исполнения. Жонглирование, манипуляция и иллюзия тоже в первооснове своей сводятся к выработке определенных технических навыков, воспитанию легкой и точной руки. Фраза «Ловкость рук и никакого мошенничества» очень образно передает эту особенность циркового мастерства. Также и дрессура – прежде всего долгий и тяжкий труд натаскивания животных на определенные навыки, выработка цепи условных рефлексов. Техничность исполнительского мастерства – основа цирка, его точка опоры.
Но очень часто основа становится сутью, а первоочередное так и остается единственным. Вне трюка цирка действительно нет. Но один лишь трюк не может еще служить знамением циркового искусства. Обезличенный трюк, трюк всего лишь как пресловутое преодоление реальных препятствий, трюк, не одухотворенный отношением артиста, может свидетельствовать о выучке, профессионализме, школьности работы, наконец, но все равно останется лишь демонстрацией владения ремеслом. Стремление исключительно к техническому совершенству трюка в цирке равнозначно стремлению театрального актера к результату. В обоих случаях попытка противопоставить процессу действия заштампованный итог душит творчество в зачатке. Ремесленный трюк влечет за собой и ремесленную паузу. Паузу как перерыв между трюками. Паузу как отключение от действия. Паузу – отдых.
Возвращаясь к анализу композиции циркового номера, утверждаем, что трюк, включенный в манежное действие как его основной элемент, знаменует собой новую эпоху образного оформления номера. Объектом цирка становится уже не трюк, а человек, этот трюк исполняющий. Трюки, естественно переходя один в другой, образуют большие слитные комбинации. Манежное действие при этом развивается уже не как чтение по слогам, а складывается в цельные фразы.
Трюковая комбинация – высшая форма проявления циркового мастерства. Примитивная схема «трюк – пауза – трюк» заменяется в ней таким осмысленным соединением трюков, при котором вершина каждого трюка – момент его завершения – является в то же время исходной точкой начала следующего. Уже не отдельный трюк, а цельные комбинации составляют те звенья, из которых складывается цирковой номер.
Об этом уже говорил выше выдающийся советский прыгун Владимир Довейко. Но обратимся к представителю совсем иного жанра.
Итак – Александр Кисс. «Технически самым сильным жонглером в мире» назвал его известный исследователь циркового мастерства доктор искусствоведения Ю. А. Дмитриев. Это же мнение подтвердили артисты итальянского цирка, вручив Киссу почетный приз имени прославленного жонглера Энрико Растелли. Так же его характеризовали в рецензиях многих газет всех континентов, восторженно приветствовавших выступления блестящего советского жонглера Александра Николаевича Кисса, достойного представителя старейших цирковых династий Киссо-Чинизелли, еще в XIX в. ставших одними из самых последовательных пропагандистов циркового искусства в России.
Вот что пишет Кисс в своей книге «Если ты – жонглер…»: «Групповые жонглеры в партере выступают, как правило, в составе от двух до шести человек. На каждого приходится по три предмета, которыми надо владеть в совершенстве, ибо только при этом условии работа может идти уверенно. В группах встречаются жонглеры высокого класса – на их долю во время общей перекидки приходится по четыре и даже по пять предметов. Нередко они демонстрируют фрагменты сольной работы. Участие способных артистов дает возможность разнообразить перекидки, создавать оригинальный рисунок номера. Но дело, повторяю, не только в этом. Ни для одного из представителей названных выше разновидностей жанра умение бросать и ловить различные предметы не является самоцелью. <…> Весь арсенал выразительных средств, которыми располагает жонглер, может и должен быть подчинен решению определенной смысловой и художественной задачи. Об этом свидетельствуют лучшие работы и Энрико Растелли, и Николая Никитина, и старших мастеров труппы Бор – Кисс (и – добавлю – все те номера, с которыми в течение 35 лет выходил на цирковой манеж сам Александр Кисс. – М. Н.).
Жонглер, если он серьезно относится к своему творчеству, о многом может сказать людям. Мне вспоминается сочный шаржированный образ короля-пьяницы, который был создан в свое время Карлом Реппом (на афишах его именовали Кинг Репп, или Король комических жонглеров). Эксцентрический реквизит номера, эксцентрические приемы, эксцентрический костюм служили единой цели – осмеянию коронованных особ. Рыжебородый король выходил в утрированном монаршем одеянии с короной набекрень, сбрасывал горностаеву мантию и оставался в… пижаме. Изображая пьяного, артист отлично жонглировал скипетром, державой и короной. Больше трех-четырех предметов он не кидал, но владел ими виртуозно, тремя шариками жонглировал в самых необычных и смешных положениях. – И, приведя целый ряд убедительных примеров из репертуара многих жонглеров различных стран, Кисс приходит к закономерному выводу. – Конечно, без мастерства, без профессиональной техники никогда не создать настоящее произведение искусства.
Но трюк, каким бы сложным он ни был, взятый сам по себе, равнозначен, в сущности, рекорду спортсмена. Другими словами, трюк – не самоцель, он является одним из средств художественной выразительности и приобретает значение только в связи с другими компонентами номера, с его содержанием, с идейно-художественной задачей, которую поставил перед собой артист»[9].
Высказывания Александра Кисса, так же как и Владимира Довейко, постоянно возвращаются к утверждению одной и той же мысли – характер циркового номера, к какому бы жанру он ни принадлежал, определяет не только что` артист делает на манеже (трюки, их комбинация), но и как он это делает (актерское отношение к трюку).
Такой подход к цирковому номеру позволяет рассматривать его уже как цельное, самобытное произведение, подчиненное законам, общим для любого пространственно-временного искусства. Разумеется, на манеже цирка эти общие закономерности приобретают определенную своеобразную направленность, вызванную необычным характером основных действий цирка (трюков) и необычной площадкой для показа этих действий (круглый манеж).
Рассмотрим эти определяющие особенности циркового искусства, опору цирка подробнее.
Начало начал
Народный артист СССР Михаил Николаевич Румянцев, более известный как Карандаш, в своей книге «На арене советского цирка» вспоминал: «Народные пословицы и поговорки подсказывали мне немало реприз… В тех же целях я “инсценировал” отдельные ходовые выражения обыденной, повседневной жизни. Так, например, в ответ на вопрос “Как живете, работаете? Как отдохнули, как себя чувствуете?..” – нередко можно услышать: “На большой палец!”, “На большой!” Притом подчас отвечали одним жестом: сжав кисть руки, сильно оттопыривали большой палец, подчеркивая это восклицанием: “Во!” Нередко большой палец прикрывали ладонью левой руки, что означало: “С покрышкой!” Или, потирая кончики трех пальцев левой руки друг о друга, как будто что‐то сыпали на оттопыренный большой палец, что означало: “С присыпкой!” – и должно было выразить особо хорошие обстоятельства. А желая ответить: “Совсем хорошо…” или “Как нельзя лучше…” – показывали большой палец, делали “покрышку” и “присыпку”, причем каждый жест нередко сопровождали соответствующими восклицаниями. Это дало мне повод для репризы, сатирически вышучивающей бахвальство и одновременно высмеивающей вульгарное, пошлое, некультурное выражение.
Я смастерил большой бутафорский палец и после какого‐либо проделанного мной в манеже пустячка, когда я менее всего мог рассчитывать на похвалу, – незаметно, быстро насадив этот бутафорский палец на большой палец правой руки, четко показывал его зрителям, выкрикивая: “Во!” – покрывая бутафорский палец ладонью левой руки и посыпая его при этом опилками, зачерпнутыми пригоршней с манежа»[10].
Замечательный коверный клоун пишет об основном определяющем манежном действии – трюке, начале начал цирка.
Искусство цирка, как и каждое искусство, является отражением действительности, но в приемах и нормах именно этому искусству свойственных.
Цирк в силу своей специфики не способен к бытовой достоверности. Он содержит собственную логику – «алогизм обычному». Алогизм цирковых представлений – это не отказ от действительности, а ее утверждение в специфически цирковой форме. Цирку свойственно выражение обыденного через эксцентрическое его проявление. Разрушение привычных связей и представлений и создание специфических обоснований и закономерностей – закон построения циркового действия, циркового номера.
Своеобразие трюка как специфически циркового действия в том-то и состоит, что трюк не только преодоление реальных препятствий, он в то же время и преодоление бытующего взгляда на решение каждой ситуации. Будь то акробатический прыжок, гимнастическое упражнение или, скажем, несвойственное животному в естественной жизни хождение на задних лапах, не говоря уже о клоунской эксцентрической пантомиме, трюк естественно включает в себя необычность, алогизм. Цирковой трюк, воздействуя на зрителя самим фактом своей реализации, служит построению циркового образа.
При всей многожанровости цирковых номеров манежное действие в каждом из них состоит всего лишь из двух слагаемых и подразделяется на исполнение трюка и паузу между трюками. Степень их сочетания, органика слияния, актерская действенная наполненность каждого звена и регулируют манежную жизнь циркового артиста, формируют манежный образ.