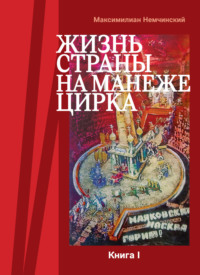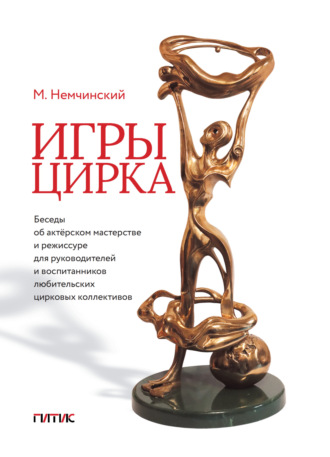
Полная версия
Игры цирка. Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов
Действительно, какие соревнования по акробатике обходятся без переднего или заднего сальто-мортале, флик-фляка, рондада и арабского[1]. Эти же прыжки входят как обязательные элементы в выступления по художественной гимнастике и украшают многие показательные программы фигуристов. Прыжки на батуте – привычный цирковой номер – в последние годы стал объектом республиканских и союзных чемпионатов. Одни и те же упражнения на гимнастическом турнике можно увидеть на цирковом манеже и в спортивном зале.
Однако, продолжая подобные сопоставления, легко подменим исходную тему беседы, забудем, что речь‐то мы ведем не о родстве цирка и спорта, а о необычайности, своеобразии, неповторимости искусства цирка.
Что ни говори, при всей схожести спорт и цирк – явления разного порядка. Об этом часто забывают. Впрочем, кто бы и где бы ни вел этот спор, всегда один является сторонником спорта, а другой – цирковых артистов. Вот и назовем наших спорщиков Спортсменом и Артистом, объявим антракт в нашем представлении и разберемся в проблеме.
– Антракт!
Спор в антракте
Спортсмен. Что ни говори, цирк – это профессиональная разновидность спорта. Так называемые трюки не что иное, как спортивные упражнения. Да и большинство цирковых артистов – бывшие спортсмены, добившиеся в свое время разрядов, а то и званий мастеров спорта. Одним словом, цирк вышел из спорта.
Артист. Именно вышел. Но, выйдя, он ушел от спорта довольно далеко.
Спортсмен. Не так уж далеко. А если далеко, то не в ту сторону. Есть в цирке, например, такой артист, который мог бы сделать на сход с проволоки двойное заднее сальто-мортале, как это делала, завоевывая первенство на Олимпиаде, юная Марина Филатова, заканчивая упражнение на спортивном бревне?
Артист. Такого нет. Но не забывай, что опилки манежа или же модное сегодня резиновое покрытие глушат прыжки, тогда как маты гимнастического зала дают спортсмену дополнительный заряд энергии. Вот сделал Владимир Максимов прыжковую дорожку из лыж, этакий пружинящий трамплин на весь диаметр манежа, сразу же возросла высота и красота прыжков всех участников «Черемоша».
Спортсмен. Вот об этом я и толкую. Цирк живет не только за счет приходящих в него из спорта исполнителей, но и заимствуя оборудование гимнастического зала, его снаряды. Брусья, турник, батут – ведь все это спорт. Спорт – это и велосипеды, и мотоциклы, и гимнастические кольца, и ролики, и коньки. Что без всего этого остается от цирка? Одни фокусы.
Артист. Здесь ты прав, фокусы. Конечно, если под фокусами понимать способность выдавать одно за другое. Обманывать ожидание. Выходит, например, акробатическая пара, он и она. Чего ждет зритель? Конечно, что женщина будет работать верхней. Ан нет, мужчина берет и делает стойку на одной руке на голове партнерши. Или, скажем, в аттракционе Виктора Петровича Тихонова «Бенгальские тигры» самый свирепый из тигров отказывается покинуть манеж. Чего ждет зритель? Ударов бича, пущенных в ход вил, может быть, даже пальбы. И опять его, зрителя, ошарашивают неожиданностью: выскакивают пять крошечных болонок, с визгом бросаются на тигра и тот, поджав хвост, убегает из клетки.
Спортсмен. Что да, то да. Этими фокусами цирк силен.
Артист. Не только этими. Разве не фокус, что из‐за распахнувшегося занавеса на манеж выходят люди-герои, наделенные телесной красотой, физической силой и тем обаянием, которое всегда присуще представителям редких и опасных профессий. И каждый их трюк, даже жест, воспринимается зрительным залом как художественное откровение.
Спортсмен. Верно. Но верно и для спорта. Что там цирк с его тысячей, ну, двумя с половиной тысячами зрителей? Весь 20‐ты-сячный стадион встает навстречу своим любимцам. Чемпионов знают по именам, в лицо, по рекордам, даже по их привязанностям. Говорят, что искусство превращает зрителей из созерцателей в соучастников. А удачно забитый гол?.. А заброшенная в блестящей комбинации шайба?..
Артист. Этак мы ни до чего не договоримся. Я зрелищности спорта не отрицаю. И силы его эмоционального воздействия тоже. Речь о другом. Не о том, что роднит спорт и цирк. О том, в чем их разительное отличие.
Спортсмен. Ну, здесь и думать не надо. Спорт – это спор, состязание.
Артист. Вот-вот. А цирк – это демонстрация мастерства…
Спортсмен. Как на показательных выступлениях.
Артист. Не совсем так. Спортсмен – даже при исполнении показательной программы – стремится блеснуть своим исключительным спортивным мастерством. Для артиста цирка выступление с тем или иным трюком, другими словами, в той или иной области спортивного мастерства – азы его искусства, приготовительный класс, школа. Артистом он становится, когда использует свое блестящее спортивное, скажем лучше – техническое мастерство для создания определенного сценического действия, образа.
Спортсмен. Что‐то сложно и темно.
Артист. Могу просветлить. Для спортсмена важен сам факт выполнения упражнения. Он, если воспользоваться терминологией Станиславского, выходит на помост, к спортивному снаряду «от себя». Артист же стремится, чтобы все трюки, которые он демонстрирует, слагались в единое пластическое действие, чтобы действенной пластике соответствовала пластика звучащая – музыка, чтобы, сливаясь в одно целое, они получали подкрепление в линии и цвете костюма и – все вместе – работали на становление цельного синтетического образа. Взаимодействие пластической направленности действий (трюков), размера музыкального сопровождения (заданность темпоритма исполнения трюков) и решение внешнего оформления (костюмы, реквизит) приводит к тому, что и внешний облик артиста, и его внутренняя сущность несколько меняются по сравнению с присущим ему жизненным существованием, и способствуют возникновению определенного циркового сценического – точнее, манежного – образа. Все существо артиста, – ведь выполнение трюка требует полного слияния физических и духовных сил, – воспринимается зрителем именно через выполнение трюковой комбинации. Понятно я говорю?
Спортсмен. Да, конечно. Все это известно и в спорте – скажем, по художественной гимнастике.
Артист. Согласен. Именно за стремление к созданию некоего образного начала эта область спорта и названа – художественной.
Спортсмен. Стоп. А что ты скажешь вот о таком рассуждении? «Как спортсмена меня беспокоит отсутствие артистичности, “культуры выступления” у некоторых атлетов. Нельзя ни на минуту забывать, что ты на глазах у публики. А как держат себя иные чемпионы? То он повернулся спиной, то сплюнул, то от него летит в разные стороны магнезия. И уже совсем возмутительно, если атлет выглядит неаккуратным, нестриженым». – Учти, это пишет не Лариса Латынина о своих воспитанницах. Это пишет олимпиец Юрий Власов, штангист. – «Выступление на публике должно накладывать и в этом плане определенную ответственность. На фоне блестящего мастерства спортсмена еще явственнее заметны отталкивающие манеры. К сожалению, многие совершенно не обращают на это внимание»[2]. Как видишь, внешняя артистичность заботит сегодня и спортсмена.
Артист. Я не отрицаю зрелищности спорта. Если желаешь, продолжу твою мысль ссылкой на другое высказывание. «Флаги тридцати трех стран словно спорят в цветастости с трибунами. Мягкий желтый цвет эстрады и самого помоста, красные и голубые резиновые ободья на блинах штанги. Право, праздник красок! – цитирую репортаж «Известий» о чемпионате мира по тяжелой атлетике 1975 г.: – Свет и цвет сегодня играют не последнюю роль в спорте. Как уверяют специалисты, зеленый цвет успокаивает, красный возбуждает (помните, ободья на дисках), черный угнетает, желтый (цвет сцены и помоста) действует подбадривающе. Выходит дело, свет может быть и союзником спортсменов, судей, зрителей, и их врагом… Так что, считая сегодня в спорте граммы и килограммы, секунды, их десятые и тысячные доли, оказывается, нельзя забывать и о подборе правильной цветовой гаммы для спортивных соревнований»[3].
Спортсмен. Вот видишь, ты сам соглашаешься со мной, что спорт и цирк – близнецы-братья. Только живут они в разных домах. Один – на цирковом манеже. Другой – на стадионе, на спортивной арене. И «материал творчества» у них один – само тело, и цель одна – утверждение бесконечных возможностей человека к физическому и духовному совершенствованию, да и средствами они пользуются одними и теми же.
Артист. Вот тут ты ошибаешься. То, что для спорта занимательное украшение, в цирке – основополагающий элемент создания номера. На чемпионатах мира по фигурному катанию и танцам на льду, например, некоторые пары при показательных выступлениях добавляют к своим костюмам детали, отвечающие национальному характеру музыкального сопровождения. Изменился ли от этого сам характер танца? Нет. Просто подчеркнута была его зрелищность. Красивее, приятнее для глаза? Конечно. Но изменился ли от этого переодевания характер выступления? Разумеется, нет.
Спортсмен. С этим я не спорю. В спорте действительно важно само упражнение, класс его исполнения, а не цвет костюма…
Артист. Важна сложность трюковой комбинации, а не артистически разработанные взаимоотношения партнеров.
Спортсмен. Это точно, без спортивного упражнения спорта нет.
Артист. И цирка нет без трюка. Но цирк требует артистического оправдания этого трюка, логического обоснования чередования трюков. Трюковая комбинация на манеже поднимается до уровня цирковой драматургии.
Спортсмен. Не спорю и с этим. Хотя в некоторых своих разновидностях (художественная гимнастика, фигурное катание) и спорт приближается к тому, что ты назвал «трюковой драматургией».
Артист. Вот видишь, значит, разницу между спортом и цирком все‐таки можно обнаружить.
Спортсмен. Выходит, можно. Договоримся о том, что цирк и спорт пользуются одними и теми же упражнениями…
Артист. Трюками.
Спортсмен. У вас они становятся трюками. Для нас они спортивные упражнения. Цирк и спорт пользуются одними и теми же средствами для достижения различных целей? Так?
Артист. Конечно, так. Ведь спортивные упражнения лишь одно из средств художественного воздействия на зрителя, которым – наряду с целым рядом других – пользуется своеобразное искусство цирка.
Зрелище необычайнейшее
(2‐е отделение)
Слово снова берет автор.
Запомним это утверждение: цирк – ИСКУССТВО. Когда его произносят, то подразумевают воздействие на зрителей определенной системы художественных образов. В нашем случае – образов сценических. Точнее – манежных. Но проследим дальше за течением цирковой программы. Ведь спортивно-акробатические жанры охватывают большую, но далеко не всю часть любого представления цирка.
Шпрехшталмейстер, появившись перед занавесом, провозглашает:
– Второе отделение нашей программы открывают…
Жонглеры умеют сообщать воздушную легкость любому предмету, попавшему к ним в руки, – шляпе, коробке спичек, мячу, кольцам, булавам, даже, если надо, столику, чашкам, самовару, а то и носовому платку. Если в руках артиста летают гири или металлические литые ядра, то он уже именуется крафт-жонглер.
Иллюзионисты достаточно известны своим искусством, чтобы их стоило представлять подробно. Не будем забывать только, что этот жанр объединяет манипуляторов, работающих, как правило, с мелкими предметами (шарики, карты, папиросы и пр.) и рассчитывающих исключительно на ловкость своих тренированных рук, и собственно иллюзионистов, которые используют для фокусов предпочтительно крупную аппаратуру.
– Весь вечер на манеже…
Все в цирке необычно. Но, пожалуй, самое необычное – это клоуны. И прежде всего коверные клоуны.
Они еще не появляются из‐за занавеса, а то и из зала, но уже все зрители, сколько их ни есть в цирке, от мала до велика, узнают в предвкушении радостной встречи своих любимцев, услышав их выходной клич, своеобразную визитную карточку коверного клоуна:
– А вот и я!
Это Карандаш…
– Ой! Дари-дари-дарам!
Это Борис Вяткин…
– Ой-ёй-ё-ёй!
Это Евгений Майхровский, клоун Май…
– А-ле-ле-ли-лю!
Котов…
Коверными эти клоуны именуются потому, что, заполняя паузы между номерами, работают у ковра. Но роль коверных в цирковом представлении куда обширнее и сложнее. Они при кажущейся неумелости могут все – и поднести танцовщице на проволоке веер, и подняться на мостик воздушного полета, и пройтись с балансиром по канату, и чего только они не умеют!.. Нет такого номера и такого жанра, в который не мог бы войти талантливый коверный. И войти так вовремя и в то же время так вроде бы «некстати», что и артисту даст возможность передохнуть, и весь амфитеатр заставит покатиться со смеху.
Когда клоуны разыгрывают большие самостоятельные комические сценки, так называемые антре, равные по времени исполнения целому номеру, этих артистов именуют уже разговорные клоуны.
Одно из важных выразительных средств клоуна – музыка. Она нередко акцентирует каждое его движение, задает ритм выступлениям, создает нужное настроение в зале. Но иногда клоун берет музыку, так сказать, в свои руки. Он начинает извлекать звуки, и не просто звуки, а согласованные, целые складные мелодии из пилы, поленницы дров, автомобильных клаксонов, велосипедных звонков, из бутылок различных размеров и содержания – словом, из самых невероятных предметов. Если же клоун играет на обыкновенном «человеческом» инструменте, то играет так, как никому в жизни и в голову не придет: встав вверх ногами или забравшись на плечи партнера, завязавшись узлом или жонглируя этим самым музыкальным инструментом – словом, неожиданно, почудно.
Этих клоунов, заставляющих зрителей смеяться над самим фактом исполнения музыки, так и называют – музыкальные клоуны, или чаще – музыкальные эксцентрики.
Человек всегда любил и любит находить сходство со своими знакомыми (реже с собой) в окружающей его природе, и прежде всего у животных. Клоуны сегодняшнего цирка, как когда‐то их далекие предшественники – бродячие шуты-скоморохи, не могли, разумеется, пройти мимо этого «проецирования» человеческих поступков на поведение животных (или наоборот). Во все времена клоуны-дрессировщики – желанные гости любой цирковой программы.
Но говорить о них нужно, обратившись к другому популярному жанру цирка – дрессуре.
Нет таких животных, которых нельзя было бы приручить и научить тому или иному трюку. Все дело в настойчивости дрессировщика, в его умении подсмотреть у животного, воспитать у него нужное движение или сочетание движений. Выдрессировать можно любого зверя, любую птицу, рыбу. Даже насекомых.
Еще в начале XX века на ярмарках подвязались распространенные и популярные когда‐то блошиные цирки. От того, с какими животными работает артист, зависит и то, как представляют его зрителю.
Укротители – это те, кто подчиняет своей воле наиболее крупных хищных животных: тигров, львов, леопардов, пантер, ягуаров, рысей – словом, всех кошачьих. Сюда же могут быть отнесены волки, их родственники шакалы и гиены. И носорог, который совсем недавно, покоренный настойчивостью и умением человека, вышел на цирковой манеж.
Артистов, выступающих со всеми другими животными, именуют дрессировщиками.
Деление это традиционное, хотя и довольно условное. Ведь понятие «дрессировщик» подразумевает работу, скажем, и с белыми медведями, и с голубями. Но если безобидных голубей гоняет в детстве каждый третий зритель цирка, то белые медведи – самые, пожалуй, ненадежные и коварные из живущих на земле животных – требуют от дрессировщика редкой выдержки и мгновенной реакции на все возможные неожиданности.
Дрессировщиками также именуют и артистов, выводящих конюшни.
На лошадях исполняют большое количество номеров. Все они объединяются понятием конный цирк.
Во времена зарождения весь цирк существовал именно как единый конный цирк. Со временем артисты сошли со спин лошадей на манеж, создали и развили обособленные жанры.
Своеобразию их построения и будут посвящены наши беседы. Ведь это был качественно новый скачок в развитии циркового искусства. Его результаты не замедлили сказаться.
Номеров стало больше. Представления – разнообразнее. Трюки – уникальнее.
Об этом и пойдет речь.
Точка опоры
Великое множество жанров цирка – верная гарантия невообразимого разнообразия номеров, составляющих любое цирковое представление. Праздник цирка нескончаемо разнолик. И эта его множественность ошеломляет настолько, что подчас способна привести к недоуменному раздумью о невозможности существования хоть чего‐то единого, общего для всех жанров цирка, той точки опоры, вокруг которой вращается все цирковое искусство.
Действительно, что, кажется, может быть общего между неторопливым бегемотом, под каждым шагом которого словно оседает весь манеж, и изящной гимнасткой, порхающей с трапеции на трапецию где‐то под самым куполом? Между клоуном, готовящим яичницу в шляпе, и тигром, прыгающим в огненное кольцо? Между джигитом, пролезающим под брюхом мчащейся вдоль барьера лошади, и петухом, клюющим пищу из миски сидящей подле него лисицы? Даже между мелькающими обручами, подбрасываемыми почти невидимыми руками жонглера, и торпедой, которую ловит на шею атлет?
И все же это общее есть. Его нетрудно обнаружить, приглядевшись к цирковым номерам внимательнее. Общее в том, что и полет гимнастки, и прыжок тигра, и жонглирование, и шуточный фокус клоуна – типично цирковые действия, трюки.
Трюк как определяющее действие циркового искусства впервые теоретически рассмотрел известный исследователь цирка Е. М. Кузнецов.
«Цирковой трюк, – писал он, – представляет собой отдельный законченный фрагмент любого циркового номера, хотя бы самый обыкновенный по технике и кратковременный по выполнению, но вполне самостоятельный и в себе замкнутый, и является простейшим возбудителем реакции, действующим на зрителя таким реально выполняемым разрешением задания, которое лежит вне обычного круга представлений и в этом кругу кажется неразрушимым»[4].
Именно трюк служит той точкой опоры, которая держит все цирковое искусство. Специальной литературы по цирку издано не так уж много, если сравнивать с опубликованными трудами по истории и практике театра, например. Но любознательный читатель без труда сможет разыскать на библиотечной полке или в Интернете пособия, которые помогут ему в практическом овладении трюками почти всех цирковых жанров. И тут‐то мало-мальски внимательный человек без усилий заметит, что количество трюков, составляющих любой цирковой жанр, – еще один парадокс цирка! – крайне ограничено.
Естественно, возникает вопрос, каким образом при этом номера даже одного жанра выглядят на манеже такими разнообразными, непохожими один на другой?
Но загадочность этого явления кажущаяся. Ведь всего семь нот звукоряда, всего лишь семь основных цветов служат основой бесконечных тональных сочетаний любого музыкального и живописного произведения. Точно так же можно утверждать, что и в цирке основой построения любого номера служит сочетание трюков, иными словами, трюковые комбинации.
Само собой, напрашивается вывод, что основа построения циркового номера заключается в отборе трюков и их композиционном соединении.
Композиция номера – это, прежде всего, распределение трюков.
Традиционным цирковым ходом является откровенное чередование трюков по возрастающей профессиональной трудности. Подобное построение номера вполне разумно.
Возрастающая сложность трюков подразумевает возрастающий интерес зрительного зала к номеру. И тогда на да капо, на повторный вызов, исполнение рекордного трюка достойно венчает здание композиционного построения номера. А так как последнее впечатление самое сильное – простите за невольный парадокс, – то артисты покидают манеж, запечатлев свой образ в душе зрителя именно в момент исполнения последнего рекордного трюка.
К сожалению, искусство цирка довольно коварно. При всей открытости оно таит от зрителя многое. Иногда слишком многое. Профессиональная неподготовленность часто вредит при восприятии музыкального произведения, живописной картины, скульптурного изображения. Вредит она и в цирке. Номер, поражающий сложностью исполняемых трюков профессионалов, у зрителей может встретить прохладный прием. Скажем, школьно и тактично работали корде-парель Елена и Зинаида Шевченко. Начинался номер с подъема на закидках. Взявшись рукой за канат, девушка предносом[5] поднимала ноги вверх и, вывернувшись в плече, забрасывала корпус за руку. Свободной рукой она бралась за канат и снова совершала перечисленные действия.
Так, меняя руки, девушка поднималась на высоту 4–5 м.
Трюк этот требует не столько выучки, сколько физической силы. Трюк, как говорится, сильный. Но воспринимает его зритель равнодушно, как должное. Зато простенький флажок-оттяжку с ногою, заложенной в петле, зал встречает восторженными аплодисментами. Эффектность позы заслоняет сложность трюка.
Такая несправедливость зрительской оценки в цирке – увы! – не редкость. Этим, а также возросшим с начала 1920-х гг. вниманием к изобразительной стороне номера обусловлено появление нового приема распределения трюков в цирке – чередование трюков по возрастающей зрелищной занимательности. Номер стал выправляться на оселке не профессиональной трудности, но зрительского интереса.
Не менее важное значение, чем распределение трюков, имеет для композиции номера соединение трюков.
Наиболее древней является связь через паузу-отдых. Этот прием откровенно заявляет о самостоятельной ценности трюка и, по сути, именно к исполнению трюка и сводит все задачи цирка.
Но цирк как вид искусства не может игнорировать важности актерского отношения к трюку. Другими словами, связь через игровую паузу.
Прервем наши рассуждения. Обратимся к практике цирка.
Цирковые номера, лучшие из них во всяком случае, отличаются редкой живучестью. В цирке номер, как правило, живет десятилетиями. И показывают его зрителю ежедневно. Разумеется, номер меняется. И в анализе этих изменений легче будет уловить те закономерности, которые формируют и определяют суть номера цирка.
Разговор с Владимиром Довейко
Владимир Владимирович Довейко. Прославленный прыгун с мировой известностью. Народный артист СССР. Единственный в цирке, кто был удостоен этого высокого звания в жанре прыжковой акробатики, и каждый вечер, выходя на манеж, доказывал, что он достоин этого звания (тройное сальто-мортале с пируэтом с подкидной доски – заветная мечта многих артистов). В 1947 году он стал руководителем и солистом лучшего отечественного номера акробатов-прыгунов. В 1975 году Довейко – руководитель и ведущий солист лучшего советского и мирового акробатического ансамбля. Почти 30 лет – срок рекордный даже для цирка. Здесь вернее всего искать разгадку тайны циркового номера. Воспользуемся этой возможностью.
Максимилиан Немчинский. Владимир Владимирович, первый номер акробатов-прыгунов с подкидной доской, который ты возглавил, состоял всего из четырех человек. Сегодня в ансамбле – 12 исполнителей. Скажи, чем вызвано такое численное изменение труппы – твоим возросшим мастерством руководителя или желанием создать более масштабный номер?
Владимир Довейко. Ни тем, ни другим. Численность труппы определяется характером трюков. Например, один прыгает, второй отбивает доску, двое пассируют[6] – вот уже в номере и не может быть меньше четырех человек. Возьмем такой трюк как перш. Один держит перш, второй стоит на перше, девушка идет к нему в руки третьей, два отбивают – пять человек. И обязательно четверо пассируют. Итого, девять человек. Когда стоит колонна из трех и четвертый идет к ним в плечи двойным сальто-мортале, отбивать доску должны опять‐таки двое и четверо – пассировать, – значит, уже 10 человек. Кроме того, раз номер состоит из таких грандиозных трюков, то и концовка должна быть массовой, грандиозной, как апофеоз всего номера. Поэтому заканчивать номер просто трюком, даже колоссальным, потрясающим трюком – сальто-мортале с двойным пируэтом на одной ходуле или полетом девушки бланшем на высоту чёрт знает какую, на перш ростом в пять человек, просто невозможно. Ведь тогда вся группа оказывается вроде бы ни к чему. Поэтому сам трюк диктует и характер финала – огненное, темпераментное, массовое шари-вари[7] всех участников номера. Грандиозный финал в мелькающем свете стробоскопа.