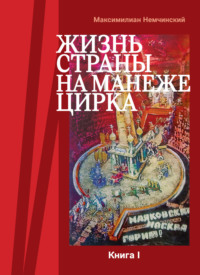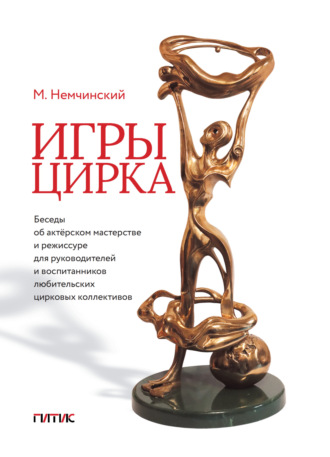
Полная версия
Игры цирка. Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов

Максимилиан Изяславович Немчинский
Игры цирка
Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов
© Немчинский М. И., 2022
© Издательство ГИТИС, 2022
Несколько слов перед началом беседы
Предлагаемые вниманию любителей и почитателей цирка беседы – не учебник по подготовке отдельных трюков, не рекомендации, предлагающие конкретные постановочные решения номеров тех или иных цирковых жанров. Автор поставил перед собой иную задачу. Хотелось сосредоточить внимание читателя на самой проблеме неординарности любого художественного явления на манеже цирка.
Предпринята попытка на конкретных примерах показать, как трюки, умело подобранные в выразительные комбинации или же наполненные при своем исполнении подлинным актерским отношением, помогают создавать своеобразную цирковую драматургию. Другими словами, рассматривается, как разнопланово может воплощаться в конкретном творчестве одна и та же художественная платформа.
Сознательно избран прием знакомства читателя с номерами цирка – от самых камерных, таких как соло-жонглер, до наиболее масштабных, включающих в себя воздушный полет. На первый взгляд изучение опыта манежных модификаций этих произведений циркового искусства ничем не может помочь в практической работе вне манежа. Действительно, при работе, скажем, на сцене, да еще в условиях любительского цирка медведей не приобретешь и не разместишь, как не разместишь аппаратуру традиционного полета. Однако следует напомнить, что автор вовсе не стремится предложить читателю дотошно копировать конкретные номера, снискавшие известность.
Предлагается задуматься о путях художественного осмысления трюка, комбинации, взаимоотношений партнеров, возможных конструктивных изменений аппаратуры, о нетрадиционном ее исполнении и применении. Самых серьезных раздумий заслуживает и проблема организации пластических перемещений артистов в процессе исполнения номера. Вниманию вдумчивого читателя предлагается ряд аналогий для его самостоятельного творчества, если он пожелает им заниматься.
Оцененное с таких позиций описание решения номера с дрессированным медведем может оказаться не менее необходимым, чем описание выступления, скажем, с дрессированными собачками. И дело не ограничивается тем, что животные здесь предстают в качестве равноправных партнеров артистов (одно из самых значительных открытий современного цирка, широко пропагандируемое нашими дрессировщиками). Автору представляется самым важным пробудить своими беседами творческий отклик, рождение собственных оценок и замыслов. При этом все ширящийся круг ассоциаций, расходящихся словно круги по воде от брошенного камня, могли бы натолкнуть его на самое неожиданное художественное решение.
Ведь даже в домашних условиях или на любительских подмостках возможно при помощи приемов аттракциона со львами и тиграми создать интереснейший номер с их сородичами кошками.
Точно так же возможно придумать комический номер, где в роли слонов из Индии или Африки выступали бы одетые в специальные трюковые чехлы-костюмы собаки.
В расчете именно на такое свободное фантазирование на заданную в этой книге тему приведены примеры актерских открытий в таких своеобразных цирковых коллективах, как «Цирк на льду». Ведь сам принцип работы цирка на льду может осуществиться и на деревянном полу сцены, стоит попытаться поставить исполнителей тех или иных цирковых номеров – а то и всех номеров разом – на роликовые коньки.
Словом, учитесь фантазировать.
Необходимо каждый раз, задумывая цирковой номер или программу, стараться решать их так, словно до тебя никто и никогда не пытался решить ни одной связанной с этим проблемы. И вместе с тем необходимо знать наиболее выдающиеся работы своих предшественников. Не для того, чтобы формально повторить найденное ими, а чтобы развить или художественно преобразить эти находки. И к программе цирка, и к любому номеру любого циркового жанра следует относиться как к многоактному или одноактному театральному спектаклю.
Конечно, номер цирка немыслим без трюка.
Но сегодня он невозможен и без тех средств воздействия, которые традиционно считаются театральными. В наши дни мало создать интересную и оригинальную композицию трюков. Необходимо решить образный строй номера. Значит – определить музыку, пластику, найти принцип взаимоотношений партнеров, придумать костюм, оформление аппаратуры (а прежде того, разумеется, ее конструкцию), подобрать реквизит. Но сначала нужно попытаться наиболее полно выразить своеобразие индивидуальности исполнителей номера. Как бы интересно ни был придуман «текст» цирковых ролей – трюковых комбинаций, как бы оригинально ни интерпретировались они режиссером-постановщиком, все же предметом искусства они смогут стать, только когда их одушевит своим талантом артист-мастер.
Поэтому читателю и предлагается познакомиться с теми представителями советского цирка, которые счастливо сочетали высокое владение профессией с явной актерской одаренностью и при этом являются создателями и участниками неординарных произведений циркового искусства.
В качестве примеров мы вспоминаем ставшие классическими номера цирковых артистов, которые в 60–80‐е годы прошлого столетия принесли нашей стране славу первоклассной цирковой державы. Само понятие «советский цирк» служило тогда гарантией превосходной профессиональной выучки артистов, их актерской одаренности, неожиданного своеобразия постановочных решений.
Для удобства знакомства с материалом все изложенное разделено на главы по принадлежности артистов к цирковым жанрам, к которым относятся предлагаемые вниманию читателя номера, и своеобразию приемов их образного наполнения. Вместе с тем считаю необходимым предупредить, что деление это чисто условное, так как приводимыми ниже находками можно воспользоваться при разработке режиссерской, актерской и трюковой партитуры любого номера любого циркового жанра.
Многое в истории отечественного цирка достойно удивления, но прежде всего те безграничные возможности для увлеченного творчества, которые он представляет своим артистам.
Первоклассные художники, квалифицированная режиссерская помощь, специально приглашенные композиторы, превосходно оборудованные слесарные, столярные и какие только ни потребуются мастерские, качественные помещения для репетиций предоставляются незамедлительно. Все возможное и невозможное делается для того, чтобы мог появиться еще один отличный цирковой номер. Ведь каждая личная удача артиста естественно становится принципиальной победой отечественного цирка.
Будущее любого искусства – это молодежь. Но в последние годы молодые мастера манежа настолько решительно заявили о своих высоких творческих возможностях, что во многих жанрах уже завоевали ведущее положение. Смело можно утверждать, что именно деятельность цирковой молодежи определяет как пути дальнейшего развития искрометного искусства манежа, так и его сегодняшний созидательный день.
Цирк нельзя не любить. Он словно отдушина в нашей чрезмерно напряженной жизни. Пойти в цирк – все равно что вернуться в детство.
В нем все определенно и бесхитростно, ясно и понятно. В нем все удивительно и неожиданно. Самое невероятное становится реальным под цирковым небом. Лошади танцуют, смеются и решают математические задачи. Львы и тигры ковром ложатся к ногам укротителя. Медведи с равным мастерством играют в футбол и хоккей. Люди, забыв о законе всемирного тяготения, поднимают друг друга, жонглируют тяжестями, летают, как птицы. А главное – все это неимоверное совершается с такой легкостью и естественностью, что любой сидящий в зале не может не ощутить и себя сопричастным всему, что происходит на манеже.
Каждому зрителю кажется, что стоит ему захотеть, подняться с места, выйти на залитый светом прожекторов цирковой ковер, и он сам сможет поразить всех своей ловкостью и мастерством. Сможет стать сильным и отважным. Стать красивым и молодым. Поэтому и принято, наверное, считать цирк искусством молодости. Именно поэтому, а вовсе не из‐за того, что каждый третий его артист покидает учебную скамью и вступает в магический круг манежа, едва достигнув отрочества.
Безудержно юн сам дух искусства цирка, корнями мастерства уходящего в седую древность. Говорят, молодость самим существованием своим страстно отрицает любые традиции и авторитеты. Точно так же освященной веками цирковой традицией стал отказ от всяческих традиций.
Любой самый распространенный трюк каждый овладевающий им исполнитель рождает вновь, заново и для себя. Поэтому каждый номер в цирке единственный и неповторимый.
Артист растворяется в своем номере целиком. Но он и возрождается в нем, обретая иную, высшую художественную, образную сущность. Силой таланта спортивное мастерство и актерская одаренность сплавляются воедино.
К жизни пробуждается, начинает самостоятельное существование манежный образ, та роль, которую артист из вечера в вечер создает на манеже цирка. Его непреходящее цирковое бытие.
Во имя этого чуда пылают яркие разноцветные прожектора, гремит праздничная, будоражащая музыка. Чтобы стать свидетелями этого чуда, в цирк приходят зрители. Ему посвящены и наши беседы.
К победам молодые мастера цирка идут рука об руку со своими наставниками, и рассказывать об одних, не называя других, невозможно. Легко поддаться соблазну начать с описания робких детских мечтаний о загадочно-прекрасном цирке. Еще эффектней, пожалуй, шаг за шагом проследить ход репетиций с постоянной тревогой за удачный их исход, а если повезет – для оживления сюжета – и с небольшой катастрофой, которая тем не менее не сможет помешать успешному завершению работы. Богатый материал предлагает, к слову, любая гастрольная поездка. Но, мне кажется, наиболее полно, исчерпывающе артист цирка проявляется в своем номере.
В давние годы в цирк ходили смотреть зверей и клоунов. Сейчас иное. В наши дни основная масса номеров, самых распространенных, массовых, популярных принадлежит к спортивно-физкультурным жанрам. Этот факт закономерен для современной эпохи. Мало того, он служит убедительным доказательством теснейшей диалектической связи искусства цирка с общественной жизнью страны.
Сейчас и вообразить себе трудно, что было время, когда спортом занималась привилегированная кучка снобов. Но так было. И одной из главнейших заслуг советского цирка перед своими зрителями следует признать активную и широчайшую пропаганду физической культуры. Каждый акробатический, гимнастический, каждый номер атлетики, так же, как выступления конников, убеждали доказательней самых пламенных лозунгов. Славный призыв 1920-х гг. «Цирк массам» отозвался действенно и исчерпывающе созданием широчайшей сети массовых спортивных обществ.
Спортсмены шли на выучку к цирковым артистам. Год за годом трюки, исполняемые на манеже, были предметом зависти, подражания, эталоном для миллионной армии физкультурников нашей страны. Цирк щедро делился своим мастерством, накопленным опытом, раскрывал секреты, широко распахивал двери своих зданий. Ведь многие десятилетия крупнейшие спортивные соревнования проводились именно на манежах цирка, не было тогда других таких же вместительных помещений. Цирк отечески покровительствовал спорту и настолько привык к своему положению лидера, что проглядел тот момент, когда его обошли решительно и бесповоротно. Успехи, достигнутые на спортивных помостах в художественной гимнастике, акробатике, многих видах снарядовой гимнастики, в фигурном катании и танцах на льду, не говоря уже о тяжелой атлетике, подорвали, казалось, авторитет артистов цирка.
Так действительно показалось в первый момент, настолько значительны и бесспорны были преимущества спортсменов. Но, по здравому размышлению, это мнимое поражение заставило вновь всерьез задуматься о специфике циркового искусства.
Судите сами.
Вот, например, Иван Федосов выкрутил тройное сальто-мортале в партере (без пружинящей или надувной дорожки, на опилках!) еще в 1949 г., когда спорт не мог мечтать даже о двойном. Но, освоив этот феноменальный трюк, раззадорив коллег, Федосов решил не включать его в композицию номера. Ведь артист цирка обязан так распределять свои силы, чтобы их хватило не на пять-семь ответственных соревнований в год, а на 40–50 стабильных качественных выступлений в месяц.
Конечно, искусство цирка невозможно себе представить без захватывающего неожиданного трюка. Чем дальше, тем сложнее становятся трюки на манеже.
Но сегодня цирку, чтобы иметь право именоваться искусством, одних трюков, пусть даже самых выдающихся, мало. В наши дни трюк для циркового артиста не самоцель, а средство создания манежного образа, возможность метафорически отобразить нашу действительность.
В этом высокое предназначение цирка и коренное его отличие от спорта. Поэтому сегодня артисты стремятся решать свои номера как маленькие законченные спектакли. Но к единой цели каждый идет своим особым путем.
Наши беседы – об особенностях формирования и создания манежного образа артистов цирка. Они должны помочь артистам любительского цирка проникнуть в тайны актерского мастерства.
Условимся о терминах
Каждое искусство, как и любая наука, пользуется своими профессиональными терминами. Имеет их и цирк. Слова, которыми пользуются цирковые артисты в повседневной жизни, волей-неволей приходится употреблять и в беседах о цирке. Поэтому запомните их.
Антипод – жонглирование ногами.
Бамбук – это короткий перш, подвешенный к куполу цирка. Трюки, на нем исполняющиеся, одинаковы с упражнениями на перше.
Воздушная рамка – аппарат и номер, в котором один из артистов виснет вниз головой, а другой совершает у него в руках гимнастические или вольтижные трюки.
Вольтижировка – трюки, требующие для своего исполнения отрыва от аппарата или партнера. Возможны как в воздушной, так и в партерной работе. Например, в икарийских играх.
Доппель-трапе – двойная трапеция, на которой два исполнителя работают синхронно, а могут исполнять и парные гимнастические трюки.
Икарийские игры – номер, в котором одни партнеры (чаще всего дети) совершают перелеты и прыжки в воздухе, подбрасываемые ногами других партнеров, лежащих на тринках.
Кабриоль – эффектный трюк парной акробатики, в котором нижний партнер вырывает верхнего с манежа в стойку на вытянутых руках и так – в темп – несколько раз подряд.
Комплимент – традиционный цирковой поклон по окончании номера или же между трюками.
Копфштейн – стойка на голове.
Корде-волан – горизонтальный канат, провисающий дугой. Один из воздушно-гимнастических снарядов.
Корде-парель – номер, в котором те же трюки, что на перше и бамбуке, исполняются на свисающем до манежа вертикальном канате.
Лопинг – гимнастический аппарат для перекручивания артиста, находящегося на П-образной трубе, вращающейся вокруг штамберта.
Перш – произвольной высоты дюралюминиевая труба или деревянный шест. Артист балансирует им на лбу, на плече, в зубах, каким‐либо иным способом. Его партнер или партнеры, зацепившись за укрепленную у верхнего основания перша петлю, принимают различные позы.
Престидижитация – в переводе означает «быстрота пальцев» – искусство фокусника, позволяющее извлекать предметы буквально из воздуха. Чаще именуется манипуляцией.
Проволока – натянутый не выше 2,5 м над манежем стальной трос. На нем артисты танцуют, прыгают через различные препятствия, словом, совершают эквилибристские трюки.
Реприза – комическая сценка, которую разыгрывают клоуны, заполняя паузы между номерами, а также между трюками, чтобы дать отдохнуть артистам или предоставить им возможность незаметно сменить обувь, как это бывает необходимо при работе на проволоке.
Ризенвелль – хорошо знакомый всем трюк, когда артист, ухватившись руками за перекладину турника, крутит «солнце».
Тринка – специальная подушка. Лежа на ней, артист может удерживать на ногах партнеров, ножную лестницу или предметы.
Униформисты – служители цирка, которые подготавливают манеж к выступлению каждого следующего номера и торжественно выстраиваются шеренгами в начале представления перед выходом шпрехшталмейстера.
Форганг – проход на конюшню, через который выходят на манеж артисты и животные, а униформисты выкатывают ковер и выносят аппараты.
Шпрехшталмейстер – работник цирка, руковящий униформистами, объявляющий номера, следящий, чтобы на манеже все было в порядке, и помогающий коверным клоунам в их репризах.
Штамберт – подвешенная к куполу и фиксируемая на месте растяжками металлическая перекладина. К ней крепятся кольца, трапеции и другие гимнастические снаряды.
Штейн-трапе – в отличие от обычной трапеции очень тяжелая перекладина для исполнения трюков, основанных на сохранении равновесия, в том числе копфштейна.
Эквилибристика – искусство удерживать в равновесии себя или партнера. Наиболее эффектна в работе на першах.
Вот, пожалуй, и все. Об остальном вы узнаете из самих бесед.
Алле-ап! – Начали!
Зрелище необычайнейшее
(1-е отделение)
Когда идешь в цирк, всегда ждешь праздника. И цирк не обманывает. Огромное здание словно пропитано предчувствием необычайного зрелища. Амфитеатр гудит от нетерпения. Торопливо пробираются к своим местам опаздывающие. И вот уже медленно гаснут на куполе фонари. Уже затихает гул насторожившегося зала. И сразу же на зрителей обрушивается каскад света и музыки. Залитый сотнями прожекторов оркестр приветствует любителей цирка огненной увертюрой, как бы успокаивая нетерпеливых, – еще минута, и мы начнем! Как бы подзадоривая скептиков, – увидите сами, на манеже даже невозможное становится возможным!.. Впрочем, скептиков в цирке не бывает. В цирк приходят на встречу с прекрасным, удивительным, увлекательным, невероятным. За чудесами.
И чудеса начинаются.
Распахивается занавес, пропустив две шеренги празднично нарядных униформистов. Распахивается еще раз – и перед зрителями появляется подтянутый, торжественный, обаятельный мужчина.
Режиссер-инспектор именуется он в программе.
Шпрехшталмейстер зовут его по давней традиции старые артисты.
Нарядный мужчина берет из рук униформиста микрофон и голосом, сулящим радостное и необычное, провозглашает:
– Начинаем цирковое представление. Первым номером нашей программы выступают…
И тут действительно начинается зрелище необычайнейшее. Ведь праздник – это не только увлекательная зрелищность. Праздник – это и нескончаемая смена впечатлений.
А жанры цирка поистине неисчерпаемы в своем разнообразии.
Незаурядное мастерство позволяет цирковым артистам, не считаясь с законом всемирного тяготения, словно парить над землей, едва касаясь ее.
В Древней Греции таких умельцев называли акробатами, то есть «ходящими на цыпочках».
Сегодня акробатика – это наименование целого жанра циркового мастерства.
Акробаты-прыгуны совершают всевозможные прыжки на земле, «в партере», как говорят в цирке, переняв это выражение от французских коллег. Поэтому часто можно услышать, как акробатов-прыгунов называют партерными прыгунами. Эффектность прыжков часто усиливается от пользования различными приспособлениями (трамплинами, подкидными досками, батутом).
Акробаты-вольтижеры, «порхающие акробаты» в буквальном переводе с французского, строят свою работу на перебрасывании или подбрасывании нижними партнерами верхних, которые каждый свой полет сопровождают или завершают исполнением трюка.
Силовые акробаты, крафт-акробаты (от нем. Kraft – «сила»), как нередко их по традиции именуют в цирке, в отличие от вольтижеров все свои трюки выполняют на силу, на жиме. Поэтому основу их номеров составляют всевозможные стойки.
Плечевые акробаты, как о том говорит само название, все свои прыжки совершают «из плеч» или же «в плечи» партнеров. Подобный отбор трюков диктует и групповой характер номера.
Пластическая акробатика может принимать различные выражения в номерах каучука, клишника, пластических этюдов или же в художественно-акробатических группах, но всегда смысловой упор делается именно на пластике тела артиста, его необычных или же эффективно-статичных положениях.
Антипод – это, можно сказать, «работа наоборот». Привычно работать руками, а антиподист, улегшись спиной на специальную подушку, тринку, бросает предметы ногами.
Номер артистов, бросающих ногами не вещи, а живых людей, издавна известен как икарийские игры (в честь мифического Икара, оторвавшегося от земли на искусственных крыльях).
Особой разновидностью акробатики является эквилибр (от лат. aequilibris – «находящийся в равновесии»), объединяющий номера весьма различные по выразительным средствам, но родственные сутью – умением удержать в равновесии себя, партнеров и реквизит.
Цирковые эквилибристы сохраняют равновесие в самых невероятных положениях – на туго натянутой проволоке это нелегко делать, выполняя при этом трюки, разумеется, и на свободной проволоке, провисающей при каждом шаге, качающейся при каждом повороте, и на вольностоящей лестнице, и при балансе на катушках, да не на одной, а на пяти-семи – и при этом еще жонглируя, играя на музыкальном инструменте или удерживая на лбу какой‐либо предмет. Но наибольшего эффекта эквилибристы достигают при работе на першах – металлических или деревянных шестах до 10 м высотой. В то время как нижний партнер балансирует першом, держа его на лбу, на плече или за поясом, его партнеры (их число зависит от силы, выносливости и мастерства нижнего) на вершине перша совершают всевозможные трюки, а иногда и сами держат перш, на который, в свою очередь, поднимаются партнеры, чтобы уже под самым куполом выжать стойку или встать на голову.
Людей, упорно тренирующих свое тело, в Древней Греции – а культ физического воспитания человека восходит к тем далеким временам – именовали гимнастами. В разговорной речи сегодня понятия «акробат» и «гимнаст» стали почти что синонимами, но цирк их строго разграничивает.
Искусство акробата зависит исключительно от владения собственным телом. Даже батут является лишь снарядом, от которого артист отталкивается, чтобы совершить прыжок. Точно так же, как перш – лишь предмет баланса для нижнего и возможность опоры для верхнего партнеров. Партерные гимнасты работают на турниках, брусьях, кольцах, спущенных так низко, что до них можно допрыгнуть с манежа. Но есть в цирке жанр, где аппаратура, установленная на манеже или же подвешенная к куполу, диктует характер трюков и предопределяет их неповторимое своеобразие.
Артисты, чье искусство может быть продемонстрировано только на специальной аппаратуре, благодаря аппаратуре, в цирке именуются гимнастами.
Воздушная гимнастика – самый, пожалуй, романтический вид циркового искусства, он включает в себя бамбук и кордепарель, трюки, на которых во многом повторяют исполняемые на першах, корде-волан, напоминающий поднятую под купол свободно натянутую проволоку, воздушный канат, все разновидности трапеции, рамку, позволяющую вести в воздухе вольтижную работу, всевозможные вертящиеся аппараты (вертушки) для солистов и воздушных дуэтов, и самый крупный, да и самый впечатляющий цирковой номер – воздушный полет.
Сильные люди цирка – атлеты. В переводе с греческого атлет означает «борец». Но в настоящее время борьба – «Всемирные чемпионаты классической борьбы», как когда‐то, заманивая зрителя, возвещали афиши, в цирке не проводятся. Атлеты сегодняшнего цирка строят выступления исключительно на силовых упражнениях с тяжестями.
В наши дни спортивно-акробатические жанры – самая распространенная часть любого циркового представления. Оно и понятно. В каждом городе нашей страны есть спортивные кружки. Ведь редкая школа не выставляет на городские соревнования по самым разным видам спорта своих чемпионов. А техникумы? А институты?
Но за каждым чемпионом стоит спортивное общество, его вырастившее. Растет популярность спорта. Растут ряды спортсменов. И цирк, откликаясь на этот увеличивающийся интерес, наращивает число спортивно-акробатических номеров.
Кстати, если приглядеться к номерам спортивно-акробатическим, на сегодняшний день составляющим три четверти любого циркового представления, то нетрудно заметить, что почти все трюки, исполняемые на манеже, можно увидеть и на спортивных состязаниях.