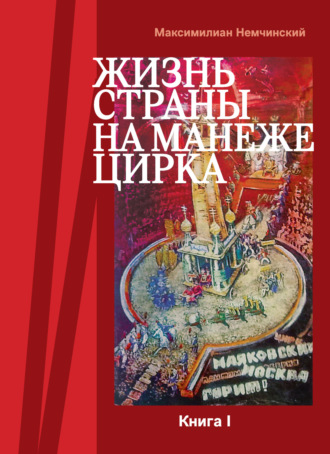
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955
Скорее всего, это было связано с очередной реорганизацией, созданием Госцирк-треста. Как ни солидно выглядело новое название на бумаге, на деле оно означало, что цирки сняли с государственной дотации и обрекли на самоокупаемость.
К этому времени все призывы и намерения сделать цирк советским, воспитать новых, советских артистов завершились приглашением зарубежных гастролеров. Объявление новой экономической политики позволило цирковому руководству разом решить проблему комплектации программ во всех 10 (включая два московских) госцирках страны. Упирая на бедственное положение зарубежных циркачей, на необходимость в духе международной солидарности поддержать их как жертв капитализма от Наркомфина добились валютного кредита. В Россию буквально хлынули лучшие номера и аттракционы мирового цирка (оплата шла на золотые рубли). Госцирки – а иностранцы работали по всей стране – стали рентабельными. Разумеется, проблемы воспитания советского циркового артиста, к которой не уставали призывать и газеты, и сами цирковые начальники, это не решило. Как не решало самого факта материального благополучия и занятости мастеров отечественного цирка.
Впрочем, сами руководители ЦУГЦа придерживались иного взгляда. «Что касается безработицы русских артистов, то таковая с приездом иностранных артистов нисколько не увеличивается. Обратно, приезд иностранных артистов дает возможность увеличивать количество цирков, то есть площадки, на которых могут работать иностранные и русские артисты, увеличивая этим и спрос на последних, – заместитель председателя управления А.М. Данкман, опытный управленец и юрист по образованию, умел дать неожиданный поворот любой обсуждаемой теме. – ЦУГЦ явилось первым государственным учреждением, организовавшим импорт иностранных артистов, повлекший за собой экспорт русских артистов за границу»[163].
Зарубежные директора приглашали, разумеется, лучших. Уехали эквилибристы на проволоке Розетти, воздушный гимнаст Жорж Руденко, труппа Али-Бека Кантемирова, эквилибристы Мильва, наездники братья Соболевские, кавказские джигиты Хундадзе, знаменитые музыкальные эксцентрики Бим-Бом (И.С. Радунский и М.А. Станевский)… Получил приглашение от лондонского цирка «Олимпик» и дрессировщик лошадей Вильямс Труцци.
Расставаться всегда грустно, поэтому на прощальном ужине, который дрессировщик давал коллегам, все острили, как могли.
Газеты белые, наверно,Напишут громкие статьи,О том, что лошади твоиВсе сплошь – агенты Коминтерна.Виталий Лазаренко откликнулся, как всегда, стихотворным посланием, сгущая, по цирковой привычке, краски:
Куда ты едешь, милый Труцци,И что тебя в Европе ждет?..[164]И сам артист, и все провожающие, разумеется, верили, что ждет коллегу европейская известность и валютные гонорары.
Действительно, выступления труцциевских «лошадей-артистов» сразу же покорили взыскательную публику. Ведущие цирки Европы поспешили заключить контракты со странным артистом. Несмотря на итальянскую фамилию, национальность и подданство, Труцци всюду афишировал себя артистом Советской России (он родился в Полтаве). После двух лет аншлагов, которые сопровождали советского дрессировщика в цирках Лондона, Парижа, Берлина, Брюсселя, Стокгольма, Мадрида, Лиссабона, Барселоны, его позвали за океан. Но от поездки по Северо-Американским Соединенным Штатам Труцци отказался. Его возмутила необходимость показывать виртуозное мастерство своей конюшни в трехманежном шапито. Приглашений на повторные гастроли хватало и в Европе. Неожиданно вспомнили о нем и в Москве.
«Я получил официальное приглашение от Ц.У.Г.Ц., – пишет Труцци другу в Ленинград (сохранена орфография оригинала. – М.Н.). – Я уже ответил, что принимаю приглашение, несмотря на то, что я подписал контракт опять в Париж на 9 месяцев, но я постараюсь его ликвидировать, конечно, если правление даст мне приемлемые условия. Я спросил жалование гораздо меньше, чем получаю здесь. Относительно жалования, думаю, придем к соглашении. Очень жалею, что в этот момент не нахожусь там. Мог бы много зделать и помочь своим знанием для хода дел. Живу по-старому, как в России, то есть работаю, репетирую. Так что Ваше опасение, что я брошу свою работу, преждевременно. Вы знаете, как я люблю свое искусство и всегда стремлюсь вперед и много желал бы зделать, чтоб поставить наше дело, как нужно, то есть чтоб был цирк. Ответьте мне скорей, узнайте, в чем дело»[165].
Что конкретно ответил дрессировщику Е.М. Кузнецов (письмо адресовалось ему), неизвестно. Но чем вызвано было это приглашение, нетрудно догадаться. Председателя управления Н.С. Рукавишникову отстранили от должности (и она отбыла за границу, где ее, поговаривали, ожидали валютные счета). Во главе госцирков оказался А.М. Данкман. Ему необходимо было убедительно подтвердить оказанное Наркомпросом доверие. Мало того. Страна готовилась отметить 10-й юбилей Республики. Государственным циркам, следовательно, предстояло продемонстрировать не только свою финансовую рентабельность, но и качественно новое, советское содержание. Что это означало на словах, Александр Морисович хорошо представлял и еще раз, уже в качестве управляющего госцирками[166], убедительно сформулировал. «Следующая задача в области цирка – усиление советизации программ и создание нового советского артиста. Первый вопрос разрешается путем изучения запросов зрителя циркового представления: записи реакции на отдельные номера, анкетирования и т. д. Таким образом, становится возможным внесение поправок в работу цирков в сторону советизации цирка, через разговорный жанр, пантомиму и увязку отдельных разрозненных номеров в единое цирковое зрелище. Второй вопрос разрешается созданием мастерской циркового искусства»[167]. Действительно, государственная школа для воспитания советских цирковых артистов, о необходимости которой шли разговоры с 1918 года, произвела наконец свой первый набор. Что касается советизации программ на манежах госцирков, понадеялись на энтузиазм и опыт Труцци.
Ему сразу же по приезду в Москву предлагают пост артистического директора (художественного руководителя по сегодняшней терминологии) государственных цирков.
Труцци соглашается. Он понимает, что рассчитывают на его авторитет и на его конюшню. Но, как профессиональный цирковой артист в третьем поколении, он убежден, что «нельзя строить программу на аттракционы, они не выявляют физиономии цирка и не делают ее интересной для публики. Средние номера более легки для зрителя, и среди них большинство – настоящие цирковые номера»[168]. И он делает все возможное, чтобы собрать для открытия сезона 1-го Московского госцирка такие номера. Современный цирк, которого ждут от него, как от артистического директора, – это прежде всего программа, представляющая владеющих своим мастерством артистов. Артистов, которые выходят на манеж с блестяще отрепетированными и оформленными номерами. Номерами, в которых пульсирует современность, то есть лучшими в своих жанрах. При этом Труцци понимает, что коллег по искусству призывать к чему-то можно только личным примером.
Поэтому срочно возобновляет свои наиболее значительные композиции прошлых лет и готовит новые.
Уровень и темп этой работы сохранила реклама.
16 сентября, день открытия сезона в 1-м госцирке, – «ГАСТРОЛИ МИРОВОГО АРТИСТА, ИЗВЕСТНОГО В РОССИИ ВИЛЬЯМСА ТРУЦЦИ с его 35-ю лошадьми-артистами».
26 сентября – «Последние новости! “СВЕТЯЩИЙСЯ КРАСНОАРМЕЕЦ-БУДЕНОВЕЦ”. “ТАБУН ЛОШАДЕЙ В ГОРАХ КАВКАЗА”. Лошади-музыканты, лошади-танцоры».
10 октября – «“ДЕТСКИЙ САД”[169] известного в Европе и Америке дрессировщика Вильямса Труцци. Участвует группа в 16 лошадей».
17 октября – «Первый раз! “ИСПАНСКИЙ ПИКАДОР” – высшая школа верховой езды. Вильямс Труцци на состязании в Барселоне получил первый приз и звание “почетный пикадор”. Лошади-музыканты, лошади-танцоры, знаменитая лошадь “Мисс Тангейт”».
И, наконец, – 9 ноября 1-й московский государственный цирк показывает «Юбилейное историческое представление “ВЗЯТИЕ ПЕРЕКОПА” в постановке И.М. Лапицкого и Вильямса Труцци»[170].
Неужели свершилось и первая советская цирковая пантомима наконец поставлена?
Но нет, все не так однозначно.
Во-первых, уже 10 ноября никакого «Взятия Перекопа» в репертуаре не было и в помине. Снова шло сборное цирковое представление, в котором опять лидировал «мировой артист Вильямс Труцци со своей конной труппой». Мало того, дрессировщик показал полную перемену программы и даже новые дебюты[171].
Во-вторых, «Взятие Перекопа» вовсе не являлось цирковой пантомимой.
Просто на манеже по примеру прочих государственных площадок сочли необходимым отметить юбилей страны юбилейным зрелищем.
Еще в августе промелькнуло сообщение о том, что в заново отремонтированном цирке будет к праздничной дате показана пантомима «Зарево Октября» в постановке известного оперного режиссера И.М. Лапицкого и в оформлении И.М. Рабиновича, прославившегося своими масштабными решениями самых разножанровых спектаклей. Впрочем, достаточно скоро от аллегорического зрелища решили отказаться, начали искать реальный сюжет. Скорее всего, причиной этому послужило юбилейное представление, готовящееся к 10-летию Октября в Большом театре. Его главный режиссер В.А. Лосский осуществлял постановку по собственному сценарию в оформлении Ф.Ф. Федоровского и с музыкой В.В. Небольсина. Будущий спектакль исчерпывающе характеризовало газетное сообщение: «Площадка сценического действия – земной шар, над которым царит Чудовищное Существо, поработившее человечество. В спектакле 4 части: Рабство, Борьба, Победа и Свобода. В последнюю часть вкраплены слова Владимира Ильича, воспроизводимые граммофоном и усиленные громкоговорителем»[172]. Апофеозу освобожденного труда, уместному на оперной сцене, И.М. Лапицкий (также один из ведущих режиссеров Большого) решил противопоставить зрелище, возможное только на манеже.
В крупных постановках цирка наиболее эффектными всегда считались батальные сражения. Скорый приезд Труцци гарантировал участие вымуштрованной конницы. Значит, кавалерийские атаки будущему спектаклю были обеспечены. Оставалось найти гарантирующую успех тему.
Один из драматургов Пролеткульта В.В. Игнатов, занявший к тому времени пост директора Мастерских циркового искусства, предложил инсценировать на манеже едва ли не самое захватывающее сражение Гражданской войны, битву за Перекопский вал. Привлеченный к юбилейной работе, он совместно с режиссером подобрал исторический материал, выстроил либретто, написал текст эпизодов.
«Постановка пантомимы строится на контрастно-реалистических принципах, развертывая на стержне трагедийного сюжета героику эпохи, жизнь и быт Красной Армии в этот период, военные настроения, работу нашего штаба в дни перекопских боев и боев за Сивашский перешеек, – сообщила газета. – С другой стороны она вскрывает обстановку и причины падения белого движения в Крыму»[173].
Этот же текст повторил журнал «Цирк и эстрада»[174]. А рекламный анонс зазывал: «Участвуют 500 артистов цирка, драмы, балета, красноармейцев, конницы и физкультурников. В мимодраму введены роли: Фрунзе, Буденного, Блюхера (красные), Врангеля, Слащова[175] и др. (белые)»[176]. Вот и все, что сохранила периодика о «Взятии Перекопа», поставленном в 1-м Московском госцирке. Впрочем, и эти сведения позволяют сделать ряд предположений, за достоверность которых можно ручаться.
Выбор темы продиктовал смену художника. Рабиновича заменил конструктор. С. Иванов предложил площадку, продолжающую манеж и широкой подковой поднимающуюся к месту расположения оркестра над форгангом. Сохранившаяся фотография макета спектакля[177] позволяет воочию представить преимущества такой планировки. Одно это сразу решало несколько конструктивных задач. Во-первых, почти на четверть увеличивается площадь игрового пространства. Во-вторых, появляется возможность строить мизансцены в двух плоскостях, на сцене и на манеже, а при надобности располагать персонажи между ними или перебрасывать действие с манежа на сцену. И, наконец, такая планировка убедительно зримо создает образ Перекопского вала (на сцене располагалась артиллерия и другие орудия современного боя), той преграды, которая реально вставала на пути победы.
Упоминание среди действующих лиц физкультурников дает возможность утверждать, что постановку завершал апофеоз, обязательный в финале такого рода зрелища, сводящийся традиционно к спортивным пирамидам и живым картинам. Все эти перестроения, опять же традиционно, сопровождало торжественное звучание монументального хора (точно так же «Героическое действо» Лосского завершала кантата «Гимн труду», специально написанная М.М. Ипполитовым-Ивановым).
И, разумеется, приглашение в постановку артистов драмы и 300 красноармейцев позволяет достаточно правдоподобно воссоздать композицию зрелища. Это было чередование массовых (батальных) и камерных сцен.
При этом камерные – разговорные – эпизоды в свою очередь демонстрировали по очереди, согласно перечню действующих лиц, работу красного и белого штабов.
Разумеется, наиболее эмоциональное впечатление оставляли батальные сцены, захватывающие и сами по себе, и тем более благодаря участию конницы.
«В пьесе много пушек, пулеметов, боевых приказов, белогвардейских прокламаций, пехотных атак и врангелевских банкетов, – писал рецензент. – Врангель отдает приказ. Его преосвященство (епископ Вениамин, глава церкви при Врангеле. – М.Н.) благословляет мечом и крестом белогвардейского главкома. В ставке Южного фронта энергичное совещание вождей Красной Армии. Парад и митинг. Красноармейцы рвутся в бой. Развернутым строем лозунгов Перекоп взят»[178].
Нет, это не отыскавшиеся рецензии на «Взятие Перекопа». Это отзыв о героико-батальном историческом представлении «Штурм Перекопа», показанном 6 и 7 ноября на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета (бывший Мариинский).
Ни о каком заимствовании в этих двух работах говорить не приходится. Они, безусловно, самостоятельны. Но их появление на двух таких непохожих площадках закономерно[179]. И в цирке, и в Актеатре самостоятельно вышли на одно и то же яркое, следовательно, зрелищное событие Гражданской войны, может быть, и потому, что свершилось оно как раз в третью годовщину Октябрьской революции, 9 ноября. Поэтому драматургическое изложение этого события, хотя и создавалось различными постановочными группами, выстраивалось по уже ставшей привычной схеме юбилейного зрелища. Разумеется, отдавая дань профессиональным возможностям участвовавших в постановках трупп. В цирке скакала конница Буденного и белогвардейцев, пели и танцевали на академической сцене. И в Москве, и в Ленинграде действовали одни и тех же герои – Фрунзе, Буденный, Блюхер, Врангель, Слащов… Включение в развитие сюжета реальных персонажей подтверждает, что и в цирке сцены с их участием были разговорными.
Так и не удалось выяснить, артисты какого театра выходили в гриме красных и белых командиров на цирковой манеж. Появлявшиеся на сцене ГАТОБа хорошо известны и сегодня. «Что же говорить об актерском исполнении? – писал А.И. Пиотровский, анализируя “Штурм Перекопа”. – Хорошо пел Ершов, корректен был Вивьен и более чем корректен, прямо-таки хорош Юрьев, едва не сделавший “Врангеля” подлинным героем этого незадачливого представления»[180]. И Адриан Иванович объясняет такую свою оценку: «Совершенно не оправдались расчеты авторов и на документальную “портретность” выведенных ими деятелей революции. Азбучный закон театра доказывает, что такая портретность может быть сколько-нибудь оправдана лишь в изображении персонажей отрицательных, где возможен прием карикатуры. Изображенье же на сцене фотографическими чертами положительных исторических героев неизбежно снижает их против оригиналов, что и случилось на этот раз с образами тов. Буденного, Фрунзе»[181].
Справедливая оценка сценических персонажей, значение которых определялось прежде всего популярностью реальных прототипов, тем более может быть отнесена к их манежным двойникам. Они были интересны не столько своим участием в развитии интриги происходящего, сколько самим фактом присутствия в спектакле. Поэтому сцены с ними, становящиеся знаково-символичными, и заканчивались обычно «живыми», по терминологии тех лет, картинами[182]. Что в свою очередь придавало торжественную многозначительность как самому эпизоду, так и всему действию. Впрочем, и в театральной, и в цирковой постановке это вполне отвечало самому стилю и настрою юбилейного зрелища. Этим же была предопределена недолговечность их сценической судьбы[183].
Такой же однодневкой стало показанное на манеже Московского госцирка массовое зрелище «Мы – Октябрю»[184]. Задумала и поставила его самодеятельная студия с лихой аббревиатурой МЕТЛА (Московская единая театральная ленинская артель)[185]. Сценарий Назыма Хикмета и Регины Янушкевич режиссер Николай Экк осуществил с привлечением учащихся Показательных школ Наркомпроса и кружковцев Хамовнического пионердома, отряды которых возглавляли сотрудники Государственного педагогического театра и студенты восточных национальных университетов (обещаны были 800 участников). «Важнейшие политические события с октябрьских дней до дня десятилетия»[186], разыгрывающиеся на манеже, озаглавливали световые лозунги на экране, озвучивали объяснительные стихи, выкрикиваемые в рупоры, сопровождал показ кинокадров «Великого пути»[187].
«Если не искать большого смысла в представлении, а принимать его только со стороны внешней впечатляемости, – свидетельствует рецензент, – то наиболее удачными отрывками явились диалог клоунов и выход Керенского[188]. Наименее – сцены в деревне и торжественный выход профсоюзов – зрелище в постановочном отношении в высшей степени убогое и постыдное»[189]. Хотя постановщик и уверял, что им «сознательно ограничено пользование чисто цирковыми номерами (Николай Васильевич, как почти всегда нецирковые люди, под “номерами” имеет в виду трюки. – М.Н.), чтобы не перенести центр внимания зрителей на работу профессионалов»[190], рецензент-зритель настаивает на другом: «В сознании остается не “10 лет Октября”, а только зрительные воспоминания об отдельных моментах гротесковой, развлекательной, цирковой игры»[191].
Готовящаяся к 10-летию Октября, постановка была показана только 21 ноября и всего один раз на утреннике. И в этом, по выражению Экка, «театрально-клубно-цирковом спектакле»[192] было обещано участие Вильямса Труцци. Состоялось ли оно в действительности или было заявлено для привлечения зрителей, выяснить не удалось. Скорее всего, имя Труцци упомянуто для отчета. Ведь заявил же «Цирк и эстрада», журнал, издаваемый ЦУГЦем, что это именно 1-й госцирк «приготовил особую октябрьскую пантомиму для детей».
Что касается «Взятия Перекопа», то ее именовали и «батальной мимодрамой», и «массовым зрелищем», и «октябрьским батальным представлением». И с любым из этих обозначений жанра можно согласиться. Была она названа и «пантомимой», хотя в действительности цирковой пантомимой, так же, как «Мы – Октябрю», не являлась. Это были показанные на манеже спектакли, использующие или цирковые номера, или цирковые трюки. Цирк являлся для них просто прокатной площадкой.
Анонсирование Труцци сорежиссером «Взятие Перекопа» стало ловким рекламным трюком администрации. Не совсем, впрочем, беспочвенным. Пусть даже Вильямс Жижеттович и не занимался непосредственной постановочной работой, все равно он корректировал участие своих лошадей и берейторов[193] в сценах кавалерийских атак. Однако сама возможность упомянуть имя прославленного дрессировщика в отчетах об освоении госцирком революционного материала служила весомым доказательством начала активной советизации отечественного циркового искусства. Можно было рапортовать, что цирк приступил к переосмыслению своих постановочных возможностей. Другими словами, что активно, уже на ином, постановочном уровне продолжается процесс советизации манежа.
Подобные утверждения убедительно звучали как в отчетных докладах, так и в публикациях периодики. Но, к сожалению, не отвечали действительности.
Что же застал Вильямс Труцци на манежах государственных цирков, вернувшись после двухлетнего отсутствия? Фактически то же, что мог видеть эти два года, гастролируя по Европе. Номера, законтрактованные заграницей, были высокопрофессиональны, великолепно экипированы и к тому же по-новому зрелищны. По моде тех лет каждое выступление выстраивалось в своеобразный сюжетный скетч, в котором каждый партнер выполнял определенную роль. К какому бы жанру ни причислялся номер, он демонстрировал сценку городской жизни. Своей, зарубежной жизни, разумеется. И такие номера занимали три четверти, если не больше, программы в любом из 10 принадлежащих ЦУГЦу цирков.
Вот эти-то программы новому артистическому директору и надлежало советизировать.
На воспитанников КЦИ, артистов нового, уж наверняка советского цирка, рассчитывать не приходилось. Они только-только начали свое обучение (к тому же у старых, вынужденных оставить выступления на манеже артистов). Имелись, правда, отдельные русские номера. Номера, если и уступающие иностранным коллегам в зрелищности, то уж никак – в профессионализме. Это были крепко сбитые номера, в которых каждый трюк и каждый жест были выверены годами работы (и успехом у зрителей).
Вильямс Труцци, приняв должность артистического директора, продолжал все-таки оставаться артистом. А как артист цирка он твердо знал – и не видел причин изменять свои убеждения, – что цирк, от начала своих начал, всегда стремился быть современным. Конечно, в советской стране быть современным значило быть советским. Советским цирком для советского зрителя. Но ведь в цирковом зрелище его почитатели привыкли искать (и получать) то, чего им не хватало в жизни. Поэтому в цирке постоянно делалась ставка на непохожесть, на гротеск, на эксцентрику, на экзотику. И Труцци как мастер, артист и режиссер в одном лице стремился к этому. Он постоянно искал образную форму подачи обычных классических выступлений своей конюшни и своими взаимоотношениями с лошадьми. Труцци приучал зрителей видеть в животных не послушных четвероногих, а артистов.
Вильямс Жижеттович искал зрелищную содержательность трюка и номера, интересную своему сегодняшнему зрителю. В голодной и замерзающей России он являлся на манеж в облике восточного властителя (Евг. Б. Вахтангов тогда же ставил свою «Турандот»). Отправляясь же в сытый и враждебный Лондон, приготовил экзотическую для англичан «Соколиную охоту времен Ивана Грозного» и заказал столь же экзотическую для них, долгополую шинель со шлемом красного кавалериста. Труцци верил (и убедился в своей правоте), что, появившись в одинаково далеком для лондонца облике русского боярина или буденовца, заставит по-новому взглянуть на обычно интернациональный и фрачный номер высшей школы верховой езды. Он искал для традиционного цирка неожиданно новую и уже поэтому современную форму подачи.
Однако столь решителен и непредсказуем Вильямс Жижеттович был в отношении своих номеров. Здесь он являлся полноправным хозяином. Но даже должность артистического директора не давала ему права вторгаться в святая-святых коллег, в их номера. Тем более, что демонстрируемые в госцирках программы по-прежнему состояли в основном из номеров зарубежных гастролеров. Это, как правило, были высокопрофессиональные номера. Современные номера. И они отражали действительность, но, разумеется, не советскую, а тех стран, из которых приехали.
Как же при таком положении государственный цирк Страны Советов должен был советизировать свое искусство?
Советчиков хватало. В этом легко удостовериться, обратившись хотя бы к откликам периодики на цирковые программы тех лет. Ведь почти каждая рецензия превращалась в наставление цирку по его дальнейшему развитию и совершенствованию.
«Незачем повторять в тысячный раз всем известные истины. Незачем поэтому говорить и о том, что цирк – излюбленнейший и всем доступный вид искусства, что ничто так не радует, как торжество человеческой силы и ловкости. На примере физкультуры, на глубоком внедрении ее в наш быт – это давно проверено. А, в сущности, цирк – это та же физкультура, доведенная лишь до пределов виртуозности, технической выверенности, математической точности»[194], – уверяла одна газета.
Другая констатировала: «Можно с гордостью утверждать, что лишь в СССР цирк выполняет свою задачу – демонстрируя образцы человеческой силы, ловкости и смелости. Наш цирк отбросил элементы “интимности”, возникшие в упадочные предвоенные годы – романсы настроений, лирические балеты и т. д., он не приемлет и номеров современного Запада, стремящихся щекотать нервы, заменяющих жутким Гиньолем подлинное мастерство»[195].
«Разве цирк может как-либо изменить свои приемы, навыки, формы – такие интернациональные, традиционные, неизменяемые веками? – теоретизировала третья статья. – Задача иная, более широкая, более трудная: очистить цирковое искусство от всякого стороннего сора – литературного, театрального, эстрадного и даже циркового, но уже отжитого!.. – и по новому организовать, по-иному инструментовать основные элементы волшебного циркового акробатизма… Организовать их в соответствии с художественной и материальной культурой современности, подкрепив их достижениями прикладных к цирку искусств, мимо развития которых европейский цирк прошел равнодушно»[196].







