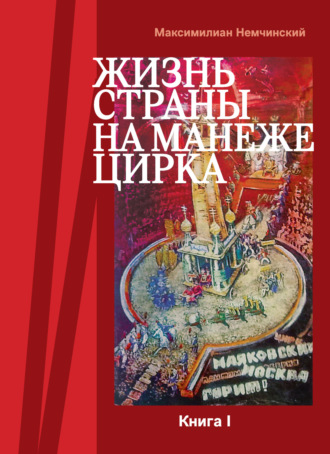
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955
Прыжки открывали или, напротив, завершали выступление артиста. Центром же номера становился разговорный монолог, получающий то или иное зрелищное подтверждение. Тема всегда была актуальна и злободневна. А ее различное разрешение всякий раз поражало своей неожиданностью и убедительностью. В спектакле Касьяна Голейзовского он, как арбитр, вывел и прокомментировал Чемпионат борцов[145]. Только борцы эти представляли не классический Чемпионат, обычно выступающий в цирке, а Всемирный чемпионат классовой борьбы. По просьбе клоуна В.В. Маяковский написал современную редакцию его старой, еще периода войны репризы. В качестве «борцов» на манеж выводились в портретном гриме главы всех враждебных Советской России государств (их изображали униформисты). И представлял их зрителям (и тем самым разоблачал их истинные возможности и намерения) Лазаренко, выступающий в образе «скомороха цирка», как то было обозначено в афишах. Или же, что было ближе понятиям тех, еще не отвыкших от митингов лет, в облике глашатая. Соответственно костюму, напоминающему облик средневекового шута, он поменял и грим. Свой вздернутый нос артист изменял с помощью гуммоза, снабжал величественной горбинкой. Взметнувшиеся брови-ласточки и ярко накрашенный рот укрупняли лицо. Точно так же увеличивал его взбитый шаром кок. Это было лицо не клоуна-потешника, а трибуна. Комическая ситуация подводила к патетическим выводам. Так зародилась еще одна традиция нового цирка, цирка, пытающегося стать публицистичным.
Своеобразие поисков Лазаренко отмечала уже современная критика. Б. Ромашов писал: «Инсценировка переносит центр внимания на арбитра-глашатая и пользуется комическими положениями участников чемпионата, представителей разных политических сил»[146]. Номер обретал вид зримого монолога.
Рождение нового принципа подачи репертуара потребовало более современного костюма, чем тот, который был создан П.В. Кузнецовым[147]. Уже в 1921 году клоун вместе с Борисом Эрдманом остановился на прозодежде «комедиантов» нового революционного театра. Художник введением двух вертикальных локальных цветов разрушил силуэт комбинезона, короткой, до талии куртки и шапочки. По сути дела, тот же наряд средневекового шута был изложен в духе конструктивизма.
Артист постоянно искал формы наиболее действенного общения со своим зрителем. В «Московской панораме», прокричав каждое четверостишье, Лазаренко пробегал круг вдоль барьера с нарисованным на большом листе рисунком. Потом решил обратиться к помощи ассистировавших друзей-клоунов. Так после сноса Сухаревской башни, мешавшей возросшему движению транспорта Москвы, он устроил на манеже под «Яблочко» (оркестр начинал играть в замедленном темпе, но доводил его до предельно ускоренного) грандиозные похороны, где, заваленный венками, гроб с Сухаревкой провозили вдоль барьера, а следом тащилась горько рыдающая толпа торгашей, спекулянтов и жулья. Ассистировали клоуну соответствующим образом одетые и загримированные униформисты. В «Эволюции митингов» они, окружив Лазаренко, возвышающегося на ходулях, всякий раз отвечали на его меняющиеся призывы и манеру их подачи, в духе и выражениях прошедших годов, начиная с 17-го. А в год показа этого антре молчали. И клоун объяснял причину:
…сейчас совершенно не нужна моя критика,Мы теперь митингов не ведем,Потому что новая экономическая политика[148].Когда Виталий Ефимович только начинал произносить текст с манежа, он сам сочинял необходимые четверостишья и монологи. Ведь новости должны быть всегда злободневны. Он издавна ощущал потребность в профессиональной литературной помощи. В начале двадцатых годов для Лазаренко писали В.Г. Шершеневич, В.В. Маяковский, Н.А. Адуев, А.М. Арго. Писали и другие. Но метод работы с ними оставался одним и тем же. «Он обращался к литератору, как к акушерке»[149],– с присущей ему афористичностью вспоминал Арго. Клоун был требователен к своим авторам не потому, что платил им из собственного кармана. Он являлся и ощущал себя не только исполнителем, но и режиссером всего, что делал на манеже. И добился со временем того, что его станут называть «живой советской злободневной газетой»[150].
Так получилось, что ведущие клоуны отечественного манежа, не сговариваясь, каждый, следуя законам своего жанра, пришли в результате к созданию своеобразной клоунской пантомимы. Пантомимы, объединявшие обычно все цирковые жанры в целостный спектакль, в этот период заменили клоунские пантомимы. И одним из средств выразительности в этой пантомиме становилось слово. И если цирк традиционный можно бы еще уподобить театру-балагану, куда ходят развлекаться, то цирк, переосмысливаемый, реформируемый клоунами, пытался уже решать проблему активной социальной пропаганды.
Собственные клоунские номера, влиять на которые никто не решался, стали своеобразным творческим протестом против сложившейся на манеже репертуарной ситуации. Даже потеряв надежду переспорить Рукавишникову и Дарле, разговорные клоуны не потеряли веру в то, что избранный ими путь верен. Дождавшись окончания контракта, они покинули Москву, оставили цирки, национализации которых так бескорыстно содействовали. И уже на других манежах продолжали развивать вновь обретенные формы своих преображенных жанров. И прежде всего доказавшую свою востребованность сатирическую злободневную пантомиму.
Большая цирковая пантомима, обстановочная и многолюдная, была забыта. По инерции тот или иной руководитель государственных цирков, словно спохватившись, обещал при случае их постановку в следующем сезоне. Особо не задумываясь, называли «Политическую карусель» Рукавишникова – Фореггера. Реже вспоминали «Самсона» Конёнкова, даже «Спартака», так и не поставленного на манеже Мейерхольдом. Но создание таких больших манежных спектаклей требовало не столько заинтересованных создателей, сколько значительных финансовых вложений. А этого старались избежать. Контролирующие органы словно забыли, что надеялись совсем недавно на превращение цирка в своеобразную академию для трудящегося народа. К тому же Циркотрест, существовавший на правах самоокупаемости, спокойно мог получать доход, не создавая что-нибудь новое, а просто приглашая уже существующие номера. Тем более, что вновь открытые международные торговые связи позволили заключать контракты с зарубежными исполнителями. Призывы и обещания создать нового артиста для нового цирка поутихли.
Мало того, идея создания нового цирка (для чего и была проведена его национализация) была отброшена и забыта. Все были покорены появлением заполнивших чуть ли не всю программу, прекрасно экипированных, с новой аппаратурой и трюками, исполняющимися под модную музыку, зарубежных номеров.
Газетные публикации со свойственной им категоричностью утверждали: «Усилия мистера Дарле, директора московских цирков, возродить ветшающее в России цирковое искусство не пропали даром. Путь к возрождению взять правильный: артобмен с заграницей» (выделено автором. – М.Н.)[151]. То, что возрождался не отечественный цирк, а старая система проката номеров, никто не замечал. Или не хотел замечать.
Никто, кроме отечественных артистов. И только начинающих, которым иностранцы закрыли доступ на столичные манежи. И тех, которые уже успели добиться популярности и самоотверженно включались во все мероприятия по превращению цирков в государственные. Они после упорной, но безрезультатной борьбы просто уехали из Москвы[152]. Ведь несмотря на то, что шел уже четвертый сезон национализации, государственными оставались, как и в начале, только два столичных цирка. Все остальные по всей приходящей в себя после Гражданской войны, эпохи «военного коммунизма» и разрухи стране продолжали оставаться частными или находиться в распоряжении Коллартов. В них-то отечественные артисты и старались преобразить свои номера и воспитать учеников. Мечту о новом цирке и новых артистах мастера манежа не оставили. Но и те, которые вынуждены были продолжать выступления в Москве, постоянно экспериментировали со своими номерами. И даже стремились создать на их основе (и в их жанре) обстановочные пантомимы.
Отмечая двадцатипятилетний юбилей своей артистической деятельности, В. Труцци представил на суд публики пантомиму-феерию «Рыцарь Золотого Льва». Это была работа, которую мастер создал, не поддавшись настояниям руководства или требованиям времени. Он поставил то, что считал нужным для своего цирка, важным для себя.
Разгар нэпа резко поменял публику циркового зала. Теперь первые ряды раскупали «советские купцы». Впрочем, остальные места, вплоть до галерки и включая галерку, по-прежнему занимали молодые рабочие и вузовцы, трудовая интеллигенция, красноармейцы, пришедшие отдохнуть пролетарии. Люди, верящие в победу справедливости, жадные до зрелищ, до нового. Что им, строящим новую страну, давно прошедшие времена? Выбор режиссера казался странным. Но это на первый взгляд. Ведь цирк всегда неожиданность.
Всегда утверждение безграничности человеческой силы, воли, духа. Поэтому для русского зрителя, измученного годами мировой и Гражданской войн, Труцци выдумывает экзотический мир, подчиняющийся невообразимым традициям романтического Средневековья. Мир, в котором мечта и воля позволяют осуществить самые дерзновенные мечты. Великолепные лошади, прекрасные женщины, благородные рыцари, завораживающие ритуалы… Цирк создавал в еще недавно нетопленном зале мир волшебства и фантазии.
Вот что обещало либретто:
«1-е действие. ДВОР ПЕРЕД ЗАМКОМ ГЕРЦОГА ТЕОФИЛЯ.
Бертрану, рыцарю Золотого Льва, удается вызвать через привратника на свидание дочь Герцога Мелисанду. Во время встречи он клянется ей в любви и обещает приложить все усилия, чтобы добиться у Герцога согласия на их брак. Привратник докладывает о приближении к замку рыцарей. Свидание прерывается.
Во двор въезжает Ричард – рыцарь Черного Дракона со свитой. Он неприязненно встречается с Бертраном, видя в нем соперника, и просит привратника доложить Герцогу о своем прибытии. [Герцог] Теофиль отказывается его принять. Раздраженный рыцарь направляется к замку.
Герцог выходит с дочерью и приглашает гостей разделить с ним трапезу. Пир на террасе замка. Утомленный Герцог с дочерью покидает гостей, прося их продолжить веселье.
Черный рыцарь предлагает Бертрану сыграть с ним партию в кости. Проигрывая все состояние, он приходит в ярость и бросается с мечом на соперника. Бертран с друзьями покидает замок. За ним следует свита Рыцаря [она тоже проиграна], оставляя своего господина в полном отчаянии.
Ночь. Появляющийся Сатана предлагает спасти Черного рыцаря, обещая ему несметные богатства, если он продаст свою душу. Рыцарь соглашается. Гномы приносят мешки с золотом. Окрыленный надеждами, рыцарь удаляется в замок.
Черт морочит привратника своими веселыми шутками.
2-е действие. Декорация та же.
Утро в замке. Бродячая труппа просит разрешения устроить представление. Появляется Герцог с дочерью в сопровождении черных рыцарей. Ричард [рыцарь Черного Дракона] просит у Герцога руки его дочери Мелисанды. Отец отказывает ввиду бедности рыцаря. Ричард говорит Герцогу о своем богатстве, полученном якобы в наследство. Теофиль дает согласие на брак и разрешает бродячей труппе начать свое представление.
В замок въезжает Бертран со своими друзьями.
Происходит спектакль бродячей труппы.
Хозяин посылает Шарля де Больвуа собирать деньги среди зрителей. Рыцарь Черного Дракона, по наущению Сатаны, грубо отталкивает Трувера. Рыцарь Золотого Льва одаряет бедняков комедиантов. Герцог удаляется.
Сатана, явившийся в замок в образе рыцаря, угощает всех волшебным вином. Гости в ужасе разбегаются.
Шарль де Бельвуа в благодарность за помощь дарит Бертрану чудесного коня – Альтома. Оруженосец Черного рыцаря стоит на страже. Шутки чертей.
Рыцарь Золотого Льва вызывает через привратника Мелисанду и уговаривает ее бежать. Им преграждают путь Герцог и Черный рыцарь, который оскорбляет Бертрана. Стража хватает рыцаря Золотого Льва и по приказу Герцога привязывает его к столбу. Теофиль велит заточить свою дочь в башню.
Чудесный конь освобождает Бертрана, и рыцарю удается бежать. Повинуясь приказу, Альтом звонит привратнику и уводит его к своему господину. [Привратник] Игнацио передает Мелисанде письмо от Бертрана с планом бегства.
Рыцарь Золотого Льва похищает Мелисанду из башни. Но свита Черного рыцаря настигает их и побеждает Бертрана в сражении. Герцог Теофиль приказывает привязать Бертрана к дикой лошади и пустить ее по степи.
3-е действие. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА.
Дикая лошадь мчит обессиленного Бертрана. Изнемогая от усталости, лошадь падает.
Шарль де Бельвуа вызывает Альтома и дает ему приказание привести друзей рыцаря Золотого Льва. Они освобождают Бертрана и уводят его с собой.
4-е действие. ДВОР ПЕРЕД ЗАМКОМ ГЕРЦОГА ТЕОФИЛЯ.
Праздник в честь бракосочетания Мелисанды с рыцарем Черного Дракона. Турнир. Черный рыцарь побеждает первого противника.
Появляется Бертран. Он принимает вызов рыцаря и побеждает его в сражении. Сатана уводит за собою рыцаря Черного Дракона.
Победитель открывает свое имя и с помощью доброго Бельвуа получает согласие Герцога Теофиля на брак с его дочерью.
Праздник рыцарей. Апофеоз»[153].
Ю.А. Дмитриев приводит в своих очерках «Советский цирк» другой текст[154], ссылаясь на сценарий «Рыцаря Золотого Льва», хранящийся в ленинградском Музее цирка. Очевидно, цитируемое им либретто (в настоящее время утерянное) явилось тем, которым воспользовался Труцци для своей режиссерской редакции[155]. Ошибка Дмитриева позволяет, сравнивая эти два варианта, утверждать это с полной достоверностью. А достаточно подробное изложение развития сюжета в приведенном выше либретто дает возможность с большой долей достоверности восстановить целый ряд режиссерских находок Труцци (ведь в конкретной работе над пантомимой постановщик всегда становится и автором).
Привлекает внимание, что, если не основным, то равноправным персонажем в движении фабулы становится четырехногий артист, «Альтом – чудесный конь Шарля де Бельвуа», как значится он в перечне действующих лиц. Трюки лошадей и с лошадьми и являются основой циркового содержания пантомимы.
Труцци отказался в своей версии от излишней сказочности происходящего. Он убирает добрую волшебницу, которая под видом «цыганки Зары» приводит коня и спасает героя ото всех обрушившихся на него напастей.
Режиссер, смело изменив сам характер цирковой пантомимы, вводит вместо цыганки, упоминаемой Ю. Дмитриевым, поэта, которого, как то и положено стихотворцу, наделяет текстом. Труцци делает еще более решительный шаг, пригласив на роль этого, согласно программке, «доброго гения, известного под именем певца-трувера Шарля де Бельвуа», В.В. Максимова.
Прекрасный театральный актер, выступавший в труппах и императорской Александринки, и революционного, созданного А.М. Горьким и М.Ф. Андреевой, Большого драматического (бывшего А.В. Суворина), широкой публике Владимир Васильевич был известен как «король экрана» немого кинематографа. Театр он не оставлял никогда и в год постановки пантомимы выходил на сцену Малого театра в заглавной роли шиллеровского «Дон Карлоса». Максимов был и популярным чтецом, выступающим на концертных эстрадах с модной мелодекламацией. Иногда даже соединял свое чтение и звучание музыкальных инструментов с хореографией балерин. Дух авантюры побудил его принять предложение Труцци и выйти на цирковой манеж.
Ведь они были давно знакомы. Еще до Первой мировой Максимов пригласил артиста, вместе с конным жонглером Николаем Никитиным и танцовщицей на лошади Тамарой Гамсахурдия, сняться в двухсерийном фильме о жизни цирка, в котором сам и играл, и был режиссером[156].
Теперь уже Труцци как постановщик пантомимы предложил Максимову не просто выйти на цирковой манеж, но и заговорить на нем.
Это был смелый эксперимент. Все взаимоотношения персонажей «Рыцаря Золотого Льва» строились исключительно на мимике и жесте. И только один, певец-трувер, был наделен словом. При этом, если все на манеже стремились соотносить с музыкой, исполняемой оркестром, длительность и энергетику своего физического существования, то Максимов строил на ней мелодику слова. «В музыкальном чтении Максимова, – вспоминал его ученик и биограф, – слово органически сливалось с музыкой по тембру, ритму и по эмоциональной окраске звучания»[157]. Певец-трувер Максимова не произносил слова героев. Его рассказ, как пояснительные надписи, прерывающие показ кадров в немом кинематографе, развернуто комментировал происходящее.
Приглашение Максимова на манеж в качестве одного из персонажей гарантировало и достаточно высокий уровень актерского существования и всех остальных участников цирковой пантомимы. Большая театралка и при этом любительница нарождающегося искусства кинематографа, писательница А.А. Вербицкая постоянно подчеркивала в своих рецензиях, что игра В. Максимова на экране «выше всяких похвал», что он «играет сейчас так, как со временем все научатся играть для кинематографа, всё выражая мимикой без подчеркивания и шаржа, слова заменяя жестом, но опять-таки без усиленной жестикуляции и ненужной досадной суетливости»[158]. Хваткие цирковые артисты, конечно же, не хотели ударить в грязь лицом и стремились соответствовать (на чем настаивал и Труцци) своему именитому коллеге. Тем более, что большинство исполнителей имели опыт работы в пантомиме и умели учиться.
И мелодекламация, и ритмизированные движения персонажей (в пантомиме было много танцев и сражений), и четкие перестроения и трюки вымуштрованных лошадей погружали зрителей в сказку. Цирковую сказку, ведь в программке через запятую перечислялись дамы, рыцари, стража, дворовая челядь, гномы и лошади.
Следует иметь в виду, что, хотя в либретто и говорится о 4-х действиях, вся пантомима занимала одно отделение из трех, составляющих цирковое представление. А «действия», следовательно, являлись сменяющими одна другую картинами. Перерывы между этими картинами были незначительны, ведь три из них происходили на «Дворе замка герцога Теофиля», а «Лесная поляна» решалась без декораций. Она шла на пустом манеже в лучах прожекторов, благодаря чему темнота скрывала и «террасу замка», расположенную на сцене, и «башню замка», выстроенную сбоку форганга перед барьером.
Внимательное прочтение либретто (а в нем четко прописаны игровые звенья, необходимые для развития сюжета) позволяет сделать неожиданный вывод. Фактически, изложение действия сводится к описанию развернутых фрагментов конной дрессуры, понятных без слов, и живых картин (позже их стали именовать «стоп-кадрами»), нуждающихся в словесном пояснении. Для последних и понадобился отвечающий духу и стилю зрелища «певец-трувер» с его мелодекламацией под оркестр. Такой рассказ существенно сокращал само пантомимическое действие, иллюстрирующее развитие сюжета.
Все игровые звенья фактически являлись живыми картинами, обозначающими развитие сюжета. Для раскрытия их содержания и понадобились словесные объяснения певца-трувера. Все развернутые сцены, в комментариях не нуждающиеся, происходили на лошадях или с участием лошадей. Это: появление и фигурные передвижения по манежу конных кавалькад Труцци – Бертрана и его соперника Ричарда в 1-м, 2-м и финале 3-го действий, во 2-м – погоня на лошадях, конное сражение героя с отрядом рыцарей и сольная работа премьера конной труппы Труцци Орлика, выступающего в роли «чудесного коня Альтома» (развязывает зубами веревку; звонит в колокол; ухватив зубами за рукав, водит по манежу человека), и конные турниры в 4-м действии. А 3-е действие целиком было построено на демонстрации дрессуры лошади (она мчала по кругу привязанного к ее спине героя, падала вместе с ним на манеж). Апофеоз показывал массовые конные танцы лошадей и на лошадях.
Эти игровые звенья «Рыцаря Золотого Льва» дают представление о модулях, на которых пантомима держалась: сражения, застолья, праздники, выступления артистов, клоунские повторы ключевых событий, сцены взаимодействия человека и животного. Разумеется, такой постановочный прием не явился оригинальной придумкой В. Труцци. И до его работы, и после именно из таких модулей составляли рабочую схему цирковой пантомимы, легко (или с натугой) вписывающуюся в любой сюжет. К тому же каждая постановка акцентировала те слагаемые, которые можно было наиболее эффектно подать и которыми наиболее профессионально владел постановщик. У Труцци на первый план выдвигалась дрессура лошадей.
Впрочем, зрители на такие тонкости внимания не обращали. Зато всех не оставляла равнодушными отчаянная энергетика, безоглядная страсть, торжество любви, на которых было заквашено цирковое зрелище. Успех пантомиме «Рыцарь Золотого Льва» гарантировала прямолинейность, «достоверность» всего, происходящего на манеже. Но прежде всего декоративная пышность, щедрая зрелищность костюмов, декораций и ритуалов, приподнятость взаимоотношений, гармония сосуществования людей и животных. Сказочные сражения со злом зритель, борющийся с ежедневными реальными трудностями, принял горячо и доброжелательно. Простой зритель, но не критики.
Ведь о цирке писали, как правило, журналисты, увлеченные новым сценическим мастерством, призывающие покончить в театрах с театральщиной и сделать актера энергично функциональным. Актера, нацеленного на действе и растворяющегося в нем, как артист цирка. Поэтому, естественно, все попытки обогатить образную содержательность манежа средствами театральной выразительности воспринимались крайне недоброжелательно.
Удалось отыскать только одну статью, откликнувшуюся на эту достаточно крупную конную пантомиму, подобную которой москвичам показывали по крайней мере лет десять назад. Но и она почти целиком была посвящена рассуждениям, что может и чего не должен показывать новый цирк. Правда, автор все-таки признавал за мастерами манежа право на перевоплощение.
«Интересны места с лошадью и чертом[159]. Здесь было подлинное зрелище.
Труцци играл правильно (здесь и выше – выделено автором. – М.Н.), не переживая, а показывая, чему он научил своих лошадей»[160].
Прежде всего Вильямс Жижеттович показал, как он понимает возможности цирка найти со своим зрителем общий язык.
Эта работа мастера заставляет еще раз обратиться к пресловутой проблеме театрализации цирка. Ведь Труцци продолжал оставаться артистическим директором московских госцирков. Поэтому его постановка несомненно являлась примером, демонстрацией того, каким предстоит стать новому цирку. Ведь Вильямс Жижеттович привлек на манеж и достоверно конкретную декорацию, и иллюзорный (отвергаемый глашатаями нового театра) свет, и несущий образную содержательность костюм, и подчеркиваемую тематическую узнаваемость, а также эмоциональную наполненность музыки, и даже звучащее слово. И все это для того, чтобы подчеркнуть, преподнести, выпукло и закономерно вывести на первый план цирковой трюк, трюковую комбинацию, образную суть циркового искусства. В этом контексте обогащение цирка как такового средствами сценической выразительности вряд ли рационально воспринимать как театрализацию. Методологически точнее разглядеть в этом процессе драматизацию циркового искусства. Естественно, воспринимая драматизацию как образное насыщение. Тогда становится очевидным, что благодаря проделанной постановочной работе цирковой трюк обретает внутреннюю мотивированность, логику и манежную (как аналог сценическому) необходимость. И на такой обогащенный трюк работают все средства внешней выразительности – и пластика, и музыка, и костюм, и декор, и свет, и даже слово. Но при этом цирк не смеет терять своей самобытной индивидуальности и должен следовать своим привычным и содержательным путем ассоциаций.
Цирк, стремящийся стать новым, чтобы говорить со своим новым зрителем, должен, разумеется, совершенствовать свой постановочный язык. Но обязан при этом не изменять своей зрелищной природе. «Эксперимент превращения цирка в агитационную трибуну надо производить очень осторожно, – утверждал Вильямс Труцци от имени всех мастеров манежа. – Ведь в цирке всегда доминировало “д е л о н а д с л о в о м” (выделено автором. – М.Н.)»[161].
Однако судьба распорядилась так, что времени для раздумий уже фактически не осталось. Буквально через месяц после юбилейной постановки состоялся XII съезд РКП(б) и в принятой на нем резолюции по вопросам пропаганды и агитации было записано: «…усилить работу по созданию и подбору соответственного революционного репертуара, используя при этом в первую очередь героические моменты борьбы рабочего класса»[162].
Государственный цирк получил тем самым государственный заказ на создание исторически достоверных и политически выдержанных пантомим на манеже.
По меркам агитспектакля
«Октябрь на арене» – Ленинград, 1927 г
С государственным цирком постоянно случался какой-то «цирк». В 1925 году почему-то отмечалось его пятилетие.







