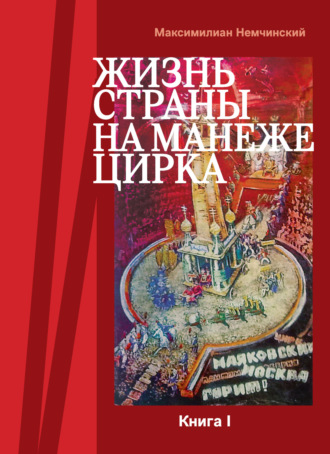
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955
Как известно, на четвертом году революции был провозглашен «Театральный Октябрь». Вс. Э. Мейерхольд, его инициатор, был авторитетом непререкаемым. В те годы не столько профессиональным, сколько административным. Поставленный А.В. Луначарским во главе Театрального отдела Наркомпроса, он попытался сосредоточить в своих руках все рычаги управления сценической жизни страны. А стремился он к тому, чтобы театры следовали путем, который представлялся ему единственно правильным и необходимым. Не зря же театр, который он возглавил, именовался «РСФСР Первый». Всем остальным предписывалось тем самым, разобрав порядковые номера, выстроиться в затылок друг другу. С инакомыслящими Всеволод Эмильевич был категоричен и безжалостен. Не обошел он вниманием и цирк. Одним из первых распоряжений нового завтео стал роспуск художественных советов московских госцирков. Специальная литература приучила всех к мысли, что этим с проблемой, получившей на ее страницах наименование «театрализация цирка», было покончено. На деле все обстояло не столь однозначно.
Роспуск художественных советов московских госцирков с обвинением в «отеатрализовании» искусства манежа к существенным результатам не привел. Покинули цирк А.А. Горский и К.Я. Голейзовский, но они и так бы ушли, выполнив условия своих контрактов. Номера по-прежнему продолжали роскошно костюмировать. Кроме того, в печати появилась большая статья, тенденциозно озаглавленная «Грядущий цирк». Авторы ее, скрывшиеся под весьма прозрачным псевдонимом «Дан-Форэ» (это были А.М. Данкман и Н.М. Фореггер), сформулировали художественные принципы, утверждавшиеся в открывших 2-й сезон программах. Это был призыв к «художникам, музыкантам и режиссерам, которые стремятся к новому строительству в цирке». Перечислялись ожидавшие их работы: «Они должны простые гимнастические демонстрации силы и ловкости облечь в известную форму представления. Они должны создать и найти тысячи изумительных пантомим и феерий. Они должны создать сильную и бодрую музыку новых победных маршей и галопов. Они должны уничтожить мерзость матросок, теннисных костюмов и смокингов, вытесняющих цирковой наряд. Они должны создать для цирка костюм столь прекрасный и удобный, чтобы его стремились повторить и в жизни. Они должны раскрасить седла наездников и лица клоунов и убрать лентами и бубенцами трапеции»[112].
Знаменосцы «Театрального Октября» отметили этот демарш подотдела цирка и в «Лозунгах Октября искусств» резко его приструнили: «Не во внешней помпе лежит ключ к грядущим достижениям, не в том, что трапеции будут украшены лентами и бубенцами, а Павлы Кузнецовы примутся облачать артистов в свои никому не нужные наряды; этот период разочаровался в способностях цирка стать воспитателем трудовых масс»[113]. Но сам Мейерхольд как завтео не отреагировал на бунт своих подчиненных. Он тогда увлекся идеей Н.И. Подвойского призвать работников искусства принять самое активное участие в художественном воспитании масс юношества в процессе всеобщего допризывного военного обучения.
«Необходимо сблизить занятия физической культурой с массовым театральным действом, – заявил начальник Центрального управления Всевобуча, выступая в «Доме Печати». – Физическая культура, близость к природе и массовое театральное действо – вот факторы создания нового коллективистического человечества»[114]. Идею сразу и увлеченно поддержал Мейерхольд. Он успел к тому времени выпустить «Зори» Эмиля Верхарна как спектакль-митинг. Работа эта подтвердила его убежденность в востребованности актеров физкультурно-развитых, умеющих владеть своим телом, своей речью, своим темпераментом. Актеров-предводителей, актеров-глашатаев. Как режиссер, ломающий традиционную сценическую культуру, Мейерхольд теперь видел в допризывниках резерв для воспитания театральной смены, готовой к утверждению революционного театра. «Физкультура должна служить орудием для проведения чисто политико-агитационных задач, – заявлял теперь мастер. – Театр и цирк должны стать ареною насаждения физкультуры, рассадником политического и художественного воспитания». Поставив конкретную цель, он делал единственно верный, с его точки зрения, вывод – «необходима театрализация спорта»[115].
Предложенное решение проблемы тем неожиданней, что совсем недавно Мейерхольд сам жестко осудил стремление «отеатрализовать цирк», что «расходится со специальными заданиями Подотдела Цирка при ТЕО, в корне разрушает чистые формы искусства цирка и не дает возможности сохранить ряд испытанных цирковых традиций и методов»[116]. Очевидно, что, призывая к театрализации спорта, Всеволод Эмильевич, как и в том случае, когда на «диспутах» 1919 года выступал против театрализации цирка, ратовал не столько за преображение физкультуры (цирка), сколько за необходимость реформы театральной школы. Теперь он был убежден, что именно широчайшее физкультурное движение (как прежде учеба у ограниченной группы мастеров манежа) позволит создать «нового, сильного актера с большим пафосом, подъемом духа, который бы заражал и преобрежал зрительный зал»[117]. Стоя на такой позиции, Мейерхольд предложил все цирки превратить в дома физической культуры, использовать как площадки для показательной работы Всевобуча.
Пантомимы к тому времени вообще исчезли из репертуара обоих цирков. Впрочем, после того, как Мейерхольд на собеседовании по вопросам ТЕО с делегатами заведующих подотделов искусств конкретно указал: «Цирк должен воскресить пантомиму и давать революционный верный основам своим сценарий»[118], в подготовленную Секцией цирка «Примерную программу для действующих цирков республики» вписали специальный раздел. В нем этот жанр получил развернутую характеристику: «Традиционная цирковая пантомима, выражающаяся в объединении цирковых номеров единым действием, пантомима агитационного характера, карнавалы и турниры»[119]. Но на практике ни к одной из этих перечисленных работ не приступали. Даже не планировали этого. Правда, на манеже 1-го госцирка отыграли «Мистерию-буфф» для делегатов III конгресса Коминтерна. Хотя два месяца назад Мейерхольд выпустил вторую редакцию этой пьесы В. Маяковского в Театре РСФСР Первом и даже позвал в свою постановку В. Лазаренко[120], создание спектакля на манеже поручили А.М. Грановскому, и он пригласил для участия в нем 350 артистов разных московских трупп (в том числе и балетных), владеющих немецким языком[121]. «Импозантная феерия»[122],– припечатал эту работу один из почитателей Мейерхольда.
Стремясь уберечь цирк от чрезмерной энергии «варягов», пытающихся рьяно перестроить цирк и изнутри, и снаружи, А.В. Луначарский затребовал в Москву известного артиста и дрессировщика Вильямса Труцци. Единственный из своей многочисленной семьи, отказавшийся покинуть родину (он родился в Полтаве) во время панического бегства из Крыма, артист сумел возродить потерянную в годы Гражданской войны конюшню дрессированных лошадей и собрать в Севастополе труппу для вновь созданного «Народного цирка». Вильямсу Жижеттовичу был предложен не только контракт в государственные цирки, но и пост их художественного руководителя.
Бесконечные совещания и согласования проблем с Наркомпросом, Главполитпросветом и вновь организованной Коллегией по театрализации допризывной физической культуры, проходившие с марта по сентябрь 1921 года, как и решение о передаче зданий цирка, остановила только перемена экономической политики страны.
Вызванная нэпом реорганизация аппарата Наркомпроса привела к отчуждению от ТЕО Главполитпросвета Подотдела цирка как самостоятельного Центрального управления государственными цирками. Его руководящее ядро осталось тем же. Председателем правления была утверждена Н.С. Рукавишникова, ее заместителем – А.М. Данкман, членами – В.Ж. Труцци и Ф.Р. Дарле[123]. Выборные от цирковых артистов были фактически отстранены от всех творческих, а тем более организационно-финансовых вопросов. Всеми делами цирка распоряжалась «трехглавая гидра» – так цирковые артисты окрестили триумвират, взявший национализированный цирк в свои руки. В бумагах Л. Танти сохранилась карикатура В.Л. Дурова, изобразившего именно так Рукавишникову, Данкмана и Дарлея. Подобного мнения придерживались и друзья артистов. Один из них, В.Г. Шершеневич, поэт, охотно помогающий с репертуаром друзьям-клоунам, опубликовал даже статью, озаглавленную «Необходимо вмешательство». Он жестко осудил мероприятия управления, которые привели к тому, что «цирк все падал и падал… Но тут удачно подвернулся нэп… Цирк стали вдруг рассматривать не как художественное предприятие, а исключительно как прибыльное. Гони монету – вот надпись на фронтоне госцирков»[124].
Артисты цирка, как могли, отстаивали его права на существование, вторгаясь во все возможные кабинеты и совещания. Сражаясь за свою востребованность, они быстро поняли, что доказать ее смогут, только если на деле, то есть на манеже, продемонстрируют, что цирк способен не только поражать и веселить, но и стать пропагандистом и агитатором. Помочь воспитать зрителя-гражданина. Разумеется, первыми эту непростую миссию взяли на себя клоуны. К этому времени они окончательно убедились, что следует, оставив заботу об обновлении циркового представления, сосредоточиться исключительно на собственных номерах.
Вызов Труцци в столицу и назначение его художественным руководителем оказались кстати, так как только приезд артистов его севастопольской труппы позволил открыть третий сезон госцирков. Большинство артистов, работавших в сезон 1920/21 года, выехали на летние гастроли как Первый передвижной цирк. Отправились в поездку и премьеры Москвы, братья Танти, Лазаренко и Альперовы, организовав Агитационный цирк. Гастроли, задуманные как летние, затянулись до середины ноября. Поэтому премьера открытия мало кого порадовала. Хотя многие печатные органы и сообщили, что «в предстоящем сезоне намечены постановки новых пантомим» и что во 2-м госцирке даже «произведен ремонт бассейна для постановки больших водяных пантомим»[125], зал был больше чем на половину пуст. Пришлось срочно публиковать новый анонс: «Каждую субботу в Московских госцирках вводятся “субботники” – перемены программы с участием новых артистов провинциальных цирков, причем дирекция полагает, что с января месяца начнется приток новых цирковых артистов, приглашаемых из-за границы»[126].
Пантомим, разумеется, не поставили. Иностранцы начали прибывать только с сентября следующего года. Сезон спасли клоуны.
Комическое начало и в трудные послереволюционные годы было представлено в программах московских цирков на редкость разнообразно. Высокие профессионалы не только умело разыгрывали традиционные клоунские маски, репризы и антре, но и выходили ассистировать в номерах. И добивались успеха, не тратя при этом лишних слов. В лучшем случае произнося одно-два, необходимых по ходу дела. Скрытые возможности цирка продемонстрировала не эта интернациональная группа. В новом качестве заявили себя буффонадные клоуны Альперовы, музыкальные эксцентрики братья Танти и Виталий Лазаренко. При всем профессионализме артистов им понадобилось заново осознать свои права и обязанности. Свое канонизированное мастерство пришлось переосмыслить.
Потребность в сатире поставила артистов перед необходимостью овладеть еще одним средством клоунской выразительности – словом. «Живым словом», как было принято уточнять в те годы.
«Нужно ли живое слово в цирке? – Необходимо! – энергично включился в обсуждение проблемы даже В. Труцци. – Было ли оно когда-нибудь? – Никогда!»[127].
Но тот же Труцци напоминал, что именно русский цирк позволил себе обратиться к злободневной сатире. Положили начало такому преображению жанра Анатолий Дуров, а затем и его старший брат Владимир, которые именно на злободневном комментарии строили демонстрацию трюков выводимых на манеж животных. Эту тенденцию подхватили и развили музыкальные эксцентрики Бим-Бом (в тот период, когда И.С. Радунский соединился с М.А. Станевским). Они первыми начали строить свой вокал на исполнении не нелепой абракадабры, а сатирических куплетов. Позже, уже в первое десятилетие XX века, злободневные репризы и даже монологи стали включать в свои выступления буффонадные клоуны Альперовы.
Работа «разговорчивого» клоуна зависит от злободневности его острот. Высмеивание всякого рода правителей гарантировало популярность выступлений. Строя именно на этом принципе свои разговорные репризы, Альперовы тем более не собирались менять его после провозглашения советской власти. Но тут довольно скоро выяснилось, что угнетающая трудящихся власть и власть, этим народом учрежденная, не одно и то же. Попробовав как-то высмеять с манежа мздоимцев-милиционеров, разоблаченных, кстати, в рабочей печати, клоуны угодили под арест[128]. Одернули даже А.М. Горького, написавшего для радловской «Народной Комедии» сценарий политсатиры «Работяга Словотёков» о болтуне хозяйственнике. «Из-за деревьев леса не видящие»[129],– заклеймил рецензент автора и режиссера, пьесу сняли с репертуара.
Клоуны призваны высмеивать недостатки, это общеизвестно. Но выяснилось, что не о каждом недостатке следует говорить с манежа. Тем более в период новой экономической политики, когда воскресла, окрепла, начала предъявлять свои требования та публика, о которой успели забыть за четыре послереволюционных года. На эту проблему откликнулась даже «Правда».
«Не о Биме и не о Боме нужно писать, ибо ни Бим, ни Бом – не артисты, а о той публике, которая приняла их за артистов, добровольно наполнила зал Лассаля, платя по три миллиона за место в первых рядах, и устроила Биму и Бому такую овацию, которую за последние четыре года не пережил ни один из артистов в Петрограде[130].
Бим и Бом разрешили задачу, как угодить готтентотской публике. Ответ прост: клоун должен быть “в оппозиции”. Но как это сделать? “Оппозиционный” клоун должен быть и “лояльным”. Поэтому он атакует и пресмыкается, разоблачает и раболепствует. Ставка на массовый гипноз “передовых” – вот коммерческий расчет Бим и Бома».
Газетная статья донесла до нас репризы, вызвавшие такую гневную отповедь.
«Бом показывает Биму коллективное снабжение: нарисованную фигу; эмблему сокращения штатов: веник. “Что снится комиссару?” – “Портфель”. Бим спрашивает: “Что самое тяжелое?” – Бом отвечает: “Рубль, ибо он так упал, что его никто поднять не может”… Публика восторженно гогочет»[131].
Проблема, столь резко обозначенная П.И. Сторицыным, чрезвычайно остро стояла перед клоунами, стремящимися поднимать перед своими зрителями злободневные темы.
Ее должен был решить для себя каждый сатирик.
Через несколько лет свои размышления об этом опубликовал главный режиссер и один из авторов Московского театра сатиры Д.Г. Гутман. «Конечно, не по пути издевательства над мероприятиями государственного строя надо идти репертуару клоуна, даже если бы цензурные условия и позволяли бы это делать, – то ли рекомендовал, то ли предостерегал он, – а по пути способствования изживанию всего того, что тормозит установление новой формы жизни (выделено автором. – М.Н.)».
Исходя из подобной точки зрения, Давид Григорьевич определял круг тем, которым старался следовать и сам: «Все мещанское, мелкое, шкурническое, тупое к восприятию свободного от пут идеализма миропонимания – вот о чем должен говорить клоун, вот на какие темы должна изливаться его сатира»[132].
К подобным же выводам – каждый своим путем и в своем жанре – пришли «разговорчивые» клоуны национализированного цирка.
Альперовы, например, отличались ото всех прочих буффонадных клоунов и репертуаром, и внешним видом. Костюм Дмитрия мало чем отличался от наряда традиционного «рыжего». Это была обыденная, только по цвету поярче и на размер побольше, пиджачная пара. Но вместо рубашки надета была как дань эпохе тельняшка. Мягкая шляпа, нахлобученная на лохматую голову, гигантский рост, оглушительный голос и щегольская тросточка дополняли непривычный образ «рыжего»[133]. На его фоне терялась сухопарая фигура Сергея Сергеевича, выходящего вместо обязательного для «белого» шелкового комбине со слоеным жабо в просторной блузе, коротеньких брючках и с огромными (бутафорскими) обнаженными ступнями. Ввиду того, что у Дмитрия не хватало актерского опыта и юмора, отцу пришлось взять на себя обязанности не только резонера, но и простака. Уже это перевернуло традиционные взаимоотношения партнеров буффонадной клоунады. Но основное своеобразие их паре придавала злободневная сатира.
«У нас был свой жанр, и конкуренция других клоунов нам не была опасной, – вспоминал Дмитрий Альперов годы работы с отцом. – Работа шла так: мы выходили с двумя-тремя репризами, потом отец читал монолог, его сменял я, заканчивали мы мелким комическим трюком»[134]. Альперовы сумели стать по-настоящему современными клоунами, неутомимыми в своей жажде обновлять репертуар, и создали, по словам Е.М. Кузнецова, «ряд злободневных антре с ходкими “крылатыми словечками” на темы интервенции и блокады, разгрома белогвардейщины, бытовых неполадок»[135]. И еще одно отличало их работу. В созданных по записным книжкам отца воспоминаниях «На арене старого цирка» Д. Альперов приводит совет популярного дореволюционного клоуна. «Акробатический финал легче запоминается публикой. Смех, – настаивал Макс Высокинский, – иногда может вызвать жалость, а ловкость всегда приводит в восторг. Лучше, когда публика, уходя из цирка, говорит: “Какой клоун ловкий…”, чем когда она замечает: “Какой клоун смешной…”»[136]. Этому совету буффонадные клоуны Альперовы остались верны во всех своих цирковых работах. Только трюком у них становился такой, уместный в работе буффонов, смысловой перевертыш, неожиданное преображение привычного. Другими словами, ставка делалась на яркую, зрелищную, разящую смысловую метафору, то есть на клоунский трюк. Даже программки начали представлять Альперовых, как «смехотворов-новаторов». Из сатирических ситуаций делались патетические выводы. Ведь это было время сражений, если уже не боевых, то не менее жестоких, идеологических. «Когда рядом со всех сторон этот же враг еще торжествует и ждет момента, чтобы нанести новый удар, – убежденно утверждал А. Луначарский, – в такое время мы, не выпуская меча из одной руки, в другую можем взять уже тонкое оружие – смех»[137].
Не менее решительно перевернули обычные приемы показа номера музыкальных эксцентриков братья Танти, заслужившие лестное прозвище «хохотуны народного сегодня». От разрозненного исполнения чисто инструментальных фрагментов, игровых реприз и куплетов, день ото дня становящихся все более публицистическими и злободневными, братья перешли к показу большого музыкального скетча. Они сократили количество музыкальных инструментов. Вместо традиционных клоунских дров, сковород, двуручной пилы, они оставили старинную в два грифа гитару (у Константина), укороченный корнет-а-пистон и маленький барабан (у Леона). Теперь артисты не пародировали исполнение популярных произведений, а аккомпанировали тем романсам, песням и куплетам, которые пели, выстраивая своеобразный вокальный диалог. Текст они находили в сатирических журналах и приспосабливали к нуждам манежа. Позже стали заказывать у авторов, пишущих для эстрадных исполнителей. Так Танти познакомились с разносторонне одаренным поэтом и драматургом Н.А. Адуевым. Отказавшись от нарочитого «иностранного» акцента, они на чистом и четком русском языке пели о политике, о непорядках и о победах нового строя. Обличать оборотней, пытающихся примазаться к революции, нажиться на ее трудностях, тех, кого братья Танти называли «редисками» (то есть красными снаружи и белыми изнутри), они начали еще до национализации цирка. И уже к концу первого сезона по новому курсу Танти восславили с манежа труд.
Споем мы вам песнюО пользе труда,О том, что лениться не гоже.Пусть стих наш хромает,Ну что ж, не беда,Ведь транспорт хромает наш тоже![138]Этот текст, написанный Николаем Адуевым, исполнялся на мотив созданной Н.А. Римским-Корсаковым кантаты по пушкинской «Песне о вещем Олеге». Танти всегда стремились, чтобы с манежа звучала настоящая музыка. Свои вокальные номера они не просто пели, но разыгрывали. Обычное для музыкальных эксцентриков механическое соединение игры на инструментах, пения и диалогов (юмористических или сатирических) артисты соединили в осмысленный цирковой скетч.
Наибольшую популярность принесла Танти в этот период музыкальная эксцентриада «Генуэзская конференция». Они рассказывали историю этого совещания на языке своего жанра. Возле форганга устанавливался длинный стол, за которым располагались все участники конференции (гротесково загримированные униформисты), узнаваемые по публиковавшимся в газетах шаржам. Председательствующий – это был К. Танти в гриме французского дипломата Ж. Барту – предоставлял слово выступающим. А их всех изображал Л. Танти. Меняя костюмы и трансформирующие лицо накладные детали (усы, эспаньолка, монокль и т. д.), он появлялся в самых неожиданных местах (в оркестре, на галерке, в ложах, располагавшихся тогда за первыми тремя рядами партера, на барьере).
Ссылаясь на то, что с Россией необходимо найти общий язык, председательствующий предлагал всем выступать на «русские мотивы».
Французский империалист в треуголке Наполеона под мелодию «Шумел, горел пожар московский» проговаривался:
Я на все для вас готова.Если нужно, буду драться,Если нужно, целоваться.А Дядя Сэм с пальмовой ветвью в руке проповедовал под «Камаринскую»:
Пусть Союз Советский ваш, Р.С.Ф.С.Р., С нас, Америки, берет теперь пример. Пушки, ружья есть у нас не для войны, Танки, мины – для коллекции нужны!Он лихо отплясывал, размахивая «ветвью мира», листья летели во все стороны, и зрители видели большой кухонный нож, зажатый в руке «носителя мирных, дружеских начал».
Несоответствие исполняемого текста и популярных мелодий создавало дополнительный комический эффект. В завершение скетча Леон, появившись в кожанке и с «чичеринскими» усами и бородкой, исполнял «речь» главы советской делегации и наркома по иностранным делам не под солирующий инструмент, как предыдущие, а под звучание всего оркестра, играющего любимый марш революционной России «Смело, товарищи, в ногу!»[139].
«…В 1-м государственном цирке намечается желание подойти вплотную к современной жизни. Первый шаг в этом направлении, несомненно, принадлежит талантливым братьям Танти, – почти тут же отреагировала “Правда”. – Этот номер показал, что арена может служить не только утробному смеху, глупым пощечинам и архаической коннице, но арена может стать политическим воспитанием народных масс. Только в этом направлении цирк завоюет симпатии зрителя-гражданина»[140].
Это был давно ожидаемый и – по цирковым меркам – мгновенный отклик на важнейшее для государства событие[141]. Текст «Конференции», а позже и других сатирических номеров был написан Адуевым. Николай Альфредович стал для Танти как бы третьим, незримым братом. На темы, придумываемые Леоном, на мелодии, подобранные Константином, они не просто создавали злободневные сценки, а, по сути дела, искали новую форму для музыкальной эксцентрики цирка. Они формировали репертуар, в котором узнаваемый публицистический факт обретал зрелищную достоверность, а музыка и вокал помогали его восприятию. Искали необходимый уровень темперамента воздействия на зал единомышленников. Как практики, они понимали, что для успеха номера необходимо учитывать точно найденный момент его показа, возможности артиста и предрасположенность зрителя. «Простая блуза рабочего, красноармейская шинель, цилиндр Муссолини, меткая фраза, юмор пародии – смотришь, цирк и зритель живут, сливаются в монолитное целое, – пытался сформулировать принципы этой работы Леон Танти. – И еще одно – в цирке нужен глашатай, этот примитив связи арены и зрителя»[142].
Эту потребность говорить на одном языке со зрителем, вести его ощущал и Виталий Лазаренко.
В начале своей карьеры он добился известности как выдающийся прыгун (через солдат с примкнутыми штыками, экипажи, даже через слонов). Однако артист довольно скоро, по примеру клоуна Павла Брыкина, соединил прыжки с текстом. Подписывая договор с Секцией цирка в сентябре 1919 года, Виталий Ефимович уже принимал службу «в качестве соло-клоуна для антре, для сцен и реприз»[143].
На приеме соединения трюка и слова Лазаренко начал строить весь свой репертуар.
Определение жанра его выступлений «комик-прыгун» обрело емкий смысл. Слово у Виталия Ефимовича комментировало трюк, трюк придавал убедительность слову. Так начинали строиться мелкие репризы, обязательно заканчивающиеся прыжками. Обоснование своим сальто-мортале он старался найти в текущих событиях жизни страны. Опубликуют, скажем, газеты постановление ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» (март 1921 г.) – и с манежа звучит:
Была война, но в рубище убогомРусь не сдалась блистательным царям…Стал тише гром… И заменить налогомРазверстку прежнюю теперь возможно нам!Шипит кулак с компаньей дряни прочей…Ага, сдались… Товар… Обмен… Налог…На помощь, наш крестьянин и рабочий,Смотри, какой мы сделаем прыжок!Так же стремительно откликался Лазаренко на внешнеполитические события. Когда Япония, спровоцированная попустительством западноевропейских правительств, организовала вторжение в Приморье остатков семеновцев и колчаковцев (ноябрь 1921 г.), зритель услышал:







