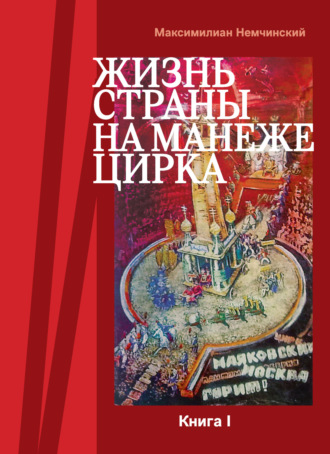
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955
И те (премьеры петроградской труппы) охотно откликнулись на приглашение. Радлов получил возможность использовать в своих импровизационных спектаклях трюки почти всех цирковых жанров. К нему пришли прыгун-эксцентрик Жорж Дельвари, полетчик и наездник Серж (А.С. Александров), музыкальная клоунесса Лиди, музыкальный эксцентрик Боб (Б.Д. Козюков), акробат и эквилибрист Николай Таурек, жонглеры Михаил Пащенко и Такашима, факельщики-балансеры Вильямс и Алекс. Таким составом они могли бы дать полноценную цирковую программу. Согласившись участвовать в сценической постановке, они помогли режиссеру взорвать все существующие каноны создания театрального спектакля. Но думали при этом прежде всего о цирке. Что и подтвердили, направив письмо в театральную газету: «Смеем надеяться, что новое строительство в нашем старом искусстве выше поставит наше искусство, чем оно было до сих пор, и артисты цирка будут уравнены с искусством оперы, драмы и балета»[60]. Действительно, вновь организованный театр не только привлек в свою труппу артистов цирка, но и в репертуаре ориентировался на сценарии commedia dell’arte, или, попросту говоря, на цирковые комедии.
Выбор Радлова пал на цирковую пантомиму, потому, что именно они позволяли выстраивать сюжет, соединяя мимические эпизоды, уместную трюковую комбинацию, самое разнообразное пение и пляски, репризный диалог. Все шло в ход для создания целенаправленного энергичного действия, сметающего любые преграды, возникающие на пути героев. При этом вне зависимости от сюжета, места действия, эпохи использовались любые современные ассоциации, которые проверенно гарантировали поддержку зрительного зала. Разумеется, это был не поиск пресловутого «цирко-театра». Тяга была обоюдной, но искали разное. Каждый стремился овладеть теми навыками, которых был лишен. Мастера манежа тяготели к обогащению образной содержательности своих выступлений, Радлов искал новые возможности для создания сценических композиций. Обратившись к традициям commedia dell’arte, он выявлял в их намеренно отвлеченных ситуациях острую связь с современностью. И добивался благодаря этому теснейшего контакта с аудиторией. Привлечение к постановкам «трюкачей» помогало и действенно, и сатирически обострять любой сюжет и каждую ситуацию. И всячески способствовало этому вкрапление в намеренно отвлеченно-театральные спектакли любых, самых откровенных намеков на современность. «Юмор был простодушен. Актеры общались с залом бесцеремонно, на панибратских началах, – отмечал Д.И. Золотницкий, анализируя в середине 70-х секреты построения радловских цирковых комедий. – Злободневные шутки в уличном вкусе вкрапливались в игру»[61]. Но мнимая бесхитростность преследовала далеко идущую цель. Отрабатывался на просто стиль игры. Качественно менялись характер спектакля, актив восприятия зрителей, энергетика реакций персонажей, узнаваемость бытовых и социальных ситуаций. «Первое, бросающееся в комедии в глаза – это созвучие моменту, – отмечали рецензенты, – или, если хотите, политическая сатира (выделено автором. – М.Н.)»[62].
Сценариев «цирковых комедий» Радлова не сохранилось. Спектакли эти не просто анонсировались, но и создавались, как импровизационные. Но свидетельства рецензентов позволяют, хоть фрагментарно, восстановить приемы этой политизации.
Использовали, например, словесную репризу. Вот как заканчивалась сцена сватовства в «Невесте мертвеца»:
«– Прекрасно, но ваш заработок в день и есть основной капитал, – прерывает банкир речи о любви к своей дочери»[63].
В другом случае, как в «Обезьяне-доносчице», по воспоминаниям Сержа, особое место занимала шутка.
«Так, мой первый хозяин, продавая меня (артист был в шкуре и маске. – М.Н.) и желая продемонстрировать мою обезьянью сообразительность, спрашивал:
– А что делать, чтоб не заболеть сыпняком?
В ответ я бросался к нему, срывал с него шапку, находил вошь и изо всех сил топтал ее ногами. Эта шутка может показаться сейчас грубой, но не надо забывать, что в 1920 году борьба с вошью была делом государственной важности.
Или мой поводырь спрашивал:
– А покажи, как белые наступали на Питер?
Я важно маршировал, раскорякой, по-медвежьи переставляя ноги.
– А отступали как?
Тут я комично удирал, держась за побитый зад»[64].
Так показывали когда-то умения своих мишек скоморохи (только задания были другими). Так же организовывал свои злободневные «аллегорические шествия» В.Л. Дуров. Хотя теперь он не выступал на манеже, лишившись за годы Гражданской войны почти всех своих «антропоморфных животных», занимался научными изысканиями в своем «Уголке», на первомайские шествия он вывез повозки с клетками животных. В одной, с романовскими гербами и надписью «Капитализм», металась гиена. В другой везли филина, сидящего на бутафорском «камне», по которому лазали белые крысы. Повозку украшала надпись «Грызем гранит науки»[65].
Следом за сатирическими репризами в репертуаре «Народной Комедии» появились даже злободневные пантомимы. На подмостках строили козни, широко известные по газетным шаржам, русский капиталист, Франция, Англия и польский пан («Советский сундучок» по сценарию Льва Лысенко). 1 мая трамвайная платформа Сергея Радлова развозила по всему городу агитку «Происки капиталистов» (они же «Версальские благодетели»).
«С гордостью сознаю, что почти ни одному интеллигенту не известны мои пьесы, – писал С. Радлов уже после закрытия театра, – которые знают папиросники Петроградской стороны»[66]. Д.И. Золотницкий расшифровывает состав демократической публики «Народной Комедии»: «Рабочие с их семействами, красноармейцы и матросы, дворники и прислуга из прилегающих кварталов Петроградской стороны, продавцы соседнего Сытного рынка и просто беспризорники-подростки – “папиросники”. Они непосредственно принимали все увиденное, замирали, ахали, хохотали, бурно хлопали в ладоши, согревались эмоциями в студеном зале и деловито лузгали семечки, сплевывая на асфальт пола»[67]. Это была цирковая публика. И реагировала она так, как принято в цирке. Но на цирковых манежах подобные спектакли не появлялись.
Артисты, продолжающие работать в цирке, к этому еще не были готовы. Они отстаивали чистоту жанра, охраняли сюжеты пантомим «в итальянском стиле» и приемы их исполнения. Такие пантомимы время от времени показывали в петроградском цирке Чинизелли. Такими пантомимами занялись и в цирках Москвы.
Комический балет-пантомима стал первым из них. Обычно эта пантомима шла под названием «Медведь», иногда «Медведь и караул». Но решено было, что в заснеженной и недоедающей Москве выигрышнее озаглавить ее «Под стеной французской крепости». Название выбрали вдвойне лукаво, так как либретто предполагало, что крепость эта находилась в оккупированных Афинах (хотя действие происходило в Африке), а среди персонажей были и негры, и, как явствует из первого названия пантомимы, медведь.
Нехитрый, но потешный сюжет ее сводился к тому, что оставленный на карауле новобранец ухитрялся, не покидая поста, завести интрижку с поселянкой-туземкой, усмирить напавшего на пост медведя и захватить в плен отряд неприятелей. Рабочий реквизит – караульная будка – и малочисленная игровая бутафория (изготовленные, кстати, клоуном и дрессировщиком Станиславом Шафриком) позволяли создавать потешные эффектные ситуации шведской наезднице Шарлотте Кристианзен (жене Шафрика), внушительному и медлительному датскому буффону Эдуардо, его партнеру Сесилю Пишелю, шустрому французу, и, конечно же, музыкальным клоунам братьям Танти, итальянцам по национальности, но русским по рождению и репертуару (Леон получил роль новобранца). Эта популярная цирковая шутка была и для объявленного инсценировщиком Николая Вильтзака[68], и для всех остальных, чье «коллективное участие» в постановке программка[69] отмечала, привычной, но увлекательной импровизацией. Тем более, что, афишируемая «балетом», она подтверждала умение артистов заменять трюками слова, подчиняя свои поступки и взаимодействия звучанию оркестра.
Столь же привычной для артистов и занимательной для зрителей стали и «Фантазии капитана Купера»[70], «оригинальная пантомима, сочиненная и поставленная, – как о том объявляла афиша, – Леоном Танти».
Несмотря на интригующее название, это была не пантомима, а своеобразно оформленное второе отделение представления. Над форгангом устанавливался развернутый носом к зрителям пароход (оркестр пересаживался по его бокам) со штурвалом и дымящейся трубой. На манеж спускались два трапа. Обслуживающие действие шпрехшталмейстер и униформа были переодеты в форму капитана и матросов. «Рыжий» получил наряд кока.
Зрелище распадалось как бы на две части. В первой на пароход поднимались разнообразные пассажиры, а во второй они или развлекались на палубе, или высаживались при остановках на берег. Там, на манеже, их встречали туземцы в национальных одеждах стран, мимо которых якобы проплывал пароход. И в том, и в другом случае исполнялись различные цирковые номера. Не забыто было и своеобразное прославление свободолюбия (в цирке всегда считали, что это необходимо) – на пароходе спасалась от преследования табора молодая цыганка, которая не хотела выйти замуж за нелюбимого.
Национализация цирков личного реквизита и аппаратуры артистов не затронула. Номеров тем более. Но все-таки, получив рычаги экономического воздействия, Секция цирка, как в прошлом бывшие владельцы, не удержалась от вмешательства в творческий процесс. В театрах этому способствует подбор репертуара. Но цирковые номера, их трюковой костяк, изначально воспринимались стоящими вне какой бы то ни было идеологии и политики. Оставалась одна лишь возможность «эстетизации» – заняться внешним видом артистов и их поведением между трюками. Воздействие это принимало порой самые анекдотические формы. В.Е. Лазаренко упоминает, например, в своих «Воспоминаниях», как заведующая секцией, вызвав в манеж борцов одного из застрявших в Москве Всемирных чемпионатов и выстроив их в шеренгу, лично наставляла, как прилично отвешивать поклоны, представляясь зрителям[71]. Но, конечно же, руководителям хотелось более существенного личного вклада в творческий процесс. Должность предоставляла неограниченные возможности, и Рукавишникова совместно со своей подругой Э.И. Шуб, присланной из ТЕО для укрепления секции, написала даже либретто цирковой пантомимы, которую назначила к немедленной постановке.
Ю.П. Анненков, первым пригласивший цирковых артистов в драматический спектакль, рецензируя постановки «Народной Комедии», ехидно пересказал содержание всех ее спектаклей: «Молодые люди любят друг друга, но престарелый отец противится их браку, желая выдать свою дочь за более выгодного жениха; после долгих перипетий влюбленным все же удается преодолеть упорство старика, и любящие сердца соединяются брачными узами»[72]. В эту схему легко укладывался и сюжет «Любви с превращениями».
Если уже прошедшие пантомимы вынужденно обходились оставшимися на складах костюмами и фрагментами декораций, то для новой постановки все создавалось с размахом и заново. Всем, имеющимся в распоряжении секции художникам (за исключением В.Г. Бахтеева) была поручена декорация, бутафория и костюмы. Специально пригласили «левых» режиссеров В.И. Широкова и О.А. Иваницкую. Но те не сумели столковаться с ведущими мастерами, которым предстояло сыграть главных персонажей. Контракты не позволяли артистам отказываться от работы в пантомимах, тем более, что за участие в тех, которые занимали целое отделение, полагалась отдельная оплата. Но и выполнять нелепые для цирка задания не представлялось возможным. Чтобы спектакль состоялся и вышел в срок, за его осуществление уговорили взяться Л. Танти. Он, изначально назначенный на роль жениха, не мог не согласиться, понимая, что нужно выкручиваться.
На постановке «Любви с превращениями» следует особо остановиться. Не из-за ее режиссера или авторов (Рукавишникова скрылась вместе с Шуб за псевдонимом «Р.Ш.», но это был «секрет Полишинеля»). Юный П.А. Марков не устоял перед напором Рукавишниковой и, мало того, что пришел смотреть пантомиму, но и опубликовал рецензию. Благодаря этому появился самый обстоятельный разбор цирковой пантомимы начала 20-х. К счастью, сохранился и сценарий. Сопоставление этих документов позволяет с достаточной точностью восстановить и приемы организации циркового сюжета, и планировку зрелища, и характер актерской игры. А, главное, помогают понять, что современный зритель ждал от цирковой пантомимы.
Ориентируясь на свидетельство, что единственной декорацией пантомимы служила «сквозная беседка, увитая розами»[73], можно с уверенностью утверждать, что парные сцены располагались на скамейках, стоящих внутри этой беседки, но упор в планировке мизансцен делался на самое выигрышное в цирке перемещение по кругу вдоль барьера. К этому обязывали и все прописанные в сценарии эпизоды с участием вольтижировки на лошади и осле.
Обычный для пантомимы «в итальянском стиле» сюжет – девушка противится браку с выбранным родителями женихом и соединяется с любимым – излагался в соединении двух стилистик: бытовой и фантастико-символической. Первый и третий эпизоды разыгрывались во дворе, украшенном беседкой, перед домом (который предполагался за занавесом форганга). Здесь протекали обыденные события, которые решались с обычной для цирка, значит, предельно насыщенной, энергетикой. Юный наездник гарцевал перед девушкой, стараясь обратить на себя внимание. Она танцевала в ответ. Увлекшись, они танцевали и гарцевали друг для друга, пока родители не растаскивали их. И это делалось опять же по-цирковому, но на этот раз в приемах уже не романтических, а комических. Отец прогонял нежданного поклонника, ухватив его лошадь за хвост, а мать придерживала девушку, набросив платок на ее талию. Когда появлялся с подношениями нелепый жених, у него из подарочной, отвергнутой невестой корзинки вылетали куры и вываливался визжащий поросенок. Первая встреча героев дословно повторялась, но уже как комедийная рифма к ней: перед тем как отправиться спать, мать, объясняя жениху происшедшее, танцевала за дочь, а отец, так же, как наездник, скакал по кругу, но уже на осле. Второй эпизод происходил на затемненном манеже. Это уже была аллегорическая сцена. Дочь, появившись с закрытыми глазами, во сне, просила о помощи астролога. Тот, управляя небосводом (перебрасывая обручи-звезды и мяч-луну), магическими жестами вызывал двух призрачных конных рыцарей с лицами жениха и приглянувшегося девушке незнакомца. В результате сражения между ними жених был повержен. А дочь получала магические предметы, которые должны были помочь ей усмирить родителей и завоевать любовь приглянувшегося ей юноши. В третьем эпизоде действие вновь переносилось во двор, украшенный беседкой. День начинался с галопа разыскивающего любимую наездника и бега за ним возмущенных этим родителей. Дочь, пытаясь всех примирить, вручала, путая их, полученные с помощью астролога подарки. Магическая сила заставляла наездника и мать полюбить друг друга, а отца закрыть на это глаза. Дочь, в отчаянье от ревности, не могла обратить на себя внимание. После потешных кви-про-кво, появившийся гадатель исправлял, перетасовав игральные карты, ситуацию. Мать, нацепив подаренный чепец, ничего вокруг не замечала, отец интересовался только бутылкой шампанского, а возлюбленный, надев на палец полученное от девушки кольцо, заключал ее в объятья. Любовную идиллию прерывало появление жениха, но его гнали прочь загипнотизированные родители. Заканчивалась пантомима, как и положено, апофеозом. Радостно танцевала дочь, гарцевал вокруг нее наездник, пришедшие в себя родители пытались помешать их союзу, но дочь прыгала в седло к любимому, и они, совершив круг по манежу, уносились прочь. А все еще не смирившиеся с происшедшим родители устремлялись следом, ухватив лошадь за хвост. За ними бежали игрушки-девушки.
Как раз в эти месяцы Камерный театр возобновил показ своей пантомимы «Ящик с игрушками» на музыку Клода Дебюсси. Из этого спектакля, судя по всему, и были позаимствованы оживающие игрушки, сопровождающие, как своеобразный кордебалет, дочь во всех ее сценах. По манежу каталась даже собственно цирковая игрушка – мяч (во 2-м эпизоде из него в сцене волшебства выходил ребенок). Именно игрушки приводили свою спящую хозяйку за помощью к астрологу. Движения этих персонажей были построены на кукольно-марионеточном движении, подчеркивающим их фактуру (мягкая, деревянная) или цирковую суть. Прием был заимствован у театральной постановки. Совершенно иначе решалась пластическая жизнь главных персонажей «Любви с превращениями».
Ведущие сценическую интригу «куклы-характеры» – так их именовали рецензенты – отличались одна от другой индивидуальной пластикой. Персонажи манежной пантомимы являлись исполнителями конкретных цирковых жанров. Герой – наездник, героиня (она танцует и на ходу вскакивает в седло) – конная вольтижерка, нелюбимый жених – комик, астролог, подбрасывающий звезды и луну, – жонглер, гадатель на картах – манипулятор, отец – клоун, и мать, скорее всего, – тоже переодетый клоун. Даже конфликт между соперниками разрешается по-цирковому – конным турниром. Списка исполнителей обнаружить не удалось. Из рецензии Маркова известно только, что роль отвергнутого жениха сыграл Л. Танти. Однако, воспользовавшись программкой представления, вторым отделением которого шла пантомима, нетрудно обнаружить и остальных участников. Героем был один из жокеев (Багри Кук или Васильямс); отцом (тот по сюжету вольтижировал на осле) – Тони, комик с ослом; гадателя сыграл китайский фокусник Микоши; а астролога – один из жонглеров (Виктор Жанто или Донцов). Дочерью, скорее всего, была Шарлотта Кристианзен, та, что играла уже с Танти во «Французской крепости». Впрочем, у нее, судя по программке, были достойные соперницы, равно владеющие искусством танца и верховой ездой, – Аннета Первиль-Кук, Мария Малышева, Зинаида Дубинина[74].
В Камерном главных персонажей играли ее премьеры, А.Г. Коонен и Н.М. Церетелли, поэтому Марков невольно сравнивал увиденное на манеже со своими театральными впечатлениями. «Пантомима в общем очень недурно поставлена, – писал критик, – в прекрасных костюмах – и, хотя актеры цирка играют ее не блестяще, они, по крайней мере, не возмущают, а Лео Танти в роли отвергнутого жениха и совсем хорош»[75].
Постараемся разобраться, что же не удовлетворило такого наблюдательного зрителя, как Марков, в цирковом исполнении. Он формулирует это убедительно конкретно: «неритмичность отдельных исполнителей» и «неудачное исполнение роли астролога». Несомненно, что Павел Александрович, как театральный завсегдатай, ожидал, что пластику артиста и на манеже поведет за собой музыка.
Как каждая цирковая пантомима, «Любовь с превращениями» разворачивалась под сопровождение оркестра. Специальная партитура не заказывалась. Просто дирижер оркестра 2-го госцирка, опытный А.Ф. Трынка, скомпоновал, по согласованию с режиссерами, фрагменты совершенно разных, но подходящих к сюжету по ритму и интонации музыкальных произведений. Это отвечало традиции. Даже Дебюсси в своей оригинальной музыке к «Ящику с игрушками» широко использовал комические цитаты из широко известных опер и балетов. Музыкальные характеристики композитора спектакль Камерного в точности сохранил, поражая «той эмоционально-музыкально-пластической целостностью, которая, – по словам А.А. Румнева, одного из участников спектакля, – может быть, впервые на русской сцене была достигнута Таировым»[76]. Но на манеже ритм, а в чем-то и эмоции артиста диктуют прежде всего физический характер исполняемых цирковых трюков и только после этого постановочные задачи[77]. Именно трюк (и темпо-ритм, диктуемый техникой исполнения трюка) становится основной характеристикой пластического решения образа на манеже. Поэтому стремление избавиться от иллюстративности, литературщины на манеже приняло отличный от сценического вид. Каждый из персонажей становился представителем определенного циркового жанра, что придавало и всей пантомиме своеобразие собственно циркового зрелища.
Рецензия Маркова позволяет понять, как видели или, точнее, какими хотели увидеть пантомимы нового цирка. Воспользуюсь формулировками Павла Александровича:
«Хочется, чтобы каждый цирковой трюк, входящий в пантомиму, был использован до конца: жонглер показывал самые трудные номера своего репертуара, комик – буффонил со всем ему присущим юмором. Цирковой пантомиме не приходится бояться невероятностей, они оправдываются самим существом циркового зрелища. И еще: цирковое действие непременно монументально – интимность и лирика ему чужды; она – искусство больших построек. Цирковое зрелище – в непрерывной динамике, в преодолении всех, даже непреодолимых препятствий».
Наиболее действенной проблемой современного цирка он считал «создание подлинно циркового зрелища-представления (выделено автором. – М.Н.), объединяющего в богатое красками целое длинный ряд цирковых номеров, подчиненных определенному драматическому сюжету»[78].
Это впечатление о цирковой пантомиме рецензента, специально оговорившего, что он в цирке «случайный зритель», по сути дела, напоминает мнение А.В. Луначарского, высказанное им в докладе, начавшем так называемые «диспуты» о путях развития циркового искусства еще в самом начале 1919 года:
«Веселое действо без слов, разодетые толпы, ритмически движущиеся или танцующие на арене»[79].
Несмотря на прошедшие полтора года, от цирковой пантомимы по-прежнему не ждали никакого революционного или насколько-нибудь современного содержания. Этой точки зрения придерживался и Марков, явившись в цирк. «На очереди стоит, выражаясь ставшим модным словом, “эстетизация” цирка, – утверждал критик, просмотрев пантомиму, – очищение цирка от густого налета пошлости, облепившего его, и возвращение ему его подлинной роли – радостного и праздничного зрелища силы и красоты, смелости и ловкости»[80]. Ни к отражению событий недавней революции, ни к прославлению героев страны цирк даже не призывали. Современные герои и темы появлялись на его манеже только, когда там показывали свои спектакли театральные или самодеятельные коллективы.
В том же, 1920 году, например, за месяц до «Любви с превращениями», в петроградском цирке Чинизелли показали в день годовщины Красной Армии празднично-революционное зрелище «Меч мира». Эпизод за эпизодом на манеже и двух установленных по бокам его помостах 150 участников разыгрывали двухлетнюю историю Красной Армии, которую ее предводитель, народный комиссар (имелся в виду Главвоенком Л.Д. Троцкий), провозглашал Мечом мира. Реальные события от Брестского мира до защиты Петрограда чередовались с аллегорическими скитаниями библейских волхвов, идущих навстречу новой, красной звезде. Много позже автор этого зрелища А.И. Пиотровский с иронией вспоминал, как «красноармейцы говорили белым стихом, а Троцкий разрывал “свиток” Брестского мира с жестом актера классической трагедии»[81].
Текст в постановке (в ее революционных эпизодах) обретал порой четкость и афористичность цирковой репризы:
Н а р о д н ы й к о м и с с а р. Какое сегодня число?
О д и н и з р а б о ч и х. Двадцать третье. Февраль.
Н а р о д н ы й к о м и с с а р. Запомните этот день. История вписала его красным[82].
Под куполом цирка излюбленные приемы массовых празднеств (шествия, штыковые атаки, митинги, речевые хоры) обретали большую концентрацию в исполнении и воздействии на зрителя. И логическим завершением эмоциональной приподнятости зрелища явился придуманный режиссером постановки С.Э. Радловым символический (и празднично-декоративный) дождь красных звезд.
Хотя «Меч мира» и был спектаклем-однодневкой, задуманным и исполненным к празднику, содержание и стиль постановки словно бы предрекали возможности масштабной и гражданской современной цирковой пантомимы. Казалось, следуя именно таким путем, новому цирку и предназначено стать для своих зрителей агитатором и пропагандистом. Но тогда подобная мысль не была ни осуществлена ни осознана. Основой постановочного репертуара продолжали оставаться пантомимы «в итальянском стиле». Они наиболее полно отражали представление публики о возможностях и предназначении цирка. Героическое (трюковые номера) и комическое (пантомимы) традиционно соседствовало на цирковом манеже. Энергичнее всех сформулировал именно такое восприятие цирка художник Ю.П. Анненков, увлекшийся в те времена оформлением и режиссурой массовых зрелищ, рискнувший даже привлечь цирковых артистов в свои лихие сценические постановки. «За последние дни много говорят о “героическом театре”, – укорял он своих художественных оппонентов. – Не проще было бы над входом в круглое здание с конусообразной крышей повесить вывеску: “Героический театр”. И прибавить: “Веселый санаторий”»[83]. Впрочем, и в 1919 году и позже все рассуждения о творческих возможностях цирка подразумевали, по существу, жадное стремление преобразить театр.
Что касается цирка, то национализация не принесла искусству манежа никакого художественного обновления, хотя сообщения о его возрождении публиковались регулярно. Цирку пытались оказать профессиональную помощь. Но стремления эти никак не отвечали потребностям и возможностям цирка. Приглашаемые на различные конкретные постановочные работы профессиональные (что особо подчеркивалось) писатели, режиссеры, да поначалу и художники решительно принялись его спасать. Они приводили исполнителей, необходимых для реализации своих замыслов. «Весь штат приписанных к цирку достигал 350 человек, из коих было 26 человек цирковых артистов, из которых еще было человек 5, взятых по недоразумению, – так характеризовал состояние дел один из цирковых артистов[84]. – Эта грандиозная Директория задалась целью создать новый революционный цирк и, конечно, ничего не создала, но затратила массу денег, а, главное, всевозможных материалов – полотно, плюш, бархат, атлас резались без всякого стеснения и без всякой пользы»[85].







