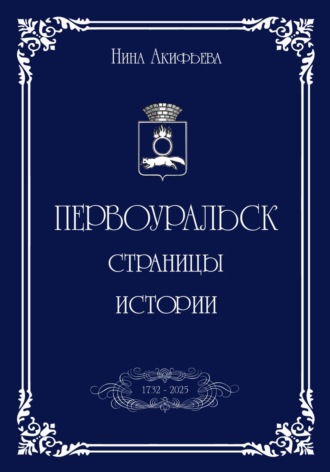
Полная версия
Первоуральск: страницы истории
Интересна судьба другого билимбаевца – Б.Ф.Мельникова. Борис Федорович родился 1885 году. Его дед был крепостным, а отец – земский оспопрививатель Билимбаевской волости был удостоен большой серебряной медали УОЛЕ на Екатеринбургской промышленной выставке и золотой медали Нижегородской выставки. Закончив Билимбаевскую начальную школу, а затем с похвальным дипломом Екатеринбургское городское училище, Борис Федорович в 1901 году без экзаменов был принят в Нижнетагильское горнозаводское училище. В 1909 году Мельников уезжает в Пермь, где поступает на службу в губернскую управу. Через два года он переезжает в Петербург, начав карьеру с должности заместителя начальника судостроительной мастерской на Невском заводе. После событий 1917 года Мельников покидает Петербург и переезжает в Москву. Там он занимается размещением за рубежом заказов для строительства Уралмаша, Сталинградского, Челябинского и других промышленных гигантов первых советских пятилеток. Коренной билимбаевец Борис Федорович Мельников всю свою долгую жизнь (умер он 1969 году) служил делу развития российской индустрии. Но в истории Урала он оставил заметный след не только как «технарь», но и как страстный пропагандист музыкальной культуры. В юности он участвовал в любительском камерном квартете, создал и руководил первым в Нижнем Тагиле (возможно и на Урале) оркестром народных инструментов, чем внес заметный вклад в развитие музыкальной культуры горнозаводского Урала.
Билимбаевская заводская дача, находившаяся вдали от основного Строгановского имения, интересна в первую очередь тем, что в ней в весьма значительных объемах проводились лесокультурные работы. Первый опыт по искусственному культивированию лесов был проведен в 1842 году выпускником лесного отделения Санкт-Петербургской школы, билимбаевским лесничим Николаем Григорьевичем Агеевым (в 1875-1885 гг. – главный управляющий Пермским имением) и ученым-лесоводом Иваном Ивановичем Шульцем. В 1878 году билимбаевским лесничим был назначен воспитанник Московской земледельческой школы Фёдор Васильевич Гилев. Новый лесничий сумел создать образцовое хозяйство, что привлекало внимание ученых, путешественников и влиятельных государственных чиновников. Дмитрий Иванович Менделеев после осмотра дачи писал: «…Я видел в билимбаевских лесах прекрасные дороги, и много бравых лесных сторожей и досмотрщиков, просеки, канавы, очистка лесов, чередование молодых зарослей с возрастными, и главное хороший досмотр», «порядок, точно в иное, не русское царство попал».
Источник: Акифьева Н. В. Строгановы и крепостная интеллигенция Билимбая / Веси. № 1. 2006. C.6-9.
БИЛИМБАЙ: ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ (часть 1)
Сегодня, когда в образовательной сфере реформы с немыслимой скоростью, а иногда и с немыслимой логикой сменяют друг друга, нам кажется, есть смысл приостановиться и оглянуться назад. Ведь порой, даже специалисты, работающие в образовательной сфере, имеют довольно смутное представления о школах «крепостной России», а в умах подавляющей части населения страны прочно отложилось пренебрежительное отношение к «двум классам приходской школы».
В статье предпринята попытка рассказать о ланкастерской системе обучения, практиковавшейся в Пермском майорате Строгановых в 1850–1860 годах, на примере Билимбаевского «графского» училища.
В Билимбаевском заводе «графское» училище было открыто 1 января 1820 года на основании предписания «Ее Сиятельства графини Софьи Владимировны Строгановой». Содержание училища и его финансирование осуществлялось из «господских доходов» (по годовым штатам было определено жалованье: учителю – 240, помощнику 80, сторожу – 48 рублей). Кроме этого Билимбаевскому и Очерскому училищам выделялось 320 рублей на покупку учебных пособий и 100 рублей на награды ученикам, отличившимся при сдаче экзаменов.
Кроме того, в каждом из пяти округов майората были учреждены библиотеки. Особым покровительством со стороны графини пользовались «нарочито способные к наукам и искусствам дети». «По прошествии каждого года, всем ученикам предложено делать экзамены и отличившихся при оных познаниями учеников велено награждать книжками и похвальными листами, или чем приличнее найдет главный учитель. Об успехах, способностях и поведении каждого ученика от учителей сих новых училищ доставляются к ее сиятельству третные ведомости…»
Придерживаясь европейских взглядов на систему образования, графиня в 1824 году открывает в Санкт-Петербурге собственную «высшую» школу «для образования в оной Пермского ее имения, крестьянских детей, под руководством известных ей профессоров и учителей горного кадетского корпуса.
И что замечательно, вся администрация ее имения состояла из местных крепостных, которые получали образование в ее же собственных школах в Петербурге и селе Марьинском. Наиболее же одаренные посылались за счет графини в иностранные университеты и академии, хотя такая политика имела определенные границы: «…Детей низших служащих едва ли следует вытягивать высшим образованием из семейного круга, – для воспитания их достаточны местные училища; исключения из этого правила может быть допущено лишь для детей, выходящих из ряда по своим способностям», – считала Софья Владимировна.

Билимбай, конец XIX века. Слева «господский дом», справа здание заводской конторы/училища. Фото из коллекции музея школы №23 п. Билимбай
Учебный процесс, сложившийся в Билимбаевском двухклассном училище к середине XIX века, обладал рядом характерных признаков. Одной из таких особенностей было то, что особого времени для приема в училище не было – ученики поступали в школу, в любое время. Да и возрастного ценза не существовало. Можно было начинать и заканчивать учебу в любом возрасте, все зависело от благосостояния родителей и способностей конкретного ученика. Другой характерной чертой училища был довольно высокий для своего времени уровень преподавания. Учителя там, как правило, назначались из молодых людей, окончивших курс в Петербургской строгановской школе, в Марьинской практической школе земледелия или в Московской земледельческой школе.
Среди учителей нередко можно было встретить и управляющих округами и заводами – эта сфера деятельности занимала в их жизни далеко не последнее место, так как часто была такой же официальной, как и основная работа. Будущий главный управляющий Пермским майоратом Строгановых Василий Алексеевич Волегов, служа в Билимбае, «с радостью воспринял поручение начальства (относившееся ко всем практикантам) принять попечение за здешнею школою и преподавать, что можно». Среди учителей иногда попадались просто выдающиеся личности. Одним из таких учителей был Петр Сосипатрович Шарин, принадлежавший к немногочисленному кругу крепостных, получивших высшее образование за рубежом. В 50-х годах XIX века Шарин, будучи управляющим Билимбаевского завода, преподавал арифметику во 2-ом классе училища.
В те годы одним из учеников Шарина был Леонтий Воеводин, ставший впоследствии одним из основателей бухгалтерской науки на Урале и награжденный за научные труды бронзовой медалью Международного конкурса счетоводства в Лионе (Франция). Вспоминая годы, проведенные в училище, Леонтий Евдокимович писал: «Училище тогда (1856-1860 гг. – авт.) помещалось в нижнем этаже Билимбаевского Окружного Правления (заводской конторы). В исключительном распоряжении училища были три комнаты – первый и второй классы и библиотека, общая для всего завода. В том же этаже находилась и касса правления, у которой обыкновенно толпились мастеровые всех возрастов, в ожидании получения денег. В передней, которая в то время была и ученической сборной, деревенские углевозы, рудовозы, мастеровые и пр. располагались как дома. Одни спали, другие закусывали, что Бог послал, третьи тихо между собой беседовали. Замечательно, что, несмотря иногда на большое скопление народа, тишина не нарушалась. Пьяных между рабочими совсем не было».
Комната 1-го класса, рассчитанная на 80 человек, была достаточно светлой (четыре окна выходили на восток, а два на юг) и довольно большой – длиной около 15, а шириной около 9 метров. У южной стены находилась учительская конторка с наклонной доской и с двумя тумбами по бокам. Кафедра возвышалась на площадке, так что с нее хорошо было видно всех учащихся. Перед кафедрой по центру комнаты стояли, выстроенные в правильный четырехугольник, однообразные (за исключением первого) столы. Каждый стол был рассчитан на десять человек, однако в случае нужды за ним могли поместиться и пятнадцать.
Всего столов (их еще называли классами) было восемь. Первый стол предназначался для начальных письменных упражнений на песке. В отличие от остальных он имел не наклонную, а горизонтальную, ограниченную бортами столешницу. На столешницу насыпался желтый мелкий (горный) песок, на котором писали железными палочками (бороздилками), имевших вид шпателей. Для выравнивания песка использовалась специальная дощечка – шабаркалка. Столы со второго по пятый были «обыкновенными» школьными партами. Однако для письма использовалась не бумага, а выкрашенные черной краской деревянные доски размером 30×20 сантиметров. На досках красной масляной краской были нанесены прямые и косые линии. Последние показывали, какой наклон должны иметь буквы. Писали на этих досках гусиными перьями раствором мела. В каждой парте было просверлено по четыре круглых отверстия. В них вставлялись чугунные чернильницы в виде усеченных конусов. Наливаемый в них меловой раствор называли белыми чернилами. На шестом столе писали на грифельных досках, а на седьмом и восьмом – на бумаге.
Первый стол занимали вновь поступившие, поэтому он постоянно обновлялся – смышленые ученики переходили на следующие столы-классы. Первым кандидатом для перевода в высший класс являлся «первый ученик», и поэтому сделаться им было весьма важно. Иногда перемещение происходило и вне очереди, более способные обгоняли своих менее способных товарищей, и случалось, оставляли их далеко позади.
Все восемь столов, стоящих в большой комнате, составляли первое отделение училища, или 1-й класс. В нем обучались азам чтения, письма и арифметики.
Обучение учеников первого стола кроме знания алфавита из печатных и прописных букв сводилось еще к чтению и составлению простейших слогов из двух или трех букв. Например: аб, ав, а, ев, ег, еж, иб, ив, ба, ва, га, да, жа и так далее. Затем слоги соединялись в простейшие слова: мама, Саша, Даша, зима, село, мука, куда. На втором столе школьников учили написанию более сложных слов: облако, зарево, ехали, видели. На третьем столе были очень длинные – в четыре-пять и более слогов, часто непонятные для учеников, слова: чудодейственный, благолепный и т.д. На четвертом и пятом столах читали простые тексты, заимствованные из «деяний Апостольских», а на шестом тексты из Евангелия. Для седьмого и восьмого столов, ученики которых раз в два года переводились во второе отделение училища, или во II класс в качестве пособий использовались уже не отдельные тексты, а целые книги из школьной библиотеки: «Училище благочестия», «Молитва христианина», «Сто четыре ветхозаветные истории с картинками». «Православие, самодержавие, народность», «Петр Великий», «О том, как солдат Ивашка спас Петра Великого», «О Суворове», «Балакирев», «Бомбардировка Севастополя», «Сказка об Иване Царевиче и сером волке» и рукописи: «Последние слова в бозе почившего Государя Императора Николая Павловича», «Путешествие в святую землю», «Иерусалимская молитва», «Инструкция берг-инспектору Хребта Уральского» и другие.
Арифметика в 1-ом классе преподавалась двумя способами. Первый способ состоял в том, что учеников учили считать на счетах, а при втором способе школьники занимались вычислениями по специальным таблицам. В течение учебного года на счетах считали месяца два. Остальное время учились считать по таблицам. На первом столе изучали цифры от 1-го до 10, а затем от 10 до 100. Второй стол должен был знать трех и четырехзначные цифры. Третий – 5-ти, 6-ти и 7-мизначные цифры. В четвертом полагалось знать биллионы, триллионы и квадриллионы. Пятый и шестой стол упражнялся в устном сложении и вычитании, а седьмой и восьмой учили таблицу умножения и занимались «умственными счислениями на умножение и деление». Во время письменных упражнений по арифметике ученики последних двух столов делали упражнения из задачника Буссе, принятого за руководство.
Порядок в 1-ом классе поддерживали школьники, назначенные учителем из учеников высших столов, начиная с пятого. «Так, например, пятиклассник, (попросту, сидящий за пятым столом), мог быть удостоен назначения состоять старшим, т.е. то же что преподавателем, на столах первом или втором. Шестиклассник мог преподавать на втором и третьем и т.д. Конечно, старшие назначались из лучших учеников по успехам и благонравию. Над этими старшими в 1-ом классе были еще так называемые надзиратели из учеников последнего 8-го стола. Их было трое: надзиратель порядка, надзиратель чтения и надзиратель письма».
Все эти звания обозначались на железных карточках, называемых значками или ярлыками. На каждом таком ярлычке печатными буквами было написано соответствующее звание: «надзиратель порядка», «надзиратель чтения», «старший 1-го стола», или «первый ученик 1-го стола» и так далее. Ученик, удостоенный соответствующего звания, носил такой ярлычок на груди. Посвящение в звание производилось учителем в торжественной обстановке. «…Учитель громогласно вызывал ученика к кафедре и здесь пред лицом всего класса лично надевал на него заслуженный знак отличия». Старшие были вооружены деревянными указками черного цвета. Эти указки были неким символом власти и кроме своего прямого назначения употреблялись для усмирения непокорных школяров. «Чаще всего доставалось от них по рукам. Полагалось держать руки по швам, а как только ученик забывал это правило и высовывал их вперед, так старший тотчас же ударял по ним указкой, иногда довольно больно».
В противоположность поощрительным знакам были и знаки порицания, написанные на желтых карточках: «шалун», «грубиян» или «осел». Титулы эти носились на груди. Впрочем, к таким «нежным» мерам наказания прибегали редко, гораздо чаще практиковались розги. Не проходило месяца, чтобы кто-нибудь не подвергся такой экзекуции. «Существовало даже убеждение, что без порки выучиться невозможно».
Один раз в два года самые способные ученики переводились во 2-ой класс, хотя некоторые в первом классе засиживались долго. Каждый год из 100 первоклассников во 2-ой класс переводили не более 20 человек.
Учебная программа во 2-ом классе состояла из трех предметов. Первый – Закон Божий, состоял из Нового Завета по Соколову или Рудакову и катехизиса Филарета. Второй – арифметика. Изучались четыре действия над простыми и сложными числами, действия над простыми и десятичными дробями, непрерывные дроби, пропорции (арифметические и кратные), смешения (тройное и ценное), проценты и извлечение квадратных и кубических корней. Правила задавались на дом и заучивались «назубок». «Долее всего останавливались на правиле умножения многозначного числа на многозначное. Это правило как-то не укладывалось в ученические головы, и многие, делая умножения безошибочно, правила этого сказать все-таки не могли». Третьим предметом был курс русского языка, состоящий из изучения этимологии, синтаксиса и орфографии по Востокову. В качестве учебных пособий использовались книги из школьной библиотеки: сочинения Жуковского, Кольцова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского, басни Крылова, Российская история Карамзина, «Записки охотника» Тургенева, романы Дюма-отца, хрестоматия Галахова, газеты «Московские ведомости» и «Сын отечества», журналы «Искра», «Русский вестник» и «Современник».
Учебный день в училище был разбит на два периода. Первый утренний – с 8 до 11часов, и второй послеобеденный – с 13 до 16 часов. И так каждый день, за исключением среды и субботы. В эти дни после обеда учебы не было, вместо нее проходили строевые занятия под руководством отставного унтер-офицера. В воскресные и праздничные дни все ученики обязаны были приходить к заутрени в церковь, а после окончания службы идти в школу, где читалось Евангелие.
Обучение учеников не ограничивалось только классными занятиями. За поступками школяров вне школьных стен наблюдали не только учителя, но и старшие ученики, имевшие особые полномочия. Таких доверенных учеников было человек пять-шесть в 1-ом классе и два или три во 2-ом. Этих уполномоченных на местном диалекте называли «казаками». Результаты своего наблюдения казачки заносили в особую книгу – «журнал шалящих». «Попасть в «шалящий», это значило наверняка подвергнуться порке, а поэтому принимались все меры предосторожностей, чтоб избежать зорких казачьих глаз, что, однако же, трудно достигалось и «шалящий», просматриваемый старшим учителем по большей части по субботам, всегда давал достаточный материал для экзекуции». Но не только доносы казаков служили поводом для экзекуции розгами. Отстающих учеников подвергали той же мере наказания. Кроме того, нередко на учеников приносили жалобы родители, родственники, а то и просто посторонние лица. «Учителя близко принимали к сердцу все такие жалобы, разбирали их и давали удовлетворение по мере сил и возможностей».
Надо отдать должное Строгановым, о своем учебном заведении они заботились и после отмены «крепостного права». Училище содержалось ими вплоть до начала 80-х годов XIX века. Сергей Григорьевич Строганов на содержание училища ежегодно выделял почти тысячу рублей серебром. Кроме того, вплоть до 1917 года, заводовладелец выплачивал пособия билимбаевским служащим, чьи дети обучались в Казанском земледельческом и Уральском горном училищах.
Источник: Акифьева Н. В. Плоды просвещения / Веси. № 1. 2008. C.27-30.
БИЛИМБАЙ: ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ (часть 2)
В 40-е годы XIX века в Билимбае было основано женское училище. Как и заводское оно появилось благодаря Строгановым. Но, так как учащихся было немного, то для занятий была отведена только одна комната в каменном господском доме. Годичный курс обучение начинался 2-го сентября, а заканчивался 20 мая. После введения земства билимбаевское сельское общество «в видах улучшения положения училища» приняло участие в расходах на его содержание.
С 1878 года женское училище стало содержаться исключительно на общественные средства. С этого же года оно было перемещено в приобретенный обществом дом (холодный, с плохой вентиляцией, с дряхлым полом и ветхим фундаментом) На содержание училища земство ежегодно выделяло 320 рублей. Из них: законоучителю – 60, учительнице – 240, наем сторожа и отопление – 120 руб.
В 1886 году ученицы переехали в «довольно удобный обывательский дом», находившийся в центре поселка (в 270 метрах от волостного правления и 320 метрах от кабака). Помещение было теплое и светлое, но тесноватое. После переезда население стало «заметно лучше» относиться к женскому образованию. Понравилось билимбаевцам открытие рукодельных классов, появившихся в 1886 году и привлекших в училище немало учениц. Многие родители посылали дочерей в училище только затем, чтобы чадо научилось рукоделию. Предмет изучался под руководством «особой учительницы», получавшей жалованье от церковно-приходского попечительства.

Галина Федоровна Титова (Мельникова) и Николай Митрофанович Титов. Фото из коллекции музея шк. №23, Билимбай
Во время перемен ученицы выпускались для отдыха во двор. За проступки же ставились в угол и удалялись из училища на один день. В течение года наказанию подвергалось примерно 1∕6 часть всех учениц. Школьная библиотека состояла в основном из книг духовного содержания. В конце XIX века попечителем заведения являлся купец Н. В. Воронов, законоучителем священник Свято-Троицкого храма А.А. Бельтюков, учителем была Е.М. Яганова, помощником учителя О.М. Яганова. За год содержание обновленной школы обходилось в 800-900 рублей. Примерно 85% этой суммы уходило на оплату труда учителей.
С осени 1879 года по инициативе гласного Екатеринбургского уездного и Пермского губернского земств Н.Г. Стрижева в Билимбае открылось смешанное училище. Николай Григорьевич взял обязательство содержать помещение на свои средства. С 1885 года училище полностью перешло в ведение земства и общества, оплачивающих соответственно 85% и 15% затрат на его содержание. Училище располагалось в одноэтажном крытом тесом здании, наскоро приспособленном из обычного частного дома. Находилось оно в 100 метрах от волостного правления и примерно в 500 метрах от кабака. Помещение – две комнаты с выбеленными стенами, некрашеными полами и голландскими печами было достаточно теплым, но тесным, из-за чего многим приходилось отказывать в обучении. Вход с улицы не имел коридора, поэтому в классные комнаты весной и осенью учащимися заносилось много грязи. Училище неплохо снабжалось земством учебными пособиями, мебелью и различными классными принадлежностями. Для внеклассного чтения имелась небольшая библиотека, состоящая из 292 книг 30 наименований. Попечителем училища долгое время состоял личный почетный гражданин П. Я. Бушуев; законоучителями были священники Свято-Троицкого храма; учителями Е. И. Кузнецова, М. Ф. Пономарева и др.
В начале 80-х годов XIX века старая «графская» школа перешла под государственный контроль и стала называться Билимбаевским двухклассным училищем Министерства Народного Просвещения с пятигодичным курсом обучения. Учебный год в нем начинался 1-го сентября, а заканчивался 15 июня. К старым дисциплинам добавились новые предметы: геометрия, черчение, русская история, география, естествоведение, пение. В таком виде учебное заведение просуществовало до 1918 года. Законоучителями в министерской школе были священники – В. Крутиховский и К. Молчанов; заведующими – В. Ждановский и потомственный почетный гражданин С. Овчинников; учителями – Н. Егоров, Н. Шубин, В. Наумова, О. Сысолина, А. Лейман, А. Мельникова, О. Кузовникова…
Работа всех учебных заведений была неразрывно связана с деятельностью православной церкви. Школьники принимали участие практически во всех молебнах, проводимых по случаю, как церковных праздников, так и исторических событий. Вот как корреспондент «Екатеринбургской недели» описывал празднование 25-летия «блестящего» царствования императора Александра II в Билимбаевском заводе: «Накануне было всенощное бдение. 19-го утром в 9 часов праздничным звоном и тремя пушечными выстрелами прохожие приглашались в храм Божий к обедне, которая праздновалась соборно. Храм был полон. Впереди всех у амвона стояли учащиеся: на правой руке из Билимбаевской народной школы, на левой – Билимбаевской школы, а центр занимали ученики Билимбаевского двухклассного училища. Обедня заключалась благодарственным Господу Богу молебствием по особо назначенному чину. Затем, согласно желаниям Билимбаевского сельского Общества был крестный ход из храма для освящения места под часовню, долженствующую служить памятником благополучного 25-летнего царствования Государя. При этой часовне предположено устроить кружку сбора пожертвований на содержание училища в Билимбае. Весьма умилительны и торжественны были минуты шествия массы народа с хоругвями и иконами в сопровождении рядов учащихся детей, при пушечных выстрелах и звоне колоколов».
Летом-осенью 1887 года в Екатеринбурге начала работать Сибирско-Уральская промышленная выставка. На ней были представлены достижения уральских и сибирских мастеров. Лучшие были отмечены наградами. В том числе и Билимбаевское сельское смешанное училище. За успехи в чистописании оно было удостоено почетного отзыва Уральского Общества Любителей Естествознания.
Учитель М.И. Ватолина в своих воспоминаниях писала: «Прежде чем начать письмо прямых палочек, я предлагала детям взять ручку, поставить перо, не прижимая его к бумаге, и говорила: «Если вы не дадите перу постоять, палочка получится вверху тоньше, чем в середине, а нам нужны палочки ровные сверху и до конца. Значит, внизу тоже надо дать постоять перу, чтобы палочки не получались с тонкими кончиками».
В 1888 году два училища (смешанное и женское) были переведены в одно здание. На первом этаже размещалось мужское училище, а на втором – женское. Но желающих учиться было гораздо больше, чем мест в новой школе. Поэтому группа мальчиков занималась в частном доме около больницы. В 1906 году происходит еще одна реорганизация – для мужского училища за счет земства было построено новое здание, а старое полностью отдано женской школе.
Кроме школ, расположенных непосредственно в Билимбаевском заводе, свои учебные заведения были в Крылосовской и Починковской деревнях, а в Битимске учебных заведений было даже два. Первое – это земское училище, открытое в 1874 году. Оно находилось в двухэтажном деревянном здании, расположенном на низком ровном месте у реки Чусовой. На нижнем этаже размещалось сельское правление, квартира учительницы и пожарное депо. Второй этаж занимали классные комнаты. Помещения были светлые, теплые и опрятные. В библиотеке кроме учебников имелось 236 томов 42 наименований для внеклассного чтения. Обучались в Битимской школе дети из пяти селений Билимбаевской волости: деревень Битимки, Коноваловой, Макаровой, Извезной и Черемши – всего около 400 дворов. Попечителем школы был старшина Билимбаевской волости Д.И. Мельников; законоучителем – священник А.С. Косихин; учителями – Е.И. Бабенкова и Л.П. Топоркова. В Битимке была еще подготовительная школа, находившаяся в доме сельского старосты.



