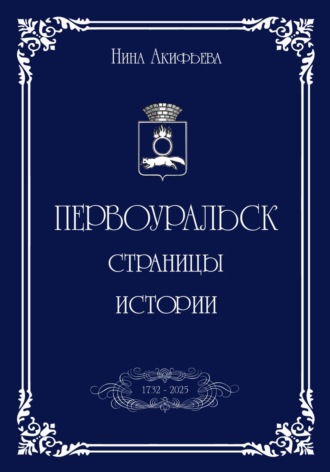
Полная версия
Первоуральск: страницы истории

Макет самолета БИ-1 в Билимбае, 2010 год. Фото автора
Серийный вариант получил обозначение «БИ-ВС». Изготовление фюзеляжа было поручено заводу № 499. Предприятие располагалось в Тюменской области, в рабочем поселке Заводоуковск. Директором 499-го был талантливый конструктор Александр Сергеевич Москалёв. Именно Москалёву принадлежит идея – строить самолеты-крылья, воплотившаяся спустя время, в таких самолетах, как ТУ-144, «Конкорд», «Шаттл», «Буран». Александр Сергеевич, как никто другой, знал слабые стороны планера БИ. «Вероятность попадания БИ-2 в область волнового кризиса была ясной и достаточно высокой. Об этом факте могли не знать только недостаточно грамотные в аэродинамике специалисты. В разговоре с Виктором Фёдоровичем в Билимбае, где я получал чертежи БИ-2, – вспоминал Москалёв, – я его прямо спросил, не боится ли он катастрофы, вследствие возможного затягивания самолёта в пикирование, если прозевать скорость? Самолет-то БИ-2 был обычной классической схемы! Виктор Федорович ответил, что эта возможность им учитывается, и он введёт ограничение в скорость полёта, если это потребуется. Меня этот ответ успокоил, но только отчасти».
Ярослав Кириллович Голованов в книге: «Королёв, факты и мифы» писал: «Если инженеры Душкина напускали на свой двигатель туман в прямом (от паров кислоты) и переносном смысле, близко к нему никого не подпускали – «совершенно секретный объект!» – то Глушко, пользуясь правами «врага народа», не темнил, говорил все как есть, показал свои разработки, отдал методики расчётов. Он даже предложил для БИ связку из четырех своих камер». Алексею Михайловичу Исаеву такой вариант не понравился: «Эта связка нам всю машину испортит, – ворчал он, – посмотрите, у нас не самолёт, а девушка, стройная, тоненькая, а тут будет ж…, как у старой бабы».
Знал ли о билимбаевском чуде Королёв? Оказывается, знал. В автобиографическом очерке «Рождение мечты и первые шаги» Валентин Петрович Глушко писал: «По моему ходатайству на работу в наше ОКБ был направлен С.П. Королёв». По свидетельству Ярослава Голованова: «Королёв буквально с первых своих дней в Казани начинает борьбу за свой ракетоплан». Он уже видит свою машину во всех деталях, для него она уже реально существует. И тут Глушко подробно рассказывает ему о самолете БИ и описывает все его характеристики. «Характеристики эти, надо признать, были весьма скромны: на максимальной скорости (800 километров в час) БИ мог лететь не более двух минут, а на пониженной – не более четырех-пяти минут. Двигатель БИ допускал только шесть пусков».
Документ: «Работу по самолётам-перехватчикам считать особо секретной и для обеспечения особой секретности работ по самолёту-перехватчику и жидкостному ракетному двигателю, директору завода № 293 тов. Болховитинову всемерно ограничить круг лиц, допускаемых к сборочным чертежам самолёта и двигателя, расчётным материалам, а также в сборочные цехи и на испытательные станции самолёта и двигателя».
Что за БИ? Откуда взялся? Королёв изучает вопрос и пишет служебную записку. В своей записке он отмечает, что, конечно, можно установить на БИ более совершенный двигатель Глушко РД-1, но предупреждает: «Потребная для этого переделка самолёта БИ так велика, что фактически сводится к созданию машины заново». В абзаце, посвященном БИ, явно звучит некоторое раздражение по отношению к сопернику. И оно объяснимо. Голованов констатирует: «Несмотря на всю непохожесть, главные идеи, заложенные в этих машинах, пересекались в одной точке: это были летательные аппараты с жидкостными ракетными двигателями для полёта человека». Но РП-318 Королева – это только планер, сам подняться с земли еще не может, а БИ – какой-никакой, но уже самолёт.
Документ: Кроме 30 самолётов войсковой серии КБ Болховитинова получило задание спроектировать и построить малую серию из 4-х экземпляров модификации самолёта-перехватчика со следующими лётно-техническими данными: «1. два самолёта со сферическими баками с увеличенным временем полёта (4 мин. 30 сек) и потолком (12000 метров). 2. два самолёта со сферическими баками и дополнительными двумя прямоточными воздушно-ракетными двигателями на концах крыльев с ещё более продолжительным временем полёта (7 мин.) с выпуском на испытания 15 августа 1942 года и 1 октября 1942 года соответственно».
К началу 1943 года билимбаевское КБ Болховитинова подготовило еще две модификации самолета, превосходящие первенца, и в мощности, и скорости. В воспоминаниях А.В. Палло имеется колоритное высказывание лётчика К.А.Груздева после полета на БИ-2 12 января 1943 года: «И быстро, и страшно, как чёрт на метле». 27 марта 1943 года при лётном испытании БИ-3 погиб Григорий Бахчиванджи. Александр Сергеевич Москалёв отметил: «На машине, пилотируемой Г.Я. Бахчиванджи, была сделана попытка достичь предельной скорости полета. По неутончённым данным, В. Ф. Болховитинов в это время отсутствовал, и произошло то, что должно было произойти – самолёт попал в волновой кризис и разбился».
Документ: «Разрешить НКАП перевести завод № 293 из посёлка Билимбай, Свердловской области, на его прежнюю территорию в г. Химки, Московской области, сохранив в Билимбае филиал завода. Перевести на завод № 293 НКАП из НИИ № 3 НКБ группу тов. Душкина и с Кировского завода Наркомтанкпрома группу тов. Люлька по прилагаемому списку. Доукомплектовать завод № 293 металлорежущим и прочим оборудованием в количестве 65 единиц, в том числе 40 единиц из поступающего импорта и 25 – с заводов НКАП. Организовать на «Уралмашзаводе производство 600 штук баллонов по спецификации, чертежам и графику завода № 293 НКАП. Выделить заводу № 293 из числа поступающих по импорту или в счёт поставок НКО: три трёхтонки, три полуторатонки, один трактор, два Пикапа, две легковых машины и один мотоцикл».
Спустя годы Москалев вспоминал: «Для меня до сего времени непонятно, почему было прекращено испытание БИ. Ведь и до полётов вероятность попадания БИ-2 в область волнового кризиса была ясной и достаточно высокой. Много позднее я поинтересовался во время случайной встречи с одним из заместителей В. Ф. Болховитинова И. Ф. Флоровым: «Почему все же прекратили строительство БИ-2»? После некоторого молчания тот ответил, что, якобы, БИ-2 был перетяжелён и его ЛТХ вдруг оказались хуже, чем ожидалось. Так как Флоров ещё работал в системе МАП, я его не стал мучить вопросами, но заметил, что В. Ф. Болховитинов в 1958 году – говорил мне совсем другое, а расчётные весовые материалы самолета, находившиеся на заводе № 499, вовсе не подтверждали необходимость жечь 30 самолетов БИ-2 по причине перетяжеления конструкции. Наличие дешевых быстроходных и высотных перехватчиков БИ-2 над городом Москвой в 1942 году могли дать существенную помощь в обороне столицы от вражеских самолётов. Но кому-то это не нравилось».
Работы в Билимбае были свёрнуты, ОКБ Болховитинова вернулось на старую базу. 11 апреля 1943 года Алексей Михайлович Исаев пишет родителям: «… В конце апреля или начале мая мы отплываем. «Ехать, так ехать, – сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост». Я бы предпочёл ехать осенью, собрав хотя бы урожай со своего огорода. Но, как видно, не судьба. Еду с легким страхом. Денег у нас – только долги. Всего имущества рублей на 300, если найдется охотник [купить] швейную машинку, которую мы тщетно продаем всю зиму…».
Источники:
1. Документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).
2. Документы Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД).
3. Акифьева Н. В. Билимбаевские рассказы / Нина Акифьева. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 2016. – 311 с; ISBN 978-85383-645-7.
Нина Акифьева, 12 апреля 2017 г.
УРАЛЬСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ЗОДЧИЕ
Урал – горная страна с суровой природой на вечном сквозняке между Европой и Азией, огромное пространство между Россией европейской и Россией азиатской. Здесь терпимо относились к чужому мировоззрению, к иной вере, к другой нации и рассчитывали только на собственные силы, а дух свободы и авантюризма всегда был присущ местным жителям.
Урал доставался Российскому государству тяжело и кроваво. 2 октября 1552 года войско молодого русского царя Ивана IV (было ему в ту пору 23 года), прозванного впоследствии Грозным, штурмом взяло столицу некогда могучего Казанского царства. И воевода Михайло Воротынский докладывал царю: «Радуйся благочестивый самодержец! Казань наша… Что прикажешь?»
Строгановы были первыми крупными землевладельцами Урала. Огромная территория края на несколько столетий стала их, пусть и условной, но собственностью. По подсчетам историков, сформированные в результате многочисленных пожалований, покупок и захватов, пермские вотчины Строгановых к началу XVIII века насчитывали более 10 миллионов десятин земли и, по словам М.А. Алданова, «представляли собой, быть может, беспримерное явление в истории».
Кроме территорий были у Строгановых и другие атрибуты власти – свои вооруженные отряды, а также право «судить и ведать» всех своих «слобожан» без вмешательства царских воевод. Заметим, что такое исключительное право Строгановы сохраняли и при Иване Грозном, и при Лжедмитрии I, и при Василии Шуйском. Вообще время Смуты – это особый период для строгановского «царства». Ведь кроме коммерческих выгод от продаж подорожавшей соли, возможно, была у них надежда на большую самостоятельность, а может даже и на независимость.
Ошеломляюще быстрое присоединение Урала и Сибири к России стало прочным и бесповоротным лишь после сибирского похода Ермака. Похода, завершившегося разгромом войск потомка Чингисхана сибирского царя Кучума; похода, поставившего точку в величайшей трагедии русского народа, начатой побоищем на реке Калке в 1223 году; похода, сделавшего русское продвижение на восток, по словам историка Л.Н. Гумилева, «необратимым».
Но какова была истинная цель Ермака? «По велению Ивана Грозного для укрепления восточной границы купцов Строгановых», – считают авторы новых российских энциклопедий. Однако из всех существующих точек зрения – эта представляется нам не самой аргументированной. Да и те немногие отрывочные сведения о личности атамана вряд ли позволяют нам нарисовать портрет государственника, обеспокоенного расширением державы Ивана IV. Судя же по Есиповской летописи, старейшему письменному источнику, описавшему подвиги атамана, выходило, что его казаки вволю «повеселившись» на волжских струях и, пограбив всех, кого ни попадя, решили уйти на Каму. Видимо, пермские леса показались казакам надежным укрытием от царского гнева. Но, возможно, привлекал разбойников и тот особый статус, которым обладали строгановские владения – своеобразное государство в государстве.
История с походом Ермака остается крайне запутанной и спорной, а версий тех событий с каждым новым веком становится только больше. Некоторые исследователи считают, что Ермака привела в Сибирь страсть к присвоению чужих богатств. Другие полагают, что его призвали защищать свои владения от набегов «татарови» Строгановы. Третьи находят, что Ермак по собственному желанию появился на строгановских землях, и они, чтобы избавиться от разбойников, уговорили их направиться в Сибирь.
Но есть и еще одна версия, о которой как-то не принято говорить. Так, Введенский в своей книге «Дом Строгановых в XVI –XVII веках», цитируя протоколы Санкт-Петербургской академии наук, пишет, что «господин профессор Ломоносов мнит, что подлинно неизвестно, для себя ли Ермак воевал Сибирь или для всероссийского самодержца. Однако есть правда, что он потом поклонился ею (Сибирью – авт.) всероссийскому монарху. И того ради, если оные рассуждения, которые о его делах с похулением написаны и не могут быть исправлены, то лучше их все выкинуть…». Так что версия об особой казачьей территории под управлением Ермака в границах восточного Урала и сопредельной Сибири вполне, на наш взгляд, состоятельна.
Казалось бы, рассуждать о «самостийности» края при Петре Великом бессмысленно. Но здесь обращает на себя внимание фигура одного из ближайших соратников Петра – сибирского губернатора, кавалера ордена Андрея Первозванного, князя Матвея Петровича Гагарина, в 1721 году на дыбу вздернутого в подвалах Петропавловской крепости. Считается, что причиной казни стало непомерное воровство князя. Он, якобы, утаивал доходы от торговли с Китаем и Средней Азией. По его приказу в Сибири раскапывались скифские курганы, а золото присваивалось. Но водились за опальным губернатором и другие «грехи», с точки зрения царя, и более серьезные, и более опасные. Якобы хотел он Сибирь сделать отдельным государством, а Сибирью в те годы считалось все, что лежало к востоку от Пермского края. «Гагарин «злоумышлил» отделиться от России, сформировал полк из пленных шведов, делает порох…», – «словом и делом государевым» сообщали из Тобольска недруги князя. Правда это или злой умысел недоброжелателей мы, вероятно, никогда не узнаем. Однако на Петра I аргументы подействовали. А то, что еще одним Рюриковичем станет меньше, – так это государству только на пользу.
Империя Петра I поставила крест на самостоятельности Урала. Хотя не все население края думало так. Несмотря на то, что формально Башкирия добровольно присоединилась к русскому государству еще в XVI веке, на деле же за два последующих века на Урале произошло, как минимум, три крупных и кровопролитных башкирских восстания. Но изменить ход истории в крае они уже никак не могли.
Однако Урал не потерялся среди прочих российских губерний. Вместе с появлением горных заводов возник и особый статус региона. «Это было настоящее государство в государстве, беспримерное существование которого требует серьезного изучения: тут были свои законы, свой суд, свое войско и совершеннейший произвол над сотнями тысяч горнозаводского населения», – писал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
Лицом этого «государства» было Уральское горное правление, а глава его приравнивался правами к губернатору и считался доверенным лицом императора. Государственные люди стояли тогда у штурвала горнозаводского Урала: Василий Никитич Татищев, Вилим Иванович Геннин, Аникита Сергеевич Ярцев, Владимир Андреевич Глинка… Василий Немирович-Данченко, подчеркивая исключительность и могущество горнозаводского начальства, пустил в оборот фразу, приписываемую генералу Глинке: «Я – царь, я – бог Уральского хребта».
А хребет, надо сказать, был знатный, по пяти губерниям растянулся. Под стать горным начальникам были и заводские жители. И генерал Геннин, прощаясь с Екатеринбургом, писал Татищеву: «Здешние люди, как Вы сами знаете, понуждения себе не любят. И ежели их принуждать, то могут скоро сыскать другие дороги».
После Гражданской войны говорить об особом статусе края не приходится. Автор сознательно не рассматривает проекты внешнего влияния на судьбу региона, например, создание независимой Волго-Уральской Республики (Идель-Урал), спланированный руководством фашисткой Германии.
Начало 90-х – годы великих политических и экономических потрясений. 12 апреля 1993 года более 80 процентов населения Свердловской области высказались за придание региону статуса республики. Опираясь на результаты народного волеизъявления, 27 октября 1993 года сессия Свердловского областного Совета практически единогласно приняла за основу проект Конституции Уральской республики, а 31 октября Эдуард Россель объявил о создании нового субъекта в составе Российской Федерации. «Нам не нужен суверенитет, но очень нужна экономическая и законодательная самостоятельность», – заявил тогда Россель.
Как пояснил Россель в интервью для радио «Свобода», резко ускорить процесс юридического оформления нового государственно-территориального образования на территории России его заставляет не только нестабильная политическая ситуация в центре, но и представленный для обсуждения проект Конституции Российской Федерации. «В этом проекте записано, что изменить свой статус области смогут только после того, когда будет принято решение только всеми субъектами Федерации. Это значит, этим пунктом закрываются ворота полностью, стопроцентно, по изменению статуса другим областям. Я хочу, чтобы наша область, учитывая, что мы уже провели опрос, сессию, вырвалась из этой мертвой петли…» – заявил свердловский губернатор.
Однако вырваться не получилось. Уральская республика просуществовала всего десять дней. 10 ноября 1993 года указом президента России Ельцина решение Свердловского областного Совета было отменено, Эдуард Россель отрешен от должности, а все решения по Уральской республике были признаны не имеющими силы. Как сообщил низложенный губернатор, республика была разогнана, главным образом, из-за позиции, которую занял Сергей Шахрай, в то время председатель Госкомитета по делам федерации и национальностей. «Он напугал Ельцина, сообщив ему, что мы собираемся создавать свою армию, печатать деньги и провозгласили верховенство законов Уральской республики над законами РФ» – сказал Россель.
2009 год стал для Свердловской области последним "росселевским" годом. Никто даже и не заметил, что с ним ушла целая эпоха – эпоха надежд и сомнений, успехов и разочарований. И вряд ли еще кто в ближайшем будущем возьмет на себя смелость «вступить в ту же воду».
Источник: Нина Акифьева, журнал ВЕСИ, 2010. № 3. С. 22-24.
СТАРЫЙ СНИМОК
В музее Первоуральского Новотрубного завода на почетном месте висит старая фотография, снятая в зале заседаний Ленинградского государственного института по проектированию металлургических заводов (Фонтанка, 76), датированная 23 августа 1930 года. За большим старинным столом с массивными резными ножками – 14 человек – люди, от которых зависит судьба нового трубного завода в Первоуральске. Одних мы знаем хорошо, других – хуже, а о некоторых не знаем ничего, кроме имени, заботливо написанного на обратной стороне снимка.
На почетном хозяйском месте (третий справа) сидит директор Ленинградского ГИПРМЕЗа Авраамий Павлович Завенягин. Людям старшего поколения этого человека представлять не надо, однако, молодежи эта фамилия мало о чем говорит. Родился Завенягин в 1901 году в семье машиниста на станции Узловая (ныне Тульская область). Окончил Московскую горную академию, работал деканом металлургического факультета этой академии, а затем директором Московского института стали и Ленинградского государственного института по проектированию металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ). В январе-августе 1933 года руководил металлургическим заводом в Днепродзержинске. В 1933-1937 годах он – строитель и директор Магнитогорского металлургического комбината. Сам Завенягин скромно говорил, что «Магнитку воздвигли, в сущности, три богатыря: Я. С. Гугель, Л. М. Марьясин и К. Д. Валериус». В конце тридцатых все они были расстреляны и Завенягин их не спас, хотя возможно, что пытался. Во всяком случае, когда арестовали учителя Завенягина академика И.М. Губкина, Авраамий Павлович (по свидетельству Б. Броховича) обратился непосредственно к Сталину с просьбой защитить выдающегося ученого. Действия почти безумные, Завенягин ждал немедленного ареста, но его не последовало. В апреле 1938 года его назначили начальником строительства Норильского горно-металлургического комбината НКВД. При этом Завенягин одновременно возглавил все находившиеся в этом районе лагеря НКВД (Норильлаг). И было в то время Авраамию Завенягину 37 лет. В третьей части романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть глава «Псовая служба», в которой автор дает оценку Завенягину: «Зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили».

В зале заседаний Ленинградского ГИПРОМЕЗа, 23 августа 1930 года. Фото из фондов музея ОАО ПНТЗ
На почетном хозяйском месте (третий справа) сидит директор Ленинградского ГИПРМЕЗа Авраамий Павлович Завенягин. Людям старшего поколения этого человека представлять не надо, однако, молодежи эта фамилия мало о чем говорит. Родился Завенягин в 1901 году в семье машиниста на станции Узловая (ныне Тульская область). Окончил Московскую горную академию, работал деканом металлургического факультета этой академии, а затем директором Московского института стали и Ленинградского государственного института по проектированию металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ). В январе-августе 1933 года руководил металлургическим заводом в Днепродзержинске. В 1933-1937 годах он – строитель и директор Магнитогорского металлургического комбината. Сам Завенягин скромно говорил, что «Магнитку воздвигли, в сущности, три богатыря: Я. С. Гугель, Л. М. Марьясин и К. Д. Валериус». В конце тридцатых все они были расстреляны и Завенягин их не спас, хотя возможно, что пытался. Во всяком случае, когда арестовали учителя Завенягина академика И.М. Губкина, Авраамий Павлович (по свидетельству Б. Броховича) обратился непосредственно к Сталину с просьбой защитить выдающегося ученого. Действия почти безумные, Завенягин ждал немедленного ареста, но его не последовало. В апреле 1938 года его назначили начальником строительства Норильского горно-металлургического комбината НКВД. При этом Завенягин одновременно возглавил все находившиеся в этом районе лагеря НКВД (Норильлаг). И было в то время Авраамию Завенягину 37 лет. В третьей части романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть глава «Псовая служба», в которой автор дает оценку Завенягину: «Зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили».
В марте 1941 года А.П. Завенягин – первый заместитель наркома внутренних дел в звании генерал-лейтенанта, ему подчинены все строительные подразделениями НКВД на стройках Урала и Дальнего Востока. В 1945-1953 годах Завенягин – заместитель Л.П. Берии в советском атомном проекте. В зону его ответственности входил весь цикл производства ядерного топлива и зарядов, от руды до производимого в промышленных реакторах плутония. За испытание атомной бомбы Завенягину было присвоено звание Герой Социалистического Труда (1949 год).
Рядом с Завенягиным (четвертый справа) – «консультант из Америки» шведский инженер Ральф Штифель (R. Stiefel), личность, в узком кругу трубопрокатчиков, почти легендарная. Дело в том, что Штифель был изобретателем короткооправочного удлинительного стана (автомат-стан Штифеля). Этот агрегат представляет собой одноклетьевой стан-дуо с валками. Гильза задается в стан специальным вталкивающим устройством (пушером) и прокатывается на короткой оправке, расположенной в калибре между валками. Для повторного прохода в той же клети труба возвращается и подаётся вновь. В результате деформирования между валками и оправкой толщина стенки трубы уменьшается. Кстати, еще в 1897 году (как тут не вспомнить стан 140-2 после реконструкции 1980-х годов) Штифелем был запатентован прошивной стан с грибовидными валками (патент США № 30449).
По правую руку от Ральфа Штифеля (шестой справа) сидит Константин Гаврилович Шпельте – автор проекта Первоуральского трубного завода и специалист по прокату труб с дореволюционным стажем. В «старое» время Шпельте занимал пост директора трубопрокатного завода «Шодуар» (CHAUDOIR) в Екатеринославе (Днепропетровск). В 1928 году по обвинению в заговоре и вредительстве в промышленности Константин Гаврилович был арестован и даже сидел в «Бутырках». Как Шпельте после этого оказался в ленинградском институте по проектированию металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ) – неизвестно. Неизвестна и дальнейшая судьба этого первопроходца трубного дела в России, вряд ли человеку с его послужным списком удалось пережить годы репрессий.
Надо обязательно сказать, что завод «Шодуар» был самым первым заводом по производству бесшовных труб в России. Он был основан франко-бельгийским акционерным обществом Русских трубопрокатных заводов «Шодуар» 6 сентября 1889 года и был знаменит новым (1911 г.) цехом фирмы «MANNESMANN AG» со станом для проката бесшовных труб. Предприятию уже тогда принадлежало первенство в освоении технологии производства многих видов труб и трубных изделий в стране.
И поэтому не куда-нибудь, а именно на бывший завод «Шодуар» (Днепропетровский трубный завод им. Ленина) осенью 1929 года приехал за чертежами для первоуральского трубного завода Иван Семенович Мельников. Иван Семенович Мельников на снимке он сидит рядом со Шпельте, (седьмой справа) – главный инициатор строительства Новотрубного завода в Первоуральске. Иван Семенович родился в 1896 году в деревне Лебедовской Вятской губернии. Прошел путь от простого рабочего Лысьвенского завода до заместителя директора Экспериментального завода Центрального научно-исследовательского института в Москве. С октября 1928 года по январь 1931 года работал директором 1-го Уральского завода цельнотянутых и катаных труб (Старотрубный завод), с января 1931 года по 1932 год он – управляющий строительством Новоуральского трубного завода (Новотрубный завод).
Визит Мельникова на Днепропетровский трубный завод имел далеко идущие последствия. Поэтому нет ничего странного в том, какой выбор сделал представитель предприятия при нашем торгпредстве в Берлине, Александр Евгеньевич Шестаков, размещая заказы для первоуральского трубного завода. Конечно, – это было оборудование фирмы «Меер» (MEER AG) – 100-процентной дочерней фирмы трубопрокатных заводов «MANNESMANN».



