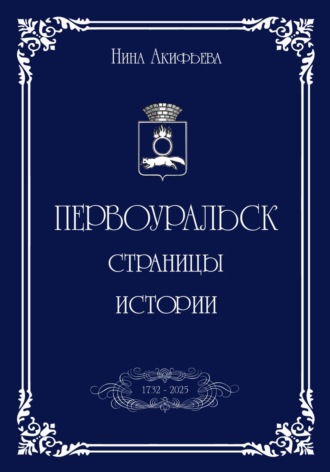
Полная версия
Первоуральск: страницы истории
В Пермь «царский поезд» въехал 23 мая, глубоко за полночь. Город, расположенный на высоком берегу Камы, встречал высокого гостя светом фонарей, свечек и многочисленных лампадок. Утром следующего дня цесаревич, приняв поздравления и рапорты, посетил Кафедральный собор. После полудня Его Высочеством проинспектировал почти все городские учреждения: тюремный замок, училище, Александровскую больницу, богадельню, дом умалишенных, промышленную выставку, военный госпиталь и казармы. Закончился день прогулкой по реке на катере, которым, по словам очевидца, Александр Николаевич управлял лично.
Утром 25 мая путешественники выехали из Перми в Екатеринбург. Переезд не занял много времени, и на следующий день в 4 часа дня восемь шестиконных экипажей и три тройки, миновав Шайтанский завод Ивана Ярцева, подъехали к символическому рубежу, разделяющему две части света. Переход из Европы в Азию отметили бокалом вина и поехали дальше. Впереди ждал Екатеринбург – город металла, самоцветных камней и золотой лихорадки. Полковник С.А.Юрьевич запишет в своем дневнике: «В Екатеринбурге, куда прибыли около 6 часов вечера, не теряя времени, отправились на старый монетный двор, оттуда на казенный золотопромывательный завод, оттуда в лабораторию, где золото очищают и перетапливают в слитки, оттуда на гранильную фабрику. […]. Здесь поднесены великому князю отлично выработанные и весьма похожие портреты из камня государя и императрицы, чернильница из ляпис-лазури и огромная печать из горного хрусталя. Здесь показывали нам самородные изумруды, такие большие, каких еще не было доселе направляемо в столицу: словом, с блюдо величиною, с кристаллами изумруда почти в четверть…». Кроме Екатеринбурга Александр Николаевич побывал в Нижнем Тагиле и на Березовских золотых промыслах. Затем были Камышлов, Миасс, Златоуст, Оренбург, Уральск…
Возвращение цесаревича (будущего императора Александра II) в столицу было омрачено грандиозным пожаром – горел Зимний дворец. Странное знамение, если учитывать, что возвращение с Урала императора Александра I было встречено катастрофическим потопом. Огонь и вода, до «медных труб» судьба определила Романовым еще 80 лет.
До конца XIX века различные представители династии не единожды посещали Урал: в 1868 году – великий князь Владимир Александрович, в 1873 году – великий князь Алексей Александрович, в 1887 году – великий князь Михаил Николаевич с сыном Сергеем Михайловичем. Однако царствующего императора среди «высоких» гостей не было.
Впрочем, летом 1891 года наследник престола 23-летний Николай Александрович, возвращаясь из кругосветного путешествия, все же посетил юг Урала. Вечером 21 июля 1891 года цесаревич въезжал в Троицк. Здесь его торжественно встречали депутации Троицка, Челябинска, Перми. «Толпы народа приветствовали цесаревича единодушным и многократным «ура»». Приняв рапорт и помолившись в Михайловской церкви, наследник проехал к своей временной квартире. Здесь цесаревичу были поднесены памятные подарки. От уральского казачества – яшмовое блюдо с солонкой, изготовленное на екатеринбургской гранильной фабрике, а от пермских горных заводов – скульптура чугунного литья «Джигитовка». Среди подарков был и альбом с накладной серебряной рыбкой и надписью: «Литье Каслинского завода Кыштымского округа, 1891г. Фотография В.Л.Метенкова в Екатеринбурге». На следующий день Николай Александрович присутствовал на параде войск местного гарнизона, посетил выставку изделий Кусинского завода, мужскую гимназию, женский монастырь и тот же день выехал в Верхнеуральск. Подробное описание этого путешествия оставил князь Э.Э.Ухтомский в своей книге: «Путешествие государя императора Николая II на Дальний Восток и по Сибири».
Второй раз Николай II побывал на Урале летом 1904 года. В поездке его сопровождал брат, великий князь Михаил Александрович, который на тот момент (до рождения 30 июля 1904 года в семье императора сына Алексея) являлся наследником престола. 29-го июня 1904 года император записал в своем дневнике: «… Вторник. […]. Днем начался подъем на Урал. Проезжали замечательные места, которые смотрели, сидя в заднем вагоне поезда. Погода стояла теплая, но дождливая». А 30 июня отметил: «Ночью стояли немного выше города Златоуста и утром увидели против окон известный столб с надписью Европа-Азия». Посещение Златоуста Николай II описал так: «После встречи поехали на парад, на котором представились отлично полки: 214-й Мокшанский и 282-й Черноярский. Местоположение было очень красивое – горы кругом и площадки парада. Дождь прошел, и даже показалось солнце. Заехав в собор у самого завода, вернулись на станцию, где осмотрели оружие и предметы, изготовляемые на заводе. В 10 часов уехали из г. Златоуста – остался очень доволен этим местом».
Если принять во внимание тот факт, что царственные особы вообще редко выезжали в восточные пределы своей империи, то визиты Николая II на Урал можно считать событиями весьма примечательными. И вряд ли кто мог тогда предположить, что следующий приезд Николая Александровича на Урал будет роковым в его жизни.
Из дневника Николая Романова: «17 апреля (1918 года – авт.). Вторник. Тоже чудный теплый день. В 8.40 прибыли в Екатеринбург. Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов, одолели первые, и поезд перешел к другой – товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с кот[орым] мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом – Ипатьева. Дом хороший, чистый…».
По трагическому стечению обстоятельств именно этот дом стал для Николая Александровича и его семьи последним земным убежищем. Из рассказа Я.М.Юровского о расстреле царской семьи на совещании старых большевиков в Свердловске 1 февраля 1934 года: «…Приготовил 12 наганов, распределил, кто кого будет расстреливать. […]. Спустившись в комнату (тут при входе в комнату справа очень широкое, чуть не во всю стену окно), я им предложил встать по стенке. […] Одновременно я распорядился, чтобы спустились люди, и велел, чтобы все были готовы и чтобы каждый, когда будет подана команда, был на своем месте. Николай, посадив Алексея, встал так, что собою его загородил. Сидел Алексей в левом от входа углу комнаты, и я тут же, насколько помню, сказал Николаю примерно следующее, что его царственные родственники и близкие как в стране, так и за границей, пытались его освободить, а что Совет рабочих депутатов постановил их расстрелять. Он спросил: «Что?» и повернулся лицом к Алексею. Я в это время в него выстрелил и убил наповал. Он так и не успел повернуться лицом к нам, чтобы получить ответ. Тут вместо порядка началась беспорядочная стрельба. […] Когда стрельбу приостановили, то оказалось, что дочери, Александра Федоровна и, кажется, фрейлина Демидова, а также Алексей были живы. Я подумал, что они попадали от страху или, может быть, намеренно, и потому еще живы. Тогда приступили достреливать (чтобы было поменьше крови, я заранее предложил стрелять в область сердца). Алексей так и остался сидеть, окаменевши. Я его пристрелил. А [в] дочерей стреляли, но ничего не выходило, тогда Ермаков пустил в ход штык, и это не помогло, тогда их пристрелили, стреляя в голову…».
Этими выстрелами закончилось для России относительно спокойное трехсотлетнее царствование дома Романовых. Династия, возникшая из смуты и благословленная на царство в Ипатьевском монастыре, была уничтожена новой смутой в подвале Ипатьевского дома.
Осенью 1977 года дом инженера Ипатьева был снесен. О храме на его месте начали говорить еще в 80-е годы. Спустя 22 года после разрушения многострадального дома на его месте началось строительство храма.
Источник: Акифьева Н. В. Уральские хроники дома Романовых / ВЕСИ. 2008. № 5. С. 59-64.
ЭКЗЕРЦИЦИИ УРАЛЬСКОЙ ТОПОНИМИКИ
Говорить о восстановлении исторической справедливости в отношении переименования Свердловской области, на наш взгляд, не совсем корректно. Начнем с того, что наша область, как субъект административно-территориального деления, существует относительно недавно. Так к началу XX века на территории Урала были расположены Вятская, Пермская, Оренбургская, Уфимская и частично Тобольская губернии. Екатеринбургский уезд входил тогда в состав Пермской губернии.
Переворот 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война вызвали на Урале частую смену властей, каждая из которых пыталась проводить многочисленные преобразования, в том числе и административно-территориальные. В 1917 году революционные власти пытались образовать единую Уральскую область в составе Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской губерний, честь быть столицей которой оспаривали Пермь и Екатеринбург. Однако с приходом к власти большевиков столица Урала была перенесена в Екатеринбург.
С лета 1918 по лето 1919 года Урал стал местом, где шла ожесточенная борьба за власть между большевиками и их противниками. Понятно, что в военных условиях административные области постоянно изменялись. Так во время Гражданской войны на территории края одновременно существовало несколько правительств – Временное областное правительство Урала (с центром в Екатеринбурге) и Комитет депутатов учредительного собрания (с центром в Ижевске).
В сентябре 1918 эти правительства передали свои полномочия Уфимской директории. Однако в ноябре 1918 года Уфимская директория была разогнана Колчаком, установившем свою власть на всей восточной территории страны, включая Урал.
Для читателя, наверное, будет интересно узнать, что в декабре 1918 года в Екатеринбурге был принят «Проект обоснования границ автономного Урала». Начиналась это автономная республика на севере с Новой Земли, а заканчивалось на юге Аральского и Каспийского морей. С востока грань проходила по линии Обдорск, Березов, Ялуторовск, Курган, Тургай, а с запада – Уральск, Елабуга, Глазов, Усть-Цыльма и река Индига, устье которой должно было стать портом «республики» на Ледовитом океане.
В августе 1919 года, после восстановления Советской власти на Урале здесь было образовано пять губерний: Екатеринбургская, Пермская, Челябинская, Уфимская и Тюменская.
3 ноября 1923 года ЦИК СССР принял постановление об образовании Уральской области, в состав которой вошли Екатеринбургская, Пермская, Челябинская и Тюменская губернии. По территории Уральская область превосходила Англию, Францию, Германию и Италию, вместе взятые. Административным центром Уральской области считался Екатеринбург (с 1924 года – Свердловск).
17 января 1934 года, постановлением ЦИК СССР, Уральская область была разделена на три области: Свердловскую с центром в Свердловске, Челябинскую с центром в Челябинске и Обь-Иртышскую с центром в Тюмени. В 1938 году из состава Свердловской области была выделена Пермская область с центром в Перми.
На этом череда административно-территориальных преобразований на Урале была в основном закончена и до настоящего времени никаких глобальных изменений (за исключением создания Пермского края) больше не происходило.
Толчком новых преобразований в стране стала, так называемая, перестройка. Тогда же появились и новые проекты в области топонимики. Так что вопрос и о переименовании Свердловской области всплыл не сегодня, по вот явную поддержку первого лица региона получил впервые. Вряд ли новый губернатор, в отличие от Росселя, выражает свое мнение. Скорее всего, вопрос теоретически уже решен на уровне правительства страны и требуется только техническое обеспечение процедуры. Единственным вразумительным оправданием для такой сложной операции может стать только реорганизация всего Уральского пространства, например, появление на карте страны нового образования – Уральской области. Возможно, что новый субъект будет состоять из трех областей – Свердловской, Челябинской и Курганской. Хотя здесь возможны варианты.
Насколько известно автору статьи вопрос о переименовании области не будет обсуждаться на референдуме. Широкой общественности разрешено лишь дискутировать и придумывать новые названия. Вполне вероятно, что Свердловская область (в смысле названия) доживает свои последние дни.
Но возникает вопрос – сколько будет стоить решение вопроса? Какова цена? С одной стороны, нормативные акты нашего государства не содержат требований о смене паспортов граждан, свидетельств о праве собственности, замены учредительных документов или каких-либо других бумаг. Хотя с другой стороны, все мы прекрасно знаем, что реформы (как правило) проводятся за счет граждан и переименование области вряд ли станет исключением. Но даже при всем сказанном выше – Уральская республика (например) автору гораздо ближе и понятней, чем Свердловская область.
Источник: Нина Акифьева, журнал ВЕСИ. 2010. № 5. С. 33.
Приложение ГАСО. Ф.р.1957. Оп.1. Д.1. Л.32-32об. Подлинник.
«Проект обоснования границ автономного Урала, Екатеринбург Декабрь 1918 г.
Определение границ области Урала в целях наибольшего культурно-экономического развития является делом большого государственного значения; поэтому и подходить к этому вопросу нужно с достаточной дальновидностью и логической последовательностью. Иная постановка вопроса неизбежно приведет лишь к частичному разрешению его, всегда неполному, почти всегда спорному и не удовлетворяющему поставленной цели.
Едва ли можно оспаривать, что такая обширная страна, как Россия, охватывающая значительную часть света, не может, даже при самых благоприятных условиях, исключительно и во всех отношениях управляться из далеких центров; поэтому необходимость областного самоуправления становится вполне естественной.
Принцип определения территории области Урала по признаку горнозаводского уклада является основным, а потому и должен служить исходной точкой зрения.
Исходя из этого основного положения, необходимо остановиться на выяснении тех дополнительных признаков и условий, которыми следует руководиться при определении территории, тяготеющей к основному ядру области Урала.
Такими признаками являются: прежде всего, географическое расположение с системою естественных и искусственных путей сообщения, затем этнографический, исторический и бытовой облик, отразивший на себе социально-экономическую структуру области, а также хозяйственно-экономическое состояние ее.
Перед нами должен стоять, как идеал достижения, Урал в естественных границах его областного культурно-экономического самоопределения.
Что касается географических линий, охватывающих эту систему горного хозяйства в широком экономическом смысле его, то за основания могут быть взяты данные К.Д. Носилова, намечающего границы области Урала на севере с Новой Земли, кончающего их, на юге Аральского и Каспийского морей; – с востока ставящего грань у Обдорска, Березова, Ялуторовска, Кургана, Тургая, с запада – у Уральска, Елабуги, Глазова, Усть-Сысольска, Усть-Цыльмы и р Индиги (устье которой может быть превращено в порт Ледовитого океана).
Однако Прикаспийский и Приаральский край, в пределах Тургайской и Уральской области, представляет район настолько своеобразный по своему характеру, что присоединение его к территории Урала представляется малообоснованным.
Ядром области Урала нужно признать поэтому все четыре губернии, которые всегда объединялись по взаимному культурному и экономическому тяготению друг к другу в области Урала, т.е. Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую и Вятскую, охватывающие горнозаводскую систему хозяйства Урала в полном объеме и во всех его разветвлениях и представляющие сочетание горнозаводских и сельскохозяйственных элементов, тесно связанных между собою на Урале.
К этому основному ядру Урала должен быть отнесен весь Северный и Полярный Урал с тяготеющими к нему с востока и запада районами. С востока западная часть Березовского уезда Тобольской губернии по линии Байдарацкая губа – р Щучья – Левобережная Обь – Березов, идущей до крутого поворота Оби (считая по ее течению) с востока на север и до смыкания Березовского, Тобольского и Туринского уездов, Туринский уезд целиком, Тюменский с точки смыкания его с Тобольским и Туринским до впадения реки Туры в Тобол; Ялуторовский и Курганский уезды по р Тоболу до линии смыкания Курганского уезда с границей Оренбургской г.
К западному склону Северного Урала должны быть прирезаны, как это полагало Главное управление финансов Урала, тяготеющие к нему части Усть-Сысольского Вологодской губ и Мезенского Архангельской губ (от точки смыкания Усть-Сысольского уезда с Вятской), жизнь которых исторически связана с Уралом.
Вообще весь север в указанных границах должен быть соответственно соображениям Главного управления финансов, отнесен к области Урала Центры тяжести горнозаводской промышленности могут быть в ближайшие же годы отнесены к северу, и там развитие производительных сил Урала обещает широкие перспективы. Отдаленность Северного и Полярного Урала не играет особой роли. Железн дороги в направлении, с одной стороны, к выходу в Ледовитый океан, с другой стороны, на север, выше Никито-Ивделя, и изведанные золотоносные и платиновые районы, и сеть подсобных и подъездных путей приблизит этот край к центру Урала и свяжет крепкими узами все эти районы в одно целое – область Урала.
Таким образом, территория области Урала, в основе своей определенная в записках Временного областного правительства Урала, должна принять схему, очерченную в настоящем докладе».
ПРЕДЧУВСТВИЕ КОСМОСА
Какими бы решающими для Победы не были военные действия на фронте, судьба нашей Родины в годы Великой Отечественной войны решалась не только на передовой. И Уралу здесь отводилась совершенно особая роль. Обладая уникальными природными ресурсами, высококвалифицированными рабочими кадрами и историческим опытом производства вооружений еще со времен Петра I, регион с первых же месяцев войны был выдвинут на роль главного арсенала Красной Армии.
В 1941-1942-м годах на Урал было эвакуировано более 700 оборонных предприятий, что значительно усилило его военно-промышленный потенциал и позволило изготавливать практически все виды военной продукции. Однако такой авиационной экзотики как в районном поселке Билимбай Свердловской области не было, наверное, больше нигде.
Одними из первых прибыли в Билимбай сотрудники военного завода №293. Возглавлял это предприятие авиаконструктор В.Ф. Болховитинов. К сожалению, сегодня это имя почти не известно широкой публике. В истории нашей авиации профессор Болховитинов не пользовался славой всемирно известных генеральных конструкторов, гораздо больше Виктор Федорович известен как генератор талантов. Билимбаевскую «школу» Болховитинова прошли тогда многие авиационные и космические конструкторы с мировым именем. Это создатель крылатых ракет Александр Березняк; разработчик жидкостных реактивных двигателей для ракет подводных лодок и космических аппаратов Алексей Исаев; автор и первый разработчик турбореактивных двигателей Архип Люлька; заместители главного конструктора Королева, Михаил Мельников и Борис Черток. Сам же Виктор Федорович до конца своих дней будет считать «билимбаевский период» главным этапом в своей жизни – временем начала эры отечественной реактивной авиации.

Самолет БИ2 в Кольцово,1942 г. Фото из музея школы №23, п. Билимбай
Такова краткая предыстория создания в Билимбае первого отечественного ракетного самолета с жидкостным реактивным двигателем, получившего позднее название БИ-1, что на этапе проектирования означало «ближний истребитель», а в перспективе имелось в виду, что «БИ» будет означать «Болховитинова истребитель». В дальнейшем, название «БИ», с легкой руки журналистов, стало связываться по сходности букв с именами Березняка и Исаева.
Борис Евсеевич Черток вспоминал о тех днях: «В Билимбай прибыли утром 7 ноября. Он встретил нас двадцатиградусным морозом. Несмотря на праздник – 24-ю годовщину Октябрьской революции, объявили всенародный аврал по разгрузке эшелона. Местная власть всех прибывших временно разместила в просторном «Божьем храме» – прямо на холодном каменном полу. Пока женщины устраивали в церкви детей и налаживали быт, весь мужской состав начал перетаскивать оборудование на отданный в наше распоряжение чугунолитейный завод».
«Демидовская технология петровских времен», – сказал, осмотревшись вокруг, главный инженер 293-го Волков. Он и Болховитинов, выполняя приказ наркома авиационной промышленности Шахурина, успели прибыть на место раньше основного эшелона, подготовиться к расселению людей и отвоевать у других претендентов на литейный завод основную часть его площадки. Последнее было совсем не лишним, учитывая, что кроме 293-го в Билимбай прибыли коллективы вертолетного КБ Камова – Миля и агрегатного завода Привалова, изготавливающего парашютно-десантное оборудование.
«Мы с товарищами, – вспоминал Черток, – имели возможность осмотреть будущее место работы. Завод задолго до войны бездействовал, и теперь, при сильном морозе, припорошенная первым снегом его территория производила угнетающее впечатление. Окна были выбиты, рамы выломаны. Ни ворот, ни дверей мы не увидели. Вагранки и еще какие-то литейные сооружения забиты «козлами». На дворе и под дырявой крышей груды окаменевшего на морозе шлака и тонны всяческого металлолома. Болховитинов где-то отыскал строителя, с которым в маленькой конторке к нашему приезду успел составить подобие проекта реконструкции». Предстояло превратить это «чугунолитейное кладбище» в авиационный завод и одновременно переучивать бывших металлургов в авиастроителей. Но, констатировал Черток: «За плотно закрытыми глухими воротами всех домов остались только женщины и старики. Вся молодежь была в армии».
Зимой 1941-1942 годов мороз был особенно жесток. Труднейшей проблемой стало поддержание приемлемой температуры в домах. Заготовка дров превратилась для сотрудников в столь же обязательную деятельность, как и основная работа. Михаил Мельников писал: «В Билимбае мы сначала валили лес. Причем меня поставили бригадиром ребят-ремесленников, а это были ребятишки возрастом 14-16 лет, многие девочки и мальчики работали в токарном цеху. Так вот они работали, стоя на ящике, и часто бывало, что один уснет и сваливается с ящика, поэтому все работали одетыми и в шапках-ушанках. У кого не было своей, тому выдавали ватную толстую шапку, чтобы, если упадет, не ушибся сильно. Вот и мне дали такую группу ребят, человек 10 их было. Вместе поднимали бревно, клали конец на стол, другой конец я держал на руках и толкал на пилу вдоль соответствующего приспособления. И уже где-то к 12 часам ночи (а в 12 часов был конец рабочего дня) я шел с очередным бревном и потерял сознание, расстояние до пилы было около метра, а я продолжал идти и толкать. Девочка поняла, что со мной плохо и выключила пилу, мальчик бросился на меня и толкнул в сторону. Я пришел в себя, обе руки остались целы, я даже не понял, что со мной произошло, и только на следующий день я осознал, пришел, ребят построил, вызвал этих двоих и им в ноги поклонился. Они, можно сказать, подвиг совершили, тоже рисковали».
К сожалению, Михаил Васильевич не вспомнил имен тех билимбаевских ребят, а они, в свою очередь, наверное, так никогда и не узнали, что спасли жизнь будущему заместителю Сергея Павловича Королева.
Тогда, в декабре 1941 года (мороз 40-45 градусов, ветер обжигающий), работы по самолету БИ, казались далекими «Васюками». Такое словечко было тогда популярно в КБ Исаева и, как правило, подразумевало перспективное и далекое будущее. А начинать пришлось с расчистки и облагораживания заводской территории. Вот как спустя много лет рассказал об этом М.В. Мельников: «У нас под крышей на большом железном листе горел постоянно костер, и два человека примерно десять минут работают, два человека греются у костра, отдыхают. Но особенностью работы было вот что: надо было взять гвоздь и его забить. Перчаток не было, были только варежки, а ими гвоздь не возьмешь, поэтому верхняя часть варежки была срезана, на большом пальце тоже конец был отрезан, и берешь гвоздь двумя пальцами, ставишь на место и забиваешь. Так как лес был мороженный, то мы так наловчились, что забивали этот гвоздь за один удар».
Основным средством поддержания жизнедеятельности сотрудников были 600 граммов хлеба на человека и горячая «билимбаиха». «Билимбаихой» – писал Черток, – мы прозвали черную лапшу, сваренную в кипятке без всяких жиров. Тарелка на «первое» и такая же на «второе» – этот обед мы получали в барачном сооружении, которое называли «ресторан Большой Урал». Подспорьем служил спирт. Его небольшими дозами распределялся среди работающих и, время от времени, обменивали на молоко или мясо.
Но как бы, ни было трудно, а работы на заводе шли своим чередом, и уже в декабре 1941 года было закончено сооружение «испытательной станции». Такое громкое название у заводчан получил тривиальный стенд, который строители соорудили на берегу Билимбаевского пруда. Стенд представлял собой сваренную из железных труб и огороженную фанерой «халабуду», в которой помещался фюзеляж самолета без крыльев, но с кабиной пилота. Основным содержанием фюзеляжа были баллоны азотной кислоты, керосина и сжатого воздуха. Хвост фюзеляжа с двигателем был обращен в сторону пруда. В случае неприятностей при огневых испытаниях все, что связано с азотной кислотой, по идее должно было свалиться в воду. Для секретности стенд защитили высоким забором от любопытных.



