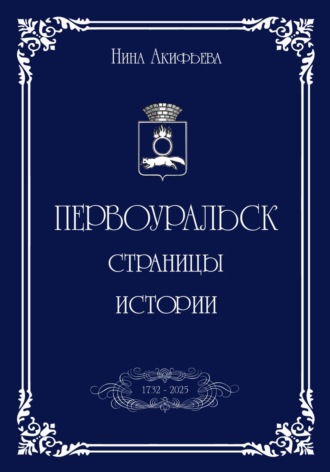
Полная версия
Первоуральск: страницы истории
К новогоднему празднику на заводе восстановили теплосеть и котельную, подали во все рабочие помещения тепло и провели освещение. Бездетные холостяки предпочитали ночевать на рабочих местах, и на ночь конструкторский зал превращался в просторную общую спальню. Здание ожило – на первом этаже загудели станки, на втором разместились конструкторы, которые наконец-то могли работать у кульманов без ватников и рукавиц, а в сборочном цехе началось одновременное изготовление двигателей для трех самолетов.
Руководство НИИ ВВС, зная, что заводской летчик-испытатель Борис Кудрин находился тогда в госпитале, прикрепило к заводу капитана Григория Яковлевича Бахчиванджи. Летчик был представлен коллективу и сразу всем понравился. Никакой спеси, «так свойственной многим летчикам-испытателям» у него не было. Александра Михайловна Лузина (Оглоблина) вспоминала: «В 1941 году, окончив семь классов, в 15-летнем возрасте поступила работать на завод 293. Во время работы на заводе часто приходилось видеть Бахчиванджи. Это был очень общительный человек. При посещении завода он встречал и провожал рабочих приветливой репликой: «Идут мои братцы-кролики!».
Бахчиванджи изумлял всех тем, что, прилетая в Билимбай из Кольцова на легком спортивном самолете, садился на заснеженный лед озера и подруливал к самому стенду. «В черном кожаном реглане, летном шлеме и начищенных хромовых сапогах, утопавших в снегу, он казался посланцем из далекого мира, с подмосковных теплых аэродромов» – вспоминал Борис Черток.
«Я стояла на посту у самолета, – вспоминала жительница Билимбая Ксения Александровна Архипова, – подходит молодой человек в форме летчика. Спрашиваю: Ваш пропуск! Он улыбается и говорит, что он хозяин этого самолета. – Я не знаю! Мне нужен пропуск! Он подает мне пропуск с другого завода и улыбается, как будто проверяет меня. Разберусь ли я в этом пропуске? Пропуск был с завода №290, и я сказала ему, что не пропущу его по этому пропуску к самолету. Тогда, улыбаясь, он предъявил пропуск с нашего завода. Похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец, мамаша, нас летчиков много, могут подойти и другие».
Первые запуски двигателя на импровизированном стенде проводил один из сотрудников легендарной ГИРД (группа изучения реактивного движения) конструктор реактивных двигателей Арвид Палло. Условия проведения испытаний были суровыми: температура воздуха часто падала до минус 40С°.
Первые испытания на стенде с участием Бахчиванджи прошли 20 февраля 1942 года. Этот запуск двигателя мог стать последними, как для летчика (в день его рождения), так и для конструктора. Арвид Палло, вспоминая тот день, писал: «Несмотря на грамотные действия Бахчиванджи, произошел взрыв. Все окуталось парами азотной кислоты. При взрыве головка двигателя сорвалась с креплений, пролетела между баками азотной кислоты, ударилась о бронеспинку сиденья пилота и сорвала крепежные болты. Бахчиванджи ударился головой о доску приборов. Первым стремлением было выйти из пристройки, воспользовавшись боковым выходом. Но тут-то возникла мысль, а что с Григорием Яковлевичем? И тогда, протянув руку в направлении кабины, я на ощупь обнаружил меховой воротник кожанки Григория Яковлевича. Сильно потянув за воротник, почувствовал, что Григорий Яковлевич поддается. Помогая ему выбраться из кабины, вытолкнул его в передние выходные ворота пристройки. Здесь его подхватили руки механиков и стали обмывать содовым раствором. Выйдя из пристройки и набрав в легкие порцию свежего воздуха, почувствовал сильное жжение лица и с головой окунулся в снежный сугроб. Стало легче. Механики стенда вытащили меня из сугроба и, увидев вместо лица зеленовато-желтую маску, опустили голову в бачок с содовым раствором. Возможно, другой летчик-испытатель после происшедшей аварии сразу отказался бы от дальнейшего участия в работе, заявив, что не все доработано, не все надежно. Однако Григорий Яковлевич без всякого колебания решительно выступил за скорейшее продолжение работ, за скорейший полет».
Неожиданно число сотрудников КБ Болховитинова в Билимбае заметно увеличилось, так как наркоматом было принято решение включить в состав 293-го завода коллектив будущего создателя первого советского турбореактивного двигателя Архипа Люлька, руководителя СКБ-1 при Ленинградском заводе имени Кирова. «Мы вели в Билимбае полуголодное существование – вспоминал Борис Черток, – однако, что такое настоящий голод, мы услышали от спасенных ленинградцев. Черную «билимбаиху» они поедали, сберегая каждую каплю малосъедобного, с нашей точки зрения, варева. Ни единой крошки хлеба они не роняли».
В марте 1942 года испытательный стенд был восстановлен после аварии, а в систему питания ЖРД внесены изменения. В начале апреля из казанской тюрьмы НКВД был выпущен один из пионеров отечественной ракетной техники Валентин Петрович Глушко. Из Казани он приехал в Билимбай где ознакомился с конструкцией самолета и стендовой испытательной установкой. Вскоре дело дошло и до монтажа. Деревянный планер конструкции А.Я. Березняка, изготовленный в деревообделочном цехе одного из уральских заводов, в начале апреля был перевезен в Билимбай, где после установки двигателя и стал тем самым легендарным самолетом БИ-1.
25 апреля первый самолет на двух грузовиках был переправлен в Кольцово на летную базу НИИ ВВС. 2 мая Бахчиванджи провел первую пробежку по аэродрому не на буксире грузовика, а с работающим двигателем. «Это было уже вечером. Стемнело, и яркий сноп огня, с ревом вырывающийся из хвоста маленького самолетика, производил необычное впечатление. Во время пробежки Бахчи, убедившись, что хвост на скорости поднимается, прибавил газ, и машина оторвалась от земли. Самолет пролетел на высоте одного метра около пятидесяти метров и плавно приземлился», – вспоминал Борис Евсеевич Черток.
Утром 15 мая 1942 года произошло событие, ставшее шагом к освоению космоса и навсегда вошедшее в летопись отечественной космонавтики – взлет с грунта первого советского самолета с жидкостным реактивным двигателем. Впервые прозвучала команда не «от винта», а «от хвоста». Л.С. Душкин в своих воспоминаниях об этом дне, писал так: «На аэродром Бахчиванджи пришел в новом пальто и новых хромовых сапогах. А перед командой на взлет сел в самолет в старой куртке и старых сапогах. На вопрос, зачем он переоделся, Бахчиванджи ответил, что новое пальто и сапоги могут пригодиться жене, а поношенное одеяние не помешает ему выполнить задание».
В своем первом (до сих пор неопубликованном выступлении) 1962 года В.Ф. Болховитинов писал: «Для нас, стоявших на земле, этот взлет был необычным. Непривычно быстро набирая скорость, самолет через 10 секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки». «Наконец, светящаяся точка исчезла, – продолжал рассказ Болховитинова Арвид Палло, – и появилось небольшое, желтого цвета облако. Прекратился звук работающего двигателя, и самолет в режиме планирования стал заходить на посадку. С земли было видно, что Григорий Яковлевич заходит на посадку слишком высоко. Он это сам заметил и стал выполнять попеременное скольжение на правое и левое крыло. Снизив при этом маневре скорость, самолет, видимо, потерял управляемость и с небольшой высоты, с креном влево, подломив шасси, упал на землю. По летному полю вперед и влево покатилось одиноко колесо от шасси. Все произошло быстро и неожиданно. И вдруг видим, как из кабины самолета вылезает Григорий Яковлевич. Сразу стало легче».
Полет продолжался 3 мин. 9 сек. Самописцы зафиксировали максимальную высоту полета 840 м, скорость 400 км/ч. В послеполетном донесении летчик-испытатель отмечал, что полет на самолете «БИ» в сравнении с обычными типами самолетов исключительно приятен, а по легкости управления самолет превосходит другие истребители.
Полет произвел яркое впечатление на всех присутствующих, не исключая и членов государственной комиссии, отметивших в официальном акте, что: «Взлет и полет самолета БИ-1 с ракетным двигателем, впервые примененным в качестве основного двигателя самолета, доказал возможность практического осуществления полета на новом принципе что открывает новое направление развития авиации», а Василий Павлович Мишин, в свою очередь, подчеркнул: «Все понимали, что присутствуют при рождении новой ракетной эры авиации».
Через день после испытаний в Билимбае была устроена торжественная встреча и митинг. Над столом президиума висел плакат: «Привет капитану Бахчиванджи, летчику, совершившему полет в новое!». Наркому Шахурину и командованию ВВС срочно был отправлен бодрый доклад. В ответ последовало решение ГКО о постройке серии из 20 самолетов с устранением всех обнаруженных недостатков и полным вооружением.
В коллективе царило приподнятое настроение. Оно подкреплялось наступлением лета. Но не все провели его на Урале. Одним из первых уехал в Москву Борис Евсеевич. Интересно, что, попав в прифронтовую столицу, Черток неожиданно для себя отметил: «В магазинах и столовых все продукты отпускались строго по талонам и карточкам. Было далеко не сытно, но никто из десятков людей, с которыми я встречался, не голодал. Во всяком случае, в Билимбае было куда хуже».
А на Урале продолжались испытания. И в каждом из полетов происходило нарастание скорости. В воспоминаниях А.В. Палло имеется колоритное высказывание летчика К.А.Груздева после полета на БИ-2 12 января 1943 года: «И быстро, и страшно, и очень позади. Как черт на метле».
27 марта 1943 года при очередном летном испытании БИ-3 погиб Григорий Бахчиванджи. В.П. Мишин, очевидец этого события, вспоминал: «27 марта 1943 года Бахчиванджи произвел взлет, сделал два разворота, на прямолинейном участке, вышел на максимальную скорость, после чего неожиданно вошел в крутое пике и, не выходя из него, воткнулся в землю на границе аэродрома. Когда подъехали к месту трагедии, там практически ничего не осталось, самолет был цельнодеревянный, поэтому сгорело все».
В этих полетах были зафиксированы наивысшие летные показатели самолета «БИ» – максимальная скорость 680 км/ч (расчетная 1020 км/ч на высоте 10 000 м), высота полета 4000 м, время полета 6 мин 22 сек.
После аварии самолеты серии «БИ» в Кольцово больше не взлетали, однако уральский опыт не пропал даром, а стал надежным плацдармом для дальнейшего развития отечественной авиационной и космической техники. Через шесть лет после взлета Бахчиванджи в СССР был создан уникальный реактивный истребитель МИГ-15, через 10 лет – сверхзвуковой истребитель МИГ-19, а менее чем через 20 лет – Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос и сказал, что если бы не было полетов Бахчиванджи, возможно не было бы и этого его полета.
В тексте использованы:
1.Документы Российского Государственного архива научно-технической документации (РГАНТД): воспоминания А.В. Палло (Ф.99. Оп. 10зв. Ед. хр.872-1); воспоминания В.Ф. Болховитинова (Ф.99. Оп. 6зв. Ед. хр.479-4); воспоминания В.П. Мишина (Ф.99. Оп. 6зв. Ед. хр479-3); воспоминания М.В. Мельников (Ф.99. Оп. 11зв. Ед. хр. 926, 927).
2.Материалы поисковой работы музея школы №23 поселка Билимбай.
3.Локтев А. Четыре встречи с Арвидом Палло // Вестник. 18(225), 31 августа 1999.
4.Черток Б.Е. Ракеты и люди. Фили – Подлипки – Тюратам. М.: Машиностроение, 1999.
Источник: Нина Акифьева, Областная газета. 2007. 2 марта (№ 63-64) (с испр. и доп.)
БИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ДИЛЕТАНТА
Я никогда не писала рецензий на документальные фильмы. Не стала бы и в этот раз. Но… Посмотрела фильм, прочитала комментарии. И не удержалась.
Цитата из фильма: «Здесь над созданием первого реактивного работали ставшие всемирно известными Михаил Миль и Борис Черток».
Спорное заявление. Борис Евсеевич Черток действительно участвовал в создании, доводке и испытаниях самолета БИ-1. Тогда как Михаил Леонтьевич Миль участия в работах над БИ-1 не принимал. В Билимбае Миль (завод № 290) занимался разработкой автожира АК (вертолетами их стали называть позже) и попутно вопросами усовершенствования управления самолетов.
Миль, безусловно, знал, чем занимаются на заводе № 293 (подтверждением этого может служить интерес, проявленный Милем к ракетным двигателям, в конце 1940-х в КБ Миля был разработан, а в начале 1950-х годов создан, опытный образец вертолета В-7 с турбореактивными двигателями на концах лопастей). Но повторим, участия в разработке БИ-1 Миль не принимал, во всяком случае, нам ничего по этому поводу неизвестно.
Зато самое деятельное участие принимал, например, ведущий инженер-испытатель «фирмы» Душкина, Арвид Владимирович Палло. Заметим, что на БИ-1 в качестве основной двигательной установки использовался двигатель конструкции Леонида Степановича Душкина – Д-1-А-1100. И самое непосредственное))) участие в проекте принимали (без этих людей самолета «БИ» вообще бы не было): руководитель завода № 293 – Виктор Федорович Болховитинов и его подчиненные: Александр Березняк, Алексей Исаев, Алексей Росляков, Михаил Мельников.
Цитата из фильма: «Перед войной Григорий Бахчиванджи был определен как ведущий летчик-испытатель по этой теме».
Не совсем так. Изначально летные испытания по проекту БИ-1 были поручены летчику-испытателю Б.Н. Кудрину. Григорий Бахчиванджи присоединился к проекту «БИ» в декабре 1941 года, так как на тот момент заводской летчик-испытатель Борис Кудрин находился на излечении в госпитале.
Цитата из фильма: «Испытания двигателя велись в подвале Свято-Троицкого храма…».
Это, безусловно, «промах» создателей фильма. Вы, вообще, те подвалы видели? Из воспоминаний Мельникова: «Для опытов с двигателем, на берегу Билимбаевского пруда, на месте, где в строгановские времена стояла водяная турбина […] был небольшой кусок земли (плотина – авт), на нем и устроили испытательную станцию. На огороженном пространстве стоял макет фюзеляжа самолета БИ с полной компоновкой и штатной двигательной установкой с баллонами». [РГАНТД. Ф. 99. Оп. 10 зв. Д. 872-1].
Что происходило при испытаниях? Свидетельствует Алексей Исаев: «Струя вылетала из сопла с огромной скоростью и большой температурой, выбрасывая вверх песок и камни – одним словом, всё, что встречалось на пути…». Так что результаты испытаний, проходи они в подвале Свято-Троицкой церкви, закончились бы для почтенного храма плачевно. Кстати, в книге, которую так часто цитируют «за кадром» фильма, конструкция стенда и место его нахождения описаны довольно подробно.
Приведу еще одно свидетельство опасности эксперимента от Мельникова: «И вот мы с Исаевым приехали [в Нижний Тагил], там в одном из цехов осваивалась арматура для БИ-2, мы приехали в этот цех на испытания баллонов для азотной кислоты. Это баллон литров на 200-300, если не больше, такой продолговатый, испытывался на давление разрушения […], причем в баллоне по существу воздуха не было, а была вода. Баллон лежал на подвеске над столом, сбоку был поставлен фанерный щит, за этим фанерным щитом стояли начальник цеха, слесарь-испытатель, сварщик, Исаев и я. И мы, собственно, вот за этим стояли, когда подняли давление, баллон разорвался и произошло событие, от которого мы просто начисто обалдели. Крышу, которая была на высоте порядка 6-8 метров, сорвало этой струей воды, а вода прошила тавровую балку, толщиной 8-10 мм. Дырка рядом. Я подумал: «Исаева она могла прошить легче, чем эту тавровую балку». [РГАНТД. Ф. 99. Оп. 11зв. Д. 926, 927].
Я, наверное, огорчу поборников связки «храм-самолет». Но информация о том, что двигатель «собирали в подвале Cвятотроицкого храма» http://www.pervouralsk.ru/news/20181 также не соответствует действительности. Все работы по проекту «БИ» проводились на территории чугунолитейного завода, включая стенд на плотине.
Цитата из фильма: «20 числа февраля оттуда [из Свято-Троицкого храма] достали двигатель, привезли от плотинки фюзеляж, здесь состыковали. Отсюда вся испытательная группа во главе с Бахчиванджи выкатила Би 1. Здесь Григорий Яковлевич запускает и своим ходом спускается до берега Билимбаевского водохранилища. Здесь он скатывается с улицы Свердлова на лед и в направлении на северо-восток взлетает, делает разворот и сразу садится, и подкатывает к тому зданию, где стояла группа офицеров и генералов вооруженных сил…».
С мифами бороться невозможно, но попробуем. Сначала пройдемся по датам. Итак, свидетельствует Мельников: «20 февраля 1942 года Исаев привел меня на испытательный стенд. Часам к 10, приехали Бахчиванджи и Арвид Палло. Бахчи сел в кабину, за спиной у него была броневая спинка, и на случай аварии она его защищала. Перед испытанием мы встали на расстояние от двигателя примерно метров 10-12 под углом 45 градусов к направлению струи. Вот это надо хорошо себе представлять, чтобы понять, что произошло дальше. Палло стоит рядом с кабиной, в которой на кресле сидит Бахчи, Исаев объясняет, что сначала будет гудок, потом будет два, а потом будет струя. Вот такое образное объяснение: гудок, второй гудок, взрыв, что-то просвистело над головой у Исаева и упало в снег за нами. Мы увидели, что Бахчи клюнул носом вперед, спинка сорвалась с крепления и как бы нажала. Мы бросились, естественно, к Бахчи, а рядом стоял облитый азотной кислотой Палло. С помощью Палло и еще одного механика замечательного, Малышкина, мы вытащили Бахчи, посадили его на машину и отправили в больницу. […]. Арвид был в значительно более тяжелом состоянии, чем Бахчи, и, наверное, нам надо было вперед именно Арвида посадить и отправить в больницу. […]. Потом Исаев мне говорит: «Мишель, иди домой, и я пойду, надо в себя прийти». [РГАНТД. Ф. 99. Оп. 11. Д. 926, 927].
Таким образом, 20 февраля не было не только самолета, не было даже испытательной установки.
Теперь – по фактам. Мог ли самолет «БИ» следовать «своим ходом» по улице? Исключено. Алексей Исаев о характеристиках двигателя: «Маленький такой, а шум создавал адский! И запуск был необычен. Он не имел плавного управления, пуск осуществлялся с большим хлопком, даже взрывом. И сразу – работа на полную мощность. Прожорливый агрегат расходовал около 6 килограмм горючего в секунду. Таким образом, общего запаса топлива в 705 килограмм должно было хватить на работу двигателя в течение двух минут. Как и на аналогичных самолётах, проблема была в том, что после запуска двигатель невозможно было остановить до полной выработки топлива». Согласитесь, что весьма проблематично прокатиться с таким агрегатом по улицам поселка.
И еще факты. Вот как описывал Душкин все необходимые мероприятия при подготовке к первому полету:
25 апреля. Заседание комиссии. Изучение материалов.
26 апреля. Обследование аэродрома и прилегающей местности.
27-29 апреля. Осмотр материальной части самолета и двигателя.
30 апреля. Огневые испытания двигателя, установленного в самолете, с управлением его работой.
1 мая. Заправка самолета топливом для ЖРД. Взвешивание, проверка работы систем управления в самолете.
2 мая. Проверка самолета с работающим двигателем по аэродрому. Время 20 час.30 мин.
3 мая. Проверка на герметичность топливных баков, трубопроводов.
4-7 мая. Доработка самолета и двигательной установки по рекомендациям комиссии (смотровые окна, крепеж защитных покрышек от воздействия азота и др.).
8-11 мая. Плохая погода, наземные работы выполнять нельзя.
12 мая. Укатка грунта аэродрома на взлетно-посадочной полосе.
13 мая. Осуществление подлета самолета на аэродроме с работающим двигателем. Время 21 час. 30 мин.
14 мая. Заседание комиссии по разработке полетного задания.
15 мая. Осуществление полета на "БИ-1". Время 19 час.
16-20 мая. Составление и оформление отчетов и актов по полету.
[РГАНТД, Ф. 133. Оп. 3. Д. 294, 297, 298, 299]
Согласитесь, это совсем не то, что «достали двигатель, состыковали» и полетели.
Цитата из фильма: «Принято считать, что первый полет Бахчиванджи состоялся 15 мая 1942 года в Кольцово. Однако тот полет, скорее, был показательным а самый первый испытательный взлет был здесь, в Билимбае в феврале того же года…»
Здесь мне сказать нечего (все сказано выше) – как принято, так и будем считать!
Цитата от очевидца: «Первый полет состоялся 15 мая 1942 года в 19 часов [в Кольцово]. Впервые прозвучала команда не «от винта», а «от хвоста». [РГАНТД Ф. 99. Оп. 27зв. Д. 1326-8]. Болховитинов вспоминал: «Для нас, стоявших на земле, этот взлет был необычным. Непривычно быстро набирая скорость, самолет через 10 секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки. Наконец, Бахчиванджи возвратился и сел на аэродром. Посадка получилась жесткой, одна стойка шасси подломилась, колесо отскочило и покатилось по аэродрому. Для летчика это тоже был не просто первый полет на новом самолете, но полет на аппарате новых непривычных качеств, которые потребовали от него убыстрения всех действий и мышления в силу кратковременности полета и сильно возросших ускорений движения. Машина вела себя совершенно не так, как другие самолеты того времени, из-за этого летчик не полностью выполнил заданную программу, но главным было то, что он осуществил этот полет и благополучно возвратился. Все почувствовали, что совершен полет в новое, проложен новый путь в еще неизведанные области, положено начало новому этапу развития летательных аппаратов – эре ракетных полетов». [РГАНТД Ф. 99. Оп. 6зв. Д. 479-4.].
Цитата из фильма: «В историческом формуляре написано, что в декабре 1941 года была получена информация, что немецкая диверсионная группа получила задание на уничтожение базы… В первых числах января эта группа в количестве 20 человек была обнаружена в районе между селом Первомайским и Перескачкой».
Скажу сразу, что под такое заявление следовало бы предложить более весомую аргументацию. Во всяком случае, мне известен только один случай попытки осуществления практической диверсии «немецкой» диверсионной группой на Среднем Урале. Кратко воспроизведу рассказ своего коллеги, доктора исторических наук Владимира Мотревича (журнал «Родина» №11 2001). «В опубликованных в последние годы в России воспоминаниях обер-штурмбаннфюрера СС Отто Скорцени отмечалось, что техническая служба VI управления РСХА в 1943 году разработала план диверсий в советском тылу, целью которого было полное или частичное уничтожение оборонных заводов. Операция получила название «Ульм». Судя по обнаруженным архивным материалам, немецкая разведка действительно предпринимала усилия в этом направлении. […]. В ночь на 18 февраля 1944 года через советско-германский фронт были переброшены семь диверсантов. В прошлом шестеро из них были военнослужащими Красной армии, при разных обстоятельствах оказавшимися в германском плену. […]. Шпионско-диверсионная группа вылетела с рижского аэродрома и после дозаправки самолета в Пскове отправилась дальше на Восток. По плану германской разведки ей предстояло действовать в Свердловской области, однако по неизвестным причинам диверсанты были выброшены раньше и приземлились в Юрлинском районе Молотовской (Пермской) области. […]. Один из парашютистов повис на дереве, не смог приземлиться и замерз. В результате сильного голода и обморожений двое диверсантов, в том числе старший группы, покончили жизнь самоубийством. Еще один член группы во время приземления сильно обморозил ноги, у него началась гангрена, спустя месяц его застрелили. […]. 5 июня 1944 года, то есть спустя четыре месяца после приземления в советском тылу, трое оставшихся в живых парашютистов, не осуществив каких-либо террористических актов, явились с повинной в РО НКВД Бисеровского района Кировской области и сдались». Владимир Мотревич, журнал «Родина» №11 2001.
Нина Акифьева, 15 мая 2015 г.
БИ ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Утром 15 мая 1942 года произошло событие, ставшее важным шагом к освоению космоса и навсегда вошедшее в летопись отечественной космонавтики, – взлёт первого советского самолёта с жидкостным реактивным двигателем. В официальных документах опытный образец именовался однозначно: «Самолёт перехватчик конструкции Болховитинова». Неофициально его звали «БИ», что для всех посвященных обозначало то же самое: «Болховитинова истребитель».
Полёт истребителя-перехватчика, снабжённого жидкостным реактивным двигателем (ЖРД), произвёл яркое впечатление на всех присутствующих. В официальном акте Государственной комиссии, было отмечено: «Взлёт и полёт самолёта БИ-1 с ракетным двигателем, впервые применённым в качестве основного двигателя самолёта, доказал возможность практического осуществления полёта на новом принципе, что открывает новое направление развития авиации». В Билимбае была устроена торжественная встреча и митинг. Над столом президиума висел плакат: «Привет капитану Бахчиванджи, лётчику, совершившему полет в новое!». Наркому Шахурину и командованию ВВС был срочно отправлен отчет. А ещё через три недели на столе у Председателя Государственного комитета обороны, И. В. Сталина, лежал доклад о «постройке войсковой серии» в количестве 30 штук.



