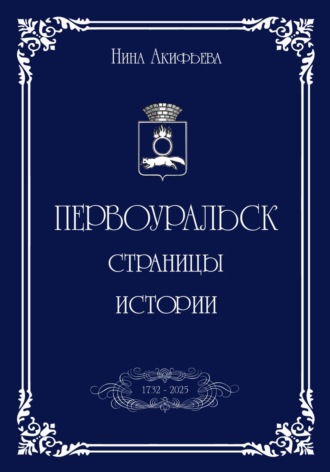
Полная версия
Первоуральск: страницы истории
В настоящее время в нашем караване всех судов состояло до сорока. Их растянули на большом пространстве реки, соблюдая, по возможности, правило, чтобы суда плыли одно от другого не ближе ста саженей. В верхней части Чусовой при мелководье и быстрой убыли воды это полезное правило не всегда соблюдалось во всей строгости. Так было и теперь. Особенно по тому обстоятельству, что сверх сорока судов нашего каравана в тоже время плыли суда с верхних пристаней – Шайтанской и Ревдинской.
Осматривая внутренность судна, я услышал под дном его сильный шум, который внутри судна раздавался как в пустом пространстве. Выбежав наверх, я узнал, что судно идет по песчаной отмели, какие в верховье Чусовой весьма нередки. Летом по этим отмелям, как говорится между народом, «куры бродят, не замочив хвоста». Случай этот прервал тишину, царствовавшую на судне, и в один миг все превратилось в шумную, усиленную деятельность: лоцман громко и отрывисто командовал направлять судно направо или налево, водоливы принялись измерять шестами глубину и кричали лоцману о результатах своих измерений, рабочие усиленно били по воде поносными. Через несколько минут мель была пройдена и все снова успокоились. Рабочие расположились на отдых, и только лоцман остался по-прежнему на своей скамейке и все смотрел вперед.
На правом берегу реки, за деревней Коноваловой, находится небольшая того же имени гора. Она замечательная скоплением многих полукристаллических и слоистых пород, которые стоят вертикальными слоями. Я прежде осматривал эту гору и поэтому знаю ее устройство довольно подробно. Она представляет крутое наслоение черного и серого известняков, хлоритового и зеленокаменного сланцев, слоистого песчаника и, с другой стороны горы, нового слоя известняка. Эта гора составляет ветвь отрога Уральского хребта, который не далее двадцати верст отсюда на восток синеется непрерывной полосою. Здесь этот отрог, по-видимому, оканчивается у реки, но далее, верст через пятнадцать, переходит на другую сторону Чусовой, начинаясь от нее таким же мысом.

С.М. Прокудин-Горский. Верхний Георгиевский камень и общий вид слободы Утка. Река Чусовая, 1912 г. Библиотека Конгресса США
Спокойным наше плавание не было, однако, продолжительным. Перед деревней Крыласовой заметили, что одно из судов каравана попало на мель. Тотчас был дан приказ остановиться. Исполнение этого приказа бывает иногда так любопытно и сопровождается такими оригинальными действиями, что нельзя не упомянуть о том особо. Услышав распоряжение к остановке, один из рабочих, отличающийся расторопностью, соскакивает в лодку и берет конец снасти толщиною обыкновенно до вершка в диаметре. К нему присоединяются еще двое, и все они вместе, после великих усилий, пристают к берегу. Тут один из них, выскочив на берег, бежит с концом снасти к первому более значительному дереву и старается прикрепить к нему веревку. Если дерево трещит и оказывается ненадежным, то судно все плывет и все больше и больше утягивает снасть, а рабочий бежит по берегу или бредет разливом реки по пояс и пробует завернуть снасть за другое крепкое дерево. Иногда и это дерево не выдерживает силы течения, вырывается с корнем и уносится вслед за судном. Тогда рабочие выплывают с другим толстым запасным канатом и поступают таким же образом. Во все это время лоцманский помощник другим концом каната постепенно сдерживает ход судна, обернув снасть о кормовой ухват и «травя» ее понемногу. При этом трение бывает столь сильно, что ухват может мгновенно вспыхнуть. В предупреждение чего его обливают водой вместе с канатом. Но это еще не все. От неумения рабочих это занятие иногда сопровождается несчастными случаями. Вот и на нашем судне одному из рабочих по его неосторожности раздавило ногу канатом об упомянутый ухват и выбросило его самого на воду. Малой, однако, успел ухватиться за снасть и, не выпуская ее из рук, благополучно вышел на берег. Бойкость и расторопность русского человека вполне выказывается при подобных случаях.
Считаю излишним говорить, сколько времени и старания употреблено было для снятия сидевшего на мели судна. Замечу лишь, что отправка в дальнейший путь началась тем же обрядом усаживания, вставания и молитвы, о котором я упомянул вначале, и который, как я узнал впоследствии, повторяется на всяком судне при каждой отправке его с ночлега.
Погода весь день стояла хорошая. Был уже вечер, когда мы плыли мимо деревни Крыласовой, принадлежащей казенному ведомству. Народ с высокого берега смотрел на проходящие суда, а крестьянские девушки, в праздничных сарафанах, составляли хороводы и другие сельские игры. Сюда, как видно, еще не проникла та цивилизация, которая в деревне начинается переменой котов на башмаки и сарафанов на платья.
За этой деревней начинаются по берегам реки утесы, которые почти сплошь состоят из известковых пород разных цветов и различного сложения и положения, тогда как на низких местах видны одни новейшие наносные глины. Многие из утесов весьма опасны для судоходства, тем более что почти все они находятся именно в тех местах, где работа судовщиков и без того сложная делается еще труднее, а именно на поворотах реки. Здесь утесы часто занимают вдавшийся берег, куда прямо несется струя воды и, ударяясь в скалу, с шумом и пеною, отпрядывает в сторону и мчится дальше. Такое положение утесов произошло, по-видимому, от того, что быстрая река при прокладке себе русла встречалась с плоскостью слоев твердой породы и, будучи не в силах пробить их, круто поворачивала и избирала себе другой путь. Или же, разбивая твердую массу известняка, проходила между более мягкими его слоями, мало-помалу, просачивала их и разрушала. Вероятно, это было и причиной частого перехода утесов с одного берега на другой.
После первого дня нашего плаванья, в ночь на 18 апреля, когда мы стояли на ночлеге, полил сильный дождь, который продолжался и на другой день утром, а потом сменился опасным ветром. Во весь этот день прошли мы не более пятидесяти верст.
В следующий день, 19 апреля, путь наш продолжался, как и накануне, между изредка мелькавшими по берегам деревушками дворов в пять или даже и в три. Они расположены, большей частью, по низменным местам берегов, представляющих удобства для лугов и пашни.
Перед одной из таких деревень по имени Харенки заметили мы выставившиеся из-под воды два столбика, свидетели потонувшего судна, которое, ударившись близ того места о каменистый утес, быстро погрузилось в воду. Такие случаи не редкость на Чусовой. Потонувшее судно несло груз металла, который после убыли воды будет почти весь собран и следующим караваном будет доставлен по принадлежности. Но для нас особенно важно было то обстоятельство, что утонувшее судно заняло лучшую часть фарватера, чем, разумеется, заградило прямой путь другим судам и заставило их идти в обход. При этом одно судно нашего каравана, надвинутое ветром, ударилось о выставившиеся столбики, вследствие чего людей, работавших около них, разбросало во все стороны и одному из рабочих раздробило ноги, а другого вовсе не отыскали в воде.
На следующий день, 20 апреля, плыли мы с самого утра между высокими утесами, находящимися попеременно, то на правом, то на левом берегу реки. Эти утесы состоят из известкового камня дикого цвета и разнообразного сложения. Они известны у плавающих по Чусовой под общим именованием «камней», а, в частности, каждый утес имеет свое собственное название. Некоторые из них опасны для судоходства, особенно так называемые «бойцы». Иные, достигая огромной вышины до пятидесяти сажень, поднимаются отвесно над водой плоскостями и простираются по берегу от ста до двухсот и более сажень в длину. По сторонам их и сверху растет сосновый и частью еловый лес, но, укореняясь только в трещинах твердой известковой массы, он едва достигает значительной высоты и почти весь периодически сваливается порывистыми ветрами.
Вот наиболее примечательные из этих камней:
Камень Омутной, с правой стороны реки. Первый на пути большой утес. Возвышается над водой до двадцати пяти сажень гладкой плоскостью с широкими слоями, наклоненными против течения.
Камень Дыроватый, на левой стороне реки. Весь разбит временем на отдельные неправильные массы, посреди которых находятся широкие полости, вследствие чего и получил он свое прозвание.
Камень Писаный, с тонкими вертикальными продольными отметинами, беловато-серого цвета. Он назван «писаным» потому, что по середине его, на высоте двадцать сажень, высечены из того же известняка крест и надпись о рождении (во время плавания родителей его по Чусовой) одного из владельцев Нижне-Тагильского (что на Урале) завода. Впрочем, надпись ныне выветрилась до такой степени, что нет возможности ее разобрать. Против утеса на другой стороне реки, на низменном берегу, поставлен небольшой, красивый, каменный памятник в ознаменование того же случая.

С.М. Прокудин-Горский. Камень Дыроватый. Пещера. Река Чусовая, 1912 г. Библиотека Конгресса США
Камень Столбы состоит из двух главных, почти совершенно круглых, известковых столбов, обставленных множеством мелких, которые все окружены лесом. Возвышаясь на высоту в двадцать сажень на левом берегу реки, столбы эти отличаются правильным расположением слоев, наклоненных в одну сторону.
Камень Дужной, на правом берегу. Занимает весьма опасное для судов место – в крутом повороте реки. Перед ним с одной стороны находятся утесы, а с другой высокий лесистый берег. Эти берега представляют издали, с судна, такой вид, как будто бы Чусовая окружена здесь со всех сторон крутыми утесами, чего на самом деле нет. Крутой поворот реки скоро выводит вас из мгновенного заблуждения. Сам камень весьма замечателен своими известковыми слоями. Они толщиною не более одной четверти, правильно и параллельно изогнуты большими «дугами» на средней части камня, а по краям еще более разнообразно искривлены напластованием. К тому же все это покрыто каким-то желтоватым цветом, которого причину я полагаю или в химическом действии солнечных лучей, или в лишаях, растущих на недоступной для других растений поверхности камня.
Камень Кирпичный находится на правом же берегу реки. Он представляет вид кирпичной стены около старинного, разрушенного замка, с башнями по углам, среди окружающего его леса.
Камень Печка. Утес, с круто перегнутыми слоями, образующими внизу углубление, наподобие устья крестьянской печи с левой стороны реки.
Отсюда Чусовая течет мимо огромного на ней утеса, который называется Высоким камнем. Он возвышается на пятьдесят сажень над водою и простирается по берегу почти на десять верст, местами прерываясь и показываясь потом опять с обеих сторон реки под названиями камней Стенового и Мултыка. В этом роковом месте ежегодно несколько судов претерпевает более или менее значительные повреждения. Одно из плывших перед нами судов сильно тут повредилось, поэтому должно было остановиться для поправки. Да и то судно, на котором плыл я, только особенной предусмотрительностью опытного лоцмана избежало опасности. Стремлением воды в крутом повороте между утесами сильно надвигало его на Мултык, и уже поносные скользили по гладкой стене утеса, но, благодаря Богу, мы избегли опасных скал, которые, можно сказать, замыкают на время этот длинный ряд самых гибельных затруднений к сплаву по Чусовой. Ниже их, еще раз в одном месте, являлись подобные камни, но на протяжении не более пяти верст, и притом гораздо с меньшими опасностями. Миновав, таким образом, довольно еще благополучно эти места, мы не избежали, однако, остановки для снятия одного из наших судов, севшего на мель по оплошности лоцмана.
В течение этого дня я сходил на берег для осмотра Кыновского завода графа Г.А. Строганова. Он расположен против последних утесов, на низком левом берегу реки Чусовой, при устье небольшой речки Кына. Заводское действие его приспособлено к выплавке чугуна из бурых железняков, добываемых в окрестности, и к выделке из чугуна железа. Замечательнее же всего здесь машинное производство проволоки в большом количестве.
Жители деревни Копчика, против которой мы остановились для снятия судна, принадлежат к казенному ведомству. Они из оседлых вогул, но занимаются успешно хлебопашеством, гостеприимны и вовсе не похожи на других своих однородцев. Главное их занятие – рубка корабельного леса на Уральских горах, отстоящих не далее пятидесяти верст. Работа эта производится под надзором офицеров, отряженных Морским ведомством для наблюдения, чтобы деревья выбирались потребной длины и толщины. Нарубленный таким образом лес вывозится зимой на берег Чусовой, где связывают его в плоты по двести и более штук вместе и отправляют с двумя или тремя человеками по Чусовой, Каме, Волге и другим рекам к портам Балтийским и Черноморским. Чтобы сняться с мели, мы приглашали жителей деревни; но они, отправляясь на работу свою в горы, дорожили временем и поэтому запросили с нас страшную сумму – двести рублей серебром, тогда как работа не стоила более пятидесяти рублей. Караванный, как человек честный, не мог согласиться на такое разорение хозяйской казны и должен был обойтись своими силами.
Сравнительно безопасные берега Чусовой после Мултыка представляют камень, носящий громкое имя Ермака, завоевателя Сибири. Этот камень Ермак стоит на правом берегу Чусовой и образует вертикальную плоскость, около двадцати сажень в вышину и более пятидесяти в длину. С левой стороны он исчерчен наклонными против течения слоями и поперечными трещинами, а с правой имеет гладкую поверхность с едва заметным наклонением слоев на восток. Посередине его плоскости, саженях в десяти от воды, находится отверстие в рост человека. Это вход в обширную пещеру, разделенную сталактитами на множество отделений. Наше судно не имело надобности останавливаться тут, и поэтому я, к сожалению, не смог осмотреть эту пещеру. Местное предание говорит, будто Ермак зимовал в ней на пути в Зауралье. Впрочем, мне известно и другое место, по ту сторону Уральских гор, где Ермак, по преданию, тоже будто бы провел зиму. Место это находится на берегу речки Медведки, впадающей в реку Туру. Таким образом, предание подразумевает, что завоеватель Сибири провел в пути две зимы, тогда как история, напротив, утверждает, что он через два месяца после отправки по Чусовой достиг уже Сибирского царства. Чему больше верить? Конечно, предание – не история и легко может быть, что Ермак ненадолго останавливался в обоих этих местах. Впрочем, по-моему мнению, не очень верится, что такое трудное дело можно исполнить в столь короткий срок. Даже в нынешнее время на настоящих судах нелегко совершить этот путь в два месяца. По одной Чусовой, против быстрого ее течения, среди окружающих ее утесов подняться почти на двести верст от городков, тогдашней крепостцы Строгановых, до устья Серебрянки – это подвиг величайшей трудности, особенно среди дикой и безлюдной страны, на легких плотах, которые малейший ветер мог заливать водой и задерживать беспрестанно!
Я сказал уже, что следующие за Мултыком камни, которых камень Ермак есть начало, не представляют той опасности и не имеют той высоты, какими отличались их предшественники. Но пятиверстное их протяжение все еще требовало осторожности в управлении судном, а так как мы подплыли сюда уже вечером, то караванный распорядился остановиться перед каменной грядой на ночлег.
Утром 22 апреля наше судно шло мимо нескольких известковых утесов, из коих замечательнейшие – камень Разбойник, выдававшийся в реку острым ребром, камень Четыре Брата – известковая стена с вертикальными слоями и четырьмя выступившими ребрами и камень Отметыш, бывший весьма опасным до тех пор, пока, лет десять тому назад, висевшая над рекой часть его, состоящая из известняка, не обрушилась сама собою и была разбита в воде порохом, за счет всех судохозяев, сплавляющих свои произведения по Чусовой. За этими камнями было еще несколько утесов; но перед устьем Койвы, впадающей в Чусовую с правой стороны, они прекратились, и мы ниже по Чусовой более их уже не видали.
Отсюда Чусовая, текшая до сих пор на северо-северо-запад, повернула прямо на запад. Горы начали удаляться от берегов, которые постепенно становились низменнее, сохраняя, однако ж, по-прежнему свой главный характер, то есть, несколько возвышенные с одной стороны, они были отложе с другой. Вообще окрестности Чусовой, от устья Койвы, имеют вид холмистый, весьма отличный от горного Предуралья, которое изобилует кряжами и отрогами. Деревни и при них пашни, встречаются здесь чаще. Река разливается шире, до восьмидесяти и более сажень, оттого течет тише, спокойнее и образует множеством песчаных надводных и подводных островов. Путь этот мы совершили вполне благополучно, не встречая никакого препятствия, и, проплыв находившиеся по берегу Чусовой за речкой Вашкуром разработки каменного угля, остановились на ночлег перед селом Камасиным.
В продолжение 24 апреля плавание было так же покойно, как накануне, но вместе так же и тихо – верст по пять или шесть в час. Против Камасина Чусовая разделяется на три рукава. Из них ныне только крайний справа судоходен, но прежде таким был крайний с левой стороны. Здесь, как и во всех реках, течение не только изменяет русло, засоряя его песком и гальками в одном месте и в тоже время, очищая в другом, но даже мели и острова переносит с места на место.
У Камасина Чусовая принимает с правой стороны большую речку Усьву, которая вытекает из северной лесистой части Пермской губернии. Речка эта вскрывается позже Чусовой, и по ней ежегодно сплавляется в плотах довольно большое количество строевого леса. После впадения ее ширина Чусовой еще более увеличивается, но зато скорость течения убывает, поэтому для усиления хода судна, рабочие еще около устья Койвы начинают приготовлять малые гребки, которыми отсюда, в промежутки между работой по управлению судна поноснами гребут под монотонную песню.
Здесь, кстати сказать, что рабочие нашего судна были большей частью бойкие, расторопные крестьяне, весело исполнявшие свою обязанность, отчего лоцман не имел нужды побуждать их к труду и только в опасных местах, ободрял разными словами, понятными бывалым людям. Во время работы они пели песни, а по окончании ее сказывали сказки, часто прерываемые новой работой, после которой опять их продолжали. Таков русский мужичок: он не унывает в горе, трудах и опасностях. Кто имеет частые сообщения с народом, тот видит в нем более хороших качеств, нежели тот, кто знает его по одним книгам.

С.М. Прокудин-Горский. Камень Кирпичный Река Чусовая, 1912 г. Библиотека Конгресса США
На левом берегу Чусовой находится замечательная археологическими находками деревня Вергина. В полуверсте от берега и повыше верхнего конца деревни стоят на холме остатки двух каких-то зданий, обнесенных валом, который сохранился до сих пор. В соседстве их, при распашке земли, находили много древесного угля, топоры, молотки, деревянные и оловянные сосуды, монеты и т. д. Надо полагать, что здесь была древняя крепостца прежних туземных владетелей.
Селения Верхние и Нижние Чусовские Городки – остаток Ермаковых времен, получили свое название от того, что были основаны для «ограждения» владений Строгановых и, вообще, востока России от набегов вогул, остяков и других полудиких племен, обитавших по вершине Чусовой и впадающим в нее речкам. Эти селения до сих пор принадлежат Строгановым. Как сами они, так и окрестности их, доставляют лучших лоцманов для судоходства по Чусовой. Наши лоцманы были из обоих Городков, и поэтому мы останавливались в обоих селениях, чтобы дать возможность лоцманам побывать хотя бы на короткое время дома. Окрестности их нельзя назвать малонаселенными; впрочем, не должно причислять и к слишком людным местам. Жители все коренные русские, деятельно занимаются промыслами и хлебопашеством и отличаются обычным на Руси гостеприимством.
24 апреля было последним днем нашего плавания. После Нижних Городков Чусовая становится уже скучной своим однообразием. Тихое, спокойное плавание, без быстрых поворотов и утесов, между низкими луговыми берегами и островами, не представляет ничего привлекательного для любопытства. Правда, на этом пути Чусовая делает еще две сильные излучины, так что через двадцать и пятьдесят верст течения снова проходит в двух верстах от того места, с которого излучины начались. Но повороты здесь не так круты и не так часты, как были выше, напротив, – с легким погибом и тихим теченьем. Очевидно, излучины эти зависели здесь от других условий, а именно: от большей или меньшей мягкости глинистых берегов. При них вливается в Чусовую река Сылва, по которой тогда плыли суда объемом не менее чусовских, принадлежащие купцам города Кунгура и Суксунскому заводу Демидова.
Было уже поздно, когда наше судно закончило путь по Чусовой, вышедши на реку Каму. На совершение этого плавания в 470 верст мы употребили (с остановками) восемь суток, а собственно в пути пробыли восемьдесят часов. Судно шло со скоростью от четырех до восьми верст в час, а в средним – по 6 верст.
ГЛАВНАЯ ДОРОГА РОССИИ
С древнейших времен через Дон, Волгу, Каму и Чусовую пролегали торговые пути от Великого Новгорода на восток в Пермь, Печору, Югру и далее за Урал, в современную Сибирь. Долог и опасен был путь за «Камень».
В конце XVI века на важнейших реках Урала и Сибири появляются первые русские города: Тюмень, Тобольск, Березов, Пелым, Сургут, Нарым. В 1598 году в верховьях Туры началось строительство Верхотурья, на долгие десятилетия ставшего главными воротами из русской Европы в русскую Азию. Основной транспортной артерией края стала тогда Бабиновская дорога, шедшая от Соли Камской через горный хребет Павдинский Камень в Верхотурье и далее в Туринск, Тюмень и Тобольск. Правительство всеми силами поддерживало исключительный статус Бабиновской дороги. В 1706 году вышел указ, запрещающий кого-либо пропускать в Сибирь и из Сибири другими дорогами, кроме Верхотурской – «чтобы не ездили через Арамиль, Катайский острог, Уткинскую заставу и Ирбит».
Ветер перемен ворвался на Урал по воле Петра Великого с дымом доменных фабрик, грохотом расковочных молотов и шумом воды, падающей на лопатки громадных приводных колес, «дабы божье благословение под землею втуне не оставалось».. Еще до основания Екатеринбурга встал вопрос о новой государственной дороге в Сибирь через Кунгур и Уктусский завод. Эта дорога, узаконенная в 1721 году, прошла от Кунгура через деревню Кыласово, Уткинскую Слободу и Подволошную.
Человек сложного характера, чрезвычайно активный и неуживчивый, Татищев быстро нашел себе врагов. Кроме того, сказывалось и его недостаточное знакомство с горным делом. Как бы там ни было, но в декабре 1722 года Татищева сменил генерал-майор Вилим Иванович Геннин.
В 1723 году Геннин распорядился проложить новый участок дороги от Кленовской крепости, основанной на зимней Сибирской дороге еще в царствование Федора Алексеевича Романова, через урочище «Гробово Поле» прямо на деревню Подволошную, минуя Уткинскую Слободу.

Действующий мост через реку Билимбаиху на старом «Московском» тракте, 2008 г. Фото автора
В октябре 1734 года в Екатеринбург вернулся Татищев. И сразу озаботился дорогами. В письме своему первому помощнику морскому офицеру Хрущеву Татищев писал: «Государь мой, Андрей Федорович. Здешняя худоба дороги, которою командиры чаю не езживали, дала мне причину до вас о дорогах писать. В прежнюю мою бытность старался я, чтоб из Екатеринска (Екатеринбург – авт.) на пристань для ближайшего железу провоза дорогу прямо к Подволошной от Красных ворот прорубить, чрез что крестьянам бы учинить облегчение, а казне прибыль. Только после меня доныне осталось, не сделано».
В тот же год началось строительство крепостей на новой дороге. Около полутора тысяч крестьян с семьями из Кунгурского уезда были переселены в необжитые районы и приписаны к только что построенным крепостям. Первым от Екатеринбурга встал острог, названный Гробово Поле. Далее следовали крепости: Киргишанская, Кленовская, Бисертская и Ачитская. Все пять крепостей по Кунгурской дороге были похожи друг на друга как братья. У каждой по углам срублены были бастионы, у каждой над воротами по башне, по периметру крепостей установлены рогатки, а в амбарах и погребах хранились запечатанные казенными печатями пушки, фузеи, порох и железные копья.
В октябре 1734 года приказчик Билимбаевского завода объявил Татищеву, что им «сыскана дорога от их завода гораздо ближе прежней». Этот новый участок вел от Гробовской крепости к Билимбаевскому заводу Строгановых и, минуя Подволошную, прямиком выходил на Шайтанский завод Никиты Демидова.
Так начиналась история Большого Московско-Сибирского (Казанского) тракта знаменитой «Владимирки», крупнейшей в мире трансконтинентальной сухопутной магистрали. Предполагалось, что по новой дороге будут ездить только курьеры. Однако в конце 30-х годов XVIII века по ней разрешили следовать и торговым людям, но только во время Ирбитской ярмарки. Сразу же обнаружились ощутимые недоборы в Верхотурской таможне. Вследствие чего в 1739 году появился очередной правительственный указ, запрещающий миновать Верхотурье под страхом конфискации товаров.



