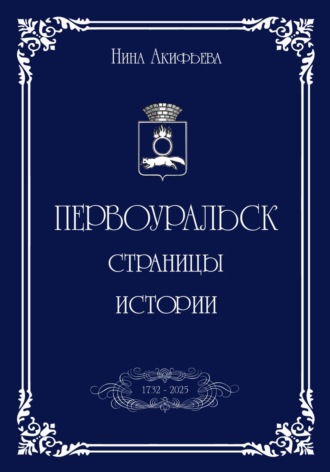
Полная версия
Первоуральск: страницы истории
По поводу употребления водки непосредственно на фронте существуют две диаметрально противоположные версии. Одни исследователи считают, что солдаты, привыкшие к ежедневным выпивкам на фронте, после окончания войны спивались, становились алкоголиками. Другие, напротив, полагают, что значение «наркомовских ста грамм» сильно преувеличено.
Факты же таковы. 22 августа 1941 года постановлением ГКО за №562 на фронте для снабжения войск передовой линии действующей армии с 1 сентября была введена беспрецедентная практика выдачи водки 40 градусов в количестве 100 грамм в день на человека. Вслед за Постановлением ГКО выходит приказ № 0320 Народного комиссара Обороны, который гласил: «С 1 сентября 1941 года производить выдачу 40° водки в количестве 100 грамм в день на человека красноармейцам и начальствующему составу передовой линии действующей армии. Летному составу ВВС Красной Армии, выполняющему боевые задания, и инженерно-техническому составу, обслуживающему полевые аэродромы действующей армии, водку отпускать наравне с частями передовой линии…». Этот приказ действовал восемь месяцев и был аннулирован 12 мая 1942 года. Новое постановление ГКО отменяло массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии, но увеличивало ежедневную выдачу водки военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в боевых действиях, до 200 грамм на человека в день. Всем же остальным военнослужащим передовой линии выдача водки по 100 грамм на человека производилась в революционные и общенародные праздники: 7-8 ноября, 5 декабря, 1 января, 23 февраля, 1-2 мая, 19 июля (всенародный день физкультурника), 16 августа (день авиации), 6 сентября (Международный юношеский день), а также в день полкового праздника (сформирование части). Следующее постановление Государственного Комитета Обороны, вышедшее меньше чем через месяц – 6 июня 1942 года, постановляло: «1). Прекратить с 15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. 2). Сохранить ежедневную выдачу водки в размере 100 грамм только тем частям передовой линии, которые ведут наступательные операции. 3). Всем остальным военнослужащим передовой линии выдачу водки по 100 грамм производить в революционные и общенародные праздники…». На протяжении войны выходило еще немало постановлений, распоряжений, приказов, регламентирующих выдачу водки и виноградного вина на фронте, но суть директив кардинально уже не менялась.
В 50-х годах при дешевизне водки (2 руб. 75 коп.) и её широкой и свободной государственной продаже всё более и более увеличивается потребление алкоголя на душу населения. Никита Хрущев был первым, кто в 1958 году открыто признал проблему алкоголизма в послевоенном Союзе. По свидетельству министра пищевой промышленности СССР Д.Павлова, на одном из совещаний Совмина Никита Сергеевич с удивлением узнал о том, что в 1913 году в России было произведено 118 млн. декалитров, а в 1956 году – 122 млн. декалитров спиртного. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же приняли решение провести эксперимент, сократив сеть по продаже водки в отдельно взятом городе. Неизвестно, был ли проведен этот эксперимент, но спустя восемь лет, в год отставки Хрущева, производство водки и вина в СССР достигло уже 176 млн. декалитров.
В ходе дальнейшей урбанизации уровень потребления алкоголя быстро увеличивался: 1956 год – 6,16 литра; 1970 год – 9,22 литра; 1980 год – 12,63 литра на человека. Однако по сравнению с началом века в Советском Союзе было достигнуто ценное, на наш взгляд, качество – алкоголизм «постарел», он перестал быть социальной болезнью молодежи. Так, в 1907 году 75,9% больных алкоголизмом имели возраст менее 30 лет, а 20,3% были моложе 20 лет. В 70-е же годы XX века среди алкоголиков было лишь 13,5% молодых людей в возрасте до 30 лет и 0,3% моложе 20 лет.
К середине 70-х годов «Московская особая» за 3 рубля 62 копейки уже не спасала экономику. В продаже появляются более дорогие сорта – «Столичная», «Экстра», «Русская», «Старорусская», «Старка», «Посольская», «Сибирская». Стоимость самых массовых водок постоянно возрастает – 4.12, 4.20, 5.30, 7.70, при стоимости килограмма молочной колбасы 2 рубля 90 копеек. Появившаяся в 1984 году водка, прозванная в народе по имени нового генсека «Андроповка», была дешевле и «Пшеничной» и «Русской». Всего 4 рубля 70 копеек. Весьма скромным было и оформление этикетки, никаких художественных излишеств, лаконичность и сосредоточенная строгость – просто «Водка». Такой вот незатейливый ассортимент достался в наследство новому руководителю партии и страны, «отцу перестройки» Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Источник: Акифьева Н.В. Питейная история Урала (XVII –начало XXI века). Серия «Очерки истории Урала». Вып 44. – Екатеринбург: БКИ, 2010. – 96 с. (Изд. третье доп. и испр.). С.69-76.
ПИТЕЙНЫЕ ИСТОРИИ. XX ВЕК (3)
В 1985 году в ходе начавшейся перестройки, «рассматривая преодоление пьянства и алкоголизма как социальную задачу большой политической важности», ЦК КПСС принял решение: «С пьянством в стране покончить». «Это был ответ на требование народа, – говорил Лигачев, – это был стон народа, без всякого преувеличения».
С первых же дней речь пошла не о борьбе с пьянством, а о борьбе за абсолютную трезвость. Локомотивом новой компании стал Егор Лигачев, заявивший: «Задача не в том, чтобы научить людей пить культурно, а в том, чтобы научить не пить вовсе». И это было заявлено на собрании партхозактива винно-коньячной Армении.
Так было положено начало войне с пьянством. А война, как известно, без жертв не бывает. Эта, к сожалению, не стала исключением. Впрочем, справедливо будет заметить, что война была объявлена не по прихоти Лигачева или Горбачева (идея антиалкогольной компании была задумана еще Андроповым). Просто потребление алкоголя в Советском Союзе вышло за все разумные пределы и стало воистину угрожающим и жутким явлением.
Лидеры государства обещали улучшение жизни. Но вместо светлого будущего советские люди видели по-прежнему пустые полки магазинов и огромные, ранее никогда не виданные, очереди за водкой. В стране, привыкшей жить в условиях нехватки всего и вся, возник новый жесточайший дефицит. Производство водки сократилось на 25 процентов, площадь виноградников – на треть. Были закрыты или перепрофилированы 83 спиртовых, 14 ликероводочных и около тысячи мелких винных заводов. В члены Всесоюзного общества трезвости начали записывать всех, кто занимал хоть какое-то положение и, кому было что терять. Газеты тех лет были полны устрашающими цифрами количества преждевременных смертей, разводов, потерянных рабочих часов и уголовных преступлений, связанных с пьянством.
В эти годы в стране регистрируется уменьшение пьяных драк, увеличение продолжительности жизни и рост производительности труда. Но зато катастрофически увеличивается количество других преступлений. 80-е годы прошлого века в Советском Союзе многие сравнивают с Америкой 20-х. Именно тогда, на волне «сухого закона», набрала мощь сила, названная организованной преступностью (ОПГ). Костяк таких организаций, как правило, составляли представители различных спортивных школ и секций. Специализация не имела большого значения – это могли быть и хоккеисты, и борцы и боксеры. Иногда такие «бригады» работали самостоятельно, а иногда совместно с «синими». Этими группировками (часто не без помощи милицейских, партийно-комсомольских и партийно-хозяйственных опекунов) контролировалась значительная часть нелегального водочного бизнеса в стране.
Люди, почувствовав личную свободу, начинают активно протестовать против водочного дефицита. Стоя в огромных очередях, народ проклинал все на свете: правительство, Горбачева с Лигачевым, депутатов местного Совета. Только чудом удавалось избежать противостояния с органами правопорядка.
Тревожные сообщения из провинции стекались в Москву, но остановить запущенный механизм было уже невозможно. Член Политбюро Виталий Воротников записал в своем дневнике: «Все сильнее проявляются негативные явления. Запретительные меры эффекта не дают. Надо останавливаться».
В Уральском регионе торговля алкоголем ограничивается немногочисленными специализированными магазинами, наскоро оборудованными металлическими дверями, решетками и прилавками из кирпича и стали. На город с населением в сто тысяч приходилось не более трех-четырех таких магазинов. Торговля в них начиналась с 11 утра. Кажется, весь город спешил сюда, к винному прилавку. В руки отпускали по одной бутылке. Как правило, запас спиртного в магазине быстро кончался, поэтому наученная опытом огромная толпа ломилась в двери, не соблюдая никакой очереди. У прилавков частенько возникали потасовки и драки.
В первое время талоны на алкоголь не вводились под предлогом, что не надо, мол, навязывать его тем, кому он не нужен. Но талоны ввести все-таки пришлось – жизнь заставила. И эта невзрачная бумажка стала куда как желанней родного «деревянного». Бутылка водки превратилась в эквивалент твердой валюты. За водку можно было купить практически все, что продавалось. На свадьбу или поминки водку отпускали в специальном магазине. Только там, предъявив соответствующие документы, можно было купить больше одной бутылки.
Газеты и телевидение без устали пропагандировали безалкогольные свадьбы и новогодние застолье с лимонадом. Совершенно серьезно обсуждалось, надо ли вырезать из фильмов алкогольные сцены. В магазинах стали появляться новые напитки: фруктовая шипучка (жалкая пародия на шампанское) и безалкогольное пиво «Пивко». Тогда еще шутили, что на очереди «винишко» и «водчонка». На середину 80-х годов пришлась пора безалкогольных свадеб. Но, как правило, настроение на празднике было не очень. Даже профессиональные организаторы застолий были не в силах создать атмосферу праздника без водки. Поэтому коньяк пили чашками, наливая из самоваров, а водку – стаканами из бутылок с этикетками минеральной воды. Порция крепкого напитка в ресторанах была ограничена – 100 грамм, но при большом желании запрет легко (но не дешево) обходился. Если не на месте, то в машине такси. Обычно несколько таких автомобилей с шашечками дежурили около каждого увеселительного заведения. Люди знали, что водку, которая в магазине стоила 9 рублей 10 копеек, здесь можно было купить и днем и ночью, но по 20-25 рублей.
На начальном этапе компании, попав под горячую руку, сотни людей лишились должностей и партбилетов. Пьянство расценивалось властью как преступление. Уральцы, как и весь советский народ, стойко переносили так внезапно обрушившиеся на них тяготы. В ту пору был популярен такой анекдот: «Надоело мужику стоять в очереди за водкой. «Пойду лучше в Кремль, набью морду Горбачеву», – сказал и ушел. Но через некоторое время вернулся. Его и спрашивают: «Ну что, как? Набил?» «Нет, – отвечает, – там очередь еще больше».
В стране резко выросло производство самодельных вин и самогона. Из магазинов исчезли вначале сахар и дрожжи, затем леденцы и карамельки. За какой-нибудь год подпольное производство спиртного сравнялось по своим масштабам с государственной монополией. По швам трещал бюджет. Деньги уходили спекулянтам и теневым дельцам. Потребление алкоголя в стране осталось примерно на том же уровне, а вот государство ежегодно стало терять десятки миллиардов рублей.
Любители выпить находят замену привычным напиткам – это одеколоны: «Шипр», «Цветочный», «Русский лес», «Сирень»; лосьон «Огуречный», «Цитрусовый». Появилось даже такое выражение «одеколоны питьевых сортов». Воротников писал: «В 1986 году самогоноварение на 80% восполнило сокращение производства водки. Продажа одеколонов, лосьонов увеличилась в два раза, парфюмерных лаков в полтора раза. Предметов бытовой химии в два с лишним раза».
Постепенно организаторы антиалкогольной кампании начинали понимать, что борьба с пьянством в нашей стране требует особо осторожного подхода. Однако это запоздалое понимание не спасло компанию от провала. В итоге поражение правительства Горбачева оказалось сокрушительным. Можно сказать, что гора желаемого родила мышь практического осуществления. Кампания, начатая в 1986 году, к 1988 уже бесславно провалилась. А окончательно все завершилось осенью 1991 года, после августовского путча и распада Советской государства.
Считается, что 7 июня 1992 года Президентом России Б.Н.Ельциным был издан документ, отменявший государственную монополию на водку. С этого времени в России любой гражданин мог производить, закупать за границей и торговать водкой на основе специального разрешения, выдаваемого органами исполнительной власти, то есть на основе лицензии. Водку под собственным именем выпускали все кому не лень – от бандитов и предпринимателей до политиков и депутатов Государственной Думы. При всей непохожести бутылок и этикеток эти напитки объединяло одно – содержимое не отличалось качеством. Водкой «премиум» и «люкс» стали называть любую спиртоводочную смесь, от которой не наступал летальный исход. По данным Роскомторга брак ликероводочных изделий к объему проверенной продукции составил в 1991 году – 5,6%, в 1992 – 12,4%, в 1993 – 25,6% и в 1994 – 30,4%. По данным проверок МВД РФ, доля забракованной продукции была еще выше (от 40% до 70%). Еще хуже было качество импортной ликероводочной продукции – в 1994 году фальсификат составлял 67,2% проверенных изделий (данные Роскомторга).
С этого времени уральские магазины, магазинчики, киоски и ларьки захлестнула волна низкопробных, часто фальсифицированных (нестандартных и низкокачественных) крепких алкогольных напитков: отечественного и иностранного производства. Широко (уже в который раз) распространилось самогоноварение. Благо принцип работы самогонного аппарата советским детям объясняли еще в седьмом классе школы. Учителя называли его строго по научному – перегонный куб. Местные Кулибины научились изготавливать такие аппараты из любых подручных средств: молочных фляг, скороварок, доильных аппаратов, металлических чайников.
В этих условиях торговля водкой и спиртом для тысяч и тысяч молодых людей становится прибыльным бизнесом (не там ли находятся истоки денежных рек многих современных бизнесменов, депутатов и политиков). То тут, то там появлялись сооруженные «на скорую руку» ларьки и палатки. Легкость, с какой возникали такие точки, компенсировалась краткостью их существования – слишком уж часто они горели. Неискушенный советский народ с охотой покупал ларечное виски, коньяк «Наполеон», водку «Распутин», спирт «Моцарт».
Власть просто не могла не отреагировать. 11 июня 1993 года Президентом России Б. Н. Ельциным был издан Указ № 918 «О восстановлении государственной монополии на производство, хранение, оптовую и розничную продажу алкогольной продукции, в целях проведения эффективной государственной политики, направленной на оздоровление населения». Образованная тем же указом Госинспекция (затем Госкомитет) по обеспечению госмонополии на алкоголь была упразднена в апреле 1998 года и с того времени Указ фактически не исполняется. Хотя некоторые методы госрегулирования (акцизы и установление минимальных розничных цен на алкогольную продукцию) мы сегодня можем наблюдать в наших магазинах. Кстати, в апреле 2008 года ГД РФ отклонила новый законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Указ никак не повлиял на потребление водки населением. Пить продолжали представители всех социальных слоев: от бомжей до олигархов. Разница только в ассортименте и качестве алкогольных напитков. А так как низы в Свердловской области составляли довольно значительную часть жителей, то и случаи отравления алкоголем со смертельным исходом увеличивались год от года. Только в Екатеринбурге за III квартал 2002 года было зафиксировано 168 таких случаев. Чаще всего от злоупотребления алкоголем погибали мужчины: в возрасте 40-50 лет – 32%, 50-60 лет – 15%.
В октябре 2004 года на заседании правительства Свердловской области, которое прошло под председательством премьера Алексея Воробьева, в очередной раз был рассмотрен вопрос о противодействии распространению пьянства, алкоголизма и наркомании на территории нашего края. На 1 июля 2004 года в области только официально было зарегистрировано 43 тысячи 822 человека, больных алкоголизмом. При этом в последние годы резко возросло их число среди детей, подростков и женщин. И если еще десятилетие назад на десять сильно пьющих мужчин приходилась всего одна сильно пьющая женщина, то сегодня их уже четыре, заявляют врачи. Представительницы прекрасного пола сегодня ведут тот же образ жизни, что и мужчины, и перенимают те же привычки.
Только в первом полугодии 2004 года в Свердловской области на почве пьянства произошло 7212 преступлений. В состоянии алкогольного опьянения было совершено 80% раскрытых убийств, 75% изнасилований, 58% хулиганств и 40% грабежей. Плюс ко всему, значительная часть травмированных лиц находилась все в том же нетрезвом состоянии. Увеличилось и количество административных правонарушений, связанных с управлением транспортом водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. Таких нарушений только в первой половине 2004 года было выявлено почти 25 тысяч, тогда как за весь 2003 год их было – 31587. За шесть месяцев 2004 года 1220 человек отравились алкоголем и его суррогатами. Число летальных исходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 122 случая и превысило 880 смертей.
В свою очередь уральские производители спиртного жаловались, что из всего выпитого в области алкоголя, только четверть выпускается в Свердловской области. Остальное – это продукция из Украины, Карелии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других регионов. В розницу такая бутылка водки стоила немного – от 40 до 50 рублей. Коммерсанты приобретали этот алкоголь вообще по 15-20 рублей за бутылку. Заметим, что речь здесь идет не о суррогате, как правило, это была продукция вполне приемлемого качества.
2006 год не принес положительных изменений в питейном вопросе. Несмотря на относительный спад водочного производства в общем объеме алкогольных напитков, жители области меньше пить не стали. На ежемесячной пресс-конференции свердловский губернатор Эдуард Россель сделал довольно мрачное заявление. Глава губернии признался, что не видит реального способа побороть алкоголизм среди уральского населения. «Ну, допустим, мы даже переловим всех продавцов суррогатного спирта, от которого люди мрут. Но ведь самое страшное, что у нас в области полмиллиона алкоголиков. Их ведь за руку не удержишь, чтоб не пили! Где мы найдем полмиллиона человек, которые бы их за руку держали? … Мне из сел пишут, мол, помогите! Пьянка! И ведь работа есть. Выращивай, например, скот. Мы дотируем сельское хозяйство, и можно получать доход. Но ведь не работают. Идешь по селу, смотришь, где крапива выше окна – сразу понятно, что хозяин – пьяница. Даже заходить не надо».
В заключение свердловский губернатор сделал вывод, который на протяжения последних 150 лет время от времени делали почти все политические деятели России – пьянство остается самой большой бедой всей России, которую можно решить только с помощью культурного воспитания и подъема нравственности…
P.S. Согласно данным РБК, сумма алкогольных акцизов к концу 2012 года составила 250 миллиардов рублей. Доходы же федерального бюджета в 2012 году – 11,780 трл. рублей. Таким образом, доля алкогольных акцизов в доходах федерального бюджета в 2012 году составила 2,1%.
Источник: Акифьева Н.В. Питейная история Урала (XVII –начало XXI века). Серия «Очерки истории Урала». Вып 44. – Екатеринбург: БКИ, 2010. – 96 с. (Изд. третье доп. и испр.). С.76-93. (доп.)
ИСТОРИЯ О ЧЕТЫРЕХСТАХ РУБЛЯХ (по материалам одного архивного дела)
В первой половине XIX века на Урале наблюдался интенсивный рост населения. Одной из важнейших причин этого явления, наряду с миграцией, было естественное увеличение рождаемости. До середины XIX века среди жителей Шайтанского завода, находившегося в Екатеринбургском уезде Пермской губернии, преобладала молодежь – мальчики до 12 лет составляли более 50 % от всех лиц мужского пола. В то время большая семья, несмотря на высокую детскую смертность (примерно каждый второй родившийся не доживал до 10 лет) была не редкостью, а нормой. Рождение двойняшек и даже тройняшек мало кого могло удивить, а вот появление на свет сразу четырех младенцев, да к тому же мальчиков, было событием государственной важности.
В конце февраля 1842 года в Шайтанском заводе, принадлежавшем тогда московскому дворянину Ивану Матвеевичу Ярцеву, жена крестьянина Аверьяна Ярова (имени этой женщины история не сохранила) родила «четырех младенцев мужского пола». Через год донесение о редком случае достигло столицы. В апреле 1843 года Его Императорское Величество Николай I, узнав о том, что в Шайтанском заводе в семье Яровых родились четыре младенца «мужского пола», Высочайшим указом повелел выдать крестьянке Яровой денежное пособие. Сумма «материнского капитала» была назначена лично императором и составила громадную для крепостного крестьянина цифру – 400 рублей серебром. Жест был поистине царским, учитывая, что государственными финансами тогда управлял граф, а по совместительству «главный начальник корпуса горных инженеров», Е.Ф. Канкрин, считавшийся самым скупым министром. Получить деньги у Канкрина было делом невероятно трудным. Даже император, нередко, слышал от него почти неизменное: «Нельзя, Ваше Величество, никак нельзя».
27 апреля 1843 года министр финансов уведомил о Высочайшем решении своего подчиненного – «царя и бога уральского хребта», главного начальника горных заводов, генерала Владимира Андреевича Глинку.
Но скоро письма пишутся, да не скоро дело делается. Николай I самостоятельно решал многие государственные вопросы, лично контролировал министерства и ведомства. И в этом он опирался на огромный чиновнический аппарат, создав тем самым разветвленную бюрократическую систему. Все дела велись канцелярским порядком. Непрерывный бумажный поток, лившийся из центральных канцелярий, наводнял местные учреждения. Переписка могла длиться годами, разрастаясь до невероятных размеров. Историк В.О. Ключевский рассказывал о некоем деле, один экстракт которого, приготовленный для доклада, составлял 15 тыс. листов. Для перевода этого дела из Москвы в Петербург наняли несколько подвод, но по пути все дело до последнего листа, все подводы, все извозчики пропали без вести. Такие вот были дела.
Крестьянке Яровой повезло больше. Не прошло и полгода, как, получив распоряжение из министерства финансов, канцелярия начальника горных заводов Уральского хребта первым делом спешит отписать господину Министру финансов
Рапорт
Честь имею донести Вашему Сиятельству, что предписание о Высочайшем повелении и Всемилостивейшем пожаловании крестьянке Шайтанских заводов Яровой 400 рублей серебром мною получено и отдано для распоряжения.
Главный начальник горных заводов Уральского хребта, генерал Глинка.
Надо заметить, генерал Владимир Андреевич Глинка личность замечательная. Особое положение Урала и Екатеринбурга предоставляло ему огромную власть. Молва утверждает, что генерал был хорош: «вспыльчив да отходчив, грозен, да милостив, и честен, и самостоятелен в поступках». Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Екатеринбург» приводит занимательный анекдот, имеющий отношение к демографии и одновременно свидетельствующий об авторитете главного начальника на Урале:
«Раз генерал объезжая заводы в окрестностях Екатеринбурга, остановился закусить в доме простого рабочего.
– А дети есть, – спросил Глинка смутившуюся хозяйку. – А, нет! Ну, чтобы в следующий раз, когда поеду, были дети… Слышишь?.. Да, чтобы был мальчик…
Действительно, через год Глинка опять приехал в этот завод. Является какой-то рабочий и требует допустить его к «самому генералу» по важному делу.
– Чего тебе? – сурово встретил смельчака Глинка.
– Готово, Ваше Высокопревосходительство…
– Что готово-то?..
– А тогда мальчика заказывали Ваше Высокопревосходительство… Так все готово, только дожидались вас крестить.
Глинка окрестил «заказного мальчика» и потом поместил его на свой счет в учебное заведение».
Крестьянке Яровой пришлось ждать Высочайшего вознаграждения почти два года, слишком тяжело раскручивался маховик бюрократической машины.
4 октября 1844 года Уральский берг-инспектор сообщал: «По распоряжению Вашего Превосходительства от 22 сентября за № 3072 Уральский берг-инспектор имеет честь донести. Всемилостивейше пожалованные крестьянке Яровой, по случаю рождения ее четырех сыновей, деньги, в размере 400 рублей серебром исправником Ревдинских заводов получены из Екатеринбургского Губернского Казначейства, за вычетом 10 % в пользу инвалидов и за отчислением страховых в сумме 1 рубля 79 копеек. Остальные 358 рублей 20 3⁄4 копеек выданы означенной Яровой с росписью».
На этом закончилось дело о всемилостивейшем пожаловании крестьянке Шайтанского завода 400 рублей серебром, длившееся с 17 мая 1843 года по 6 октября 1844 года. Как распорядилась крестьянская семья царской милостью неизвестно. Одно знаю – деньги эти для семьи Яровых лишними не были.



