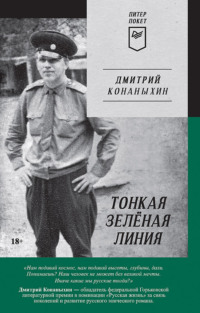Полная версия
Жизнь Гришки Филиппова, прожитая им неоднократно
Они идут, смеются, я сзади волочу свою душу неприкольную. А потом… Потом стою у ее окна – и капли дождя, такие крупные, вырастают из желтого неба – и прямо в глаза, по лбу лупят, лицо заливают.
– Ты чего-то ждал?
– Конечно. Всегда, когда влюблен, безумничаешь. Надеялся, что заметит, что, может, что-то, хоть что-то скажет. А она знала, что я внизу стою, вот и крутилась на кухоньке. Тогда я не выдержал, достал из кармана расческу – патлы у меня «под битлов» были, – ну и бросил расческу в стекло.
– А она?
– А она… А Валя – ничего. Занавеску задернула. На следующий день я стою на переменке, молчу, на душе грустно, но стараюсь не выдавать себя. Зачем что-то показывать? И тут, посреди всей толпы, Валя ко мне подходит – так, чтобы принцессы видели, и громко так, на весь коридор, чтобы все слышали: «Филиппов! Ну что ты за мной лазишь, зануда! Что ты таскаешься везде за мной?! Отвали!» И к принцессам, гордо так задрав нос, возвращается.
– А ты?
– А я не понял. Понимаешь, я тогда не понял, что так – специально – можно такое сделать с живым человеком. Ну, мало ли что бывает, но с душой, с живой душой… И я тогда заболел. Перестал есть, перестал учиться толком. Хорошо, что скоро пошли зимние каникулы. Наша мама очень переживала, волосы рвала на себе, я ж вдвое высох, с меня все штаны сваливались, как со скелета. Бабушке звонила, отцу в Тюратам. И ничего со мной они не смогли сделать. Страдал я тогда, неприкольный зануда, качественно, надежно. До весенней олимпиады по физике. Ты же идешь на мартовскую олимпиаду? Вот и я, точно так же, ровно в том же восьмом классе, отправился на олимпиаду по физике. Делать было нечего, учительница СанСанна гнала меня пинками, я ж все олимпиады до этого выигрывал. Вот…
Прихожу я в ту школу, стою, регистрируюсь, а тут мне девочка, которая всех записывала:
«Гриша!» – «Да» – «А я Катя! Катя Ножкина, помнишь?»
– А ты что?
– А я что? Ничего, Шура. Смотрю из тьмы своего страдания – девочка, очень хорошенькая, глаза голубые, коса в твою руку, волосы белые, как будто у куклы, да так радуется мне, так радуется! Мы с Ножкиными были соседями по старой хрущевке, они потом переехали в другой район, а я с Катей дружил, но было-то мне тогда всего ничего, лет семь.
– Вот же ты бабник, Гриша!
– Спокойно, Шура. Короче, стою я, оживаю, на физику уже пофиг, Катя мне телефон записывает, тоже смеется, я ту олимпиаду, естественно, с хрустом заваливаю. Знаешь, там так прикольно было. Заходит к нам тогда вербовщик из Физтеха. (Тогда всегда приходили вербовщики-студенты, рекламировали институты. Ну, я тогда все выбирал между Бауманкой и Физтехом.)
– Ну?
– Угу. И этот ботаник в очках, как у водолаза, давай рекламировать: «Р-р-ре-ре-ре-б-б-бя-т-та! Ун-нн. Н-нас т-т-так-к зд-зд-здор-ррово уч-ч-ч-чит-ться!» Заикается и головой трясет при этом. Мы за партами сидим, чуть не ржем в голос.
Короче, я тогда решил в Физтех не идти. Очень хотел делать, что твой отец делал. К звездам рвался, дурак. Всегда глупым был.
– А Катя?
– Слушай! Ты спать собираешься? Что ж ты так все слушаешь? Ладно-ладно, слушай дальше, Ромео.
– Гришка, вот как врежу!
– Не сверкай, не сверкай. Дальше… А дальше я домой прихожу в самом зашибенском настроении – любого страдальца, с самым разбитым сердцем, оживит улыбка голубоглазой блондинки с толстой косой до попы.
4– И стали мы дружить с Катей… И звонил я ей каждый день, звонил из телефонной будки в двух домах от нашего. Ведь телефона у нас тогда еще не было. Знаешь, на углу улицы Орджоникидзе, я тебе показывал, там до сих пор на стене кирпичного дома светлое пятно – там телефонная будка стояла, автомат, я оттуда звонил Кате. Менял в школьном буфете двадцать копеек на двушки, на копейку брал кусочек хлеба, солил, томатный сок – вот и наелся. А на все деньги звонил Кате. И кормил телефон «двушками». И на узоры замерзшие на стекле будки дышал, пока ее слушал.
– Гриш, а о чем вы говорили?
– Шура, вот о чем влюбленные дети говорят? Обо всем, но больше друг друга голос слушают. Люди, если любят, они голосу рады, дыханию рады, рады, что жив родной человек, что он живет – даже если просто слышишь его голос из обледеневшей трубки. Днем тогда народу мало было, все на заводе работали, поэтому я мог долго в телефонной будке стоять – все стекла в узорах, трубка обледенела, а я Катю слушал, как она обо всем-всем рассказывала. И я был счастлив…
– А потом?
– А потом, Шурка, потом я ее очень обидел.
– Как?!
– «Как-как»… Нечаянно. Со всей дури, по-дурацки. Понимаешь, ее родители в Тюратам мотались тогда постоянно. Тогда все жили там – на площадках самая штурмовщина «Бурана» была. А мама ее, Катина, она… Там же все лучшие спецы были, им же и сорока не было, со всего Союза, самые лучшие, самые умные, гитары, песни… Короче… Не была она верна Катиному папе. Папа ее тоже занудой был. В отличие от весельчаков. Знаешь, в любом коллективе всегда были весельчаки, есть и будут такие. Хохотуны женщинам всегда нравятся, с ними легко, прикольно. И вот однажды Катя мне что-то о маме сказала, мол, не любит она маму свою.
– А ты?
– А я ее тогда не понял. Не понял, что она мне самое дорогое, душу свою доверила, самое сокровенное, сомнения свои. Я-то, дурак, подумал, что нельзя маму не любить, я же маму очень любил. Ты же нашу маму любишь? Вот… Вот я тогда Кате что-то такое сказал, не обидное, но поучительное. И… И больше я ей не звонил.
– Как же так?! Вот ты дурак!
– И даже хуже. Дурак, конечно. Все мы ошибки делаем, Шурка. Все мы учимся жить, людей понимать. Ты же тоже учишься. Ничего страшного, что она тебя, принцесса твоя, обидела.
– Гриша!
– Что, Ромео… Тихо-тихо, ну извини. Я все знаю. Все будет хорошо. Встретишь свою – ту, которая тебя всем сердцем поймет и примет. Только ты к физике давай сейчас готовься. Жизнь видишь как поворачивается, все же повторяется. Как у отца, как у меня.
– Гриш…
– Что?
– А мы зануды, да?
– Нет, конечно. Что ты. Просто порода такая у нас – казачья. Твой прадед прабабушку украл, дед бабушку украл, папа маму украл…
– А ты?
– Так, спокойно, нечего хохотать! Ты вообще сегодня спать собираешься? Не вздумай ночью ботанить! Давай, бабокрад, спать ложись, мал еще гуленничать, Шурка, глупая ночь на дворе…
5– Гриш! Гришка! Меня по школе объявили!
– В смысле?
– По радио! Второе место на районке! Понимаешь?
– Класс! Поздравляю. А первое кто? Лицей, конечно же?
– Да, лицей. Но там сразу видно, лицей – он же губернаторский, там все куплено. Там на регистрации сразу понятно было. Мы, представляешь, пришли, нас спрашивают, из какой мы школы, а этих сразу: «Лицей? А, здрасьте, ребята, проходите». Там у них вся комиссия – половина из лицея, мы сразу все поняли.
– Да ничего страшного. Сложно было?
– Да нет, семечки, я все порешал. Знаешь, хорошо, что я решал по герцам задачи, что вперед ушел на пол-учебника, там получилось прикольно, нам еще кубические корни не давали и частоту, а я и плотность высчитал, так проще, и частоту колеса по плиткам – ну, герцы перевел, а наши не поняли, а еще там было на скорости, мы с тобой считали…
– Погоди, не тараторь. Кофе будешь?
– Угу. А еще, знаешь, мы сидим все – а там десятиклассник такой, веселый, прикольный – оглядывается и говорит: «Гляньте, ни одной девчонки!» И мы все давай хохотать. И дядька, который преподаватель из Физтеха, бородища – во, пузо – во! – пузом стол отодвигает. Он гогочет, аж стол трясется: «В физике бабы не нужны…»
6А ведь Шурка ждал – на своей олимпиаде. Ждал, не встретится ли ему его Катя. Придет ли моя Катя – пятнадцать лет спустя, но к нему.
И ведь они всегда ждут своих Кать – тринадцатилетние мальчики, которые зануды, которые не хохотуны. Эти мальчики поступают в свои Физтехи и Бауманки; команды этих институтов всегда проигрывают в КВНах, в отличие от веселых заборостроительных[38] приколистов. Потом эти занудные ребята строят заводы и космодромы, уходят в тундру и тайгу, они идут вслед за отцами и дедами за край земли, они учатся открывать свои звезды, строить свои корабли, свои подводные лодки, ставят эксперименты на себе, создавать новые вакцины – на себе, печь свой хлеб и создавать новые сплавы, лезть в радиоактивное пекло вслед за своими глючащими роботами, сушить голову, работать каторжно, запускать свою «Ангару».
Над ними всегда поначалу смеются принцессы – такая уж у зануд планида: много работать, терпеть, стараться, учиться скрывать свои чувства и быть всегда готовыми встретить свою единственную, настоящую, удивительную.
И украсть ее.
Ехидна
1Как известно каждому уважающему себя бауманцу, самое страшное в жизни опытного студента – это перед зачетной неделей сорваться в штопор недосданных лабораторных, незачтенных семинаров, заваленных коллоквиумов, обрасти «хвостами», что твой павлин, и не выйти на сессию в славном Технилище[39].
Павлины, братик, бывают зимними и весенними. Но если весенним павлинам судьба благоволит – весной доценты, разнеженные ласковым солнышком, улыбчиво пребывая в некой туманной меланхолии, ставят «неуды» редким оголившимся студенткам и лишь слегка терзают несчастных козерогов[40], – то зимним павлинам тоскливо, скучно и тревожно в ожидании родительского звонка «Когда тебя ждать, сынок?» и сначала призрачного, но потом все более неотвратимого знакомства с товарищем военкомом. Суетливая предсессионная неделя, когда зимний пернатый пытается вырвать перья из своего хвоста, это время скорбей, тревог, сложного похмелья и поиска спасительных комбинаций для продления сессии, чтобы успеть досдать, дотянуть, проскочить, выучить, «отбомбиться»[41] любой ценой.
Подчеркиваю – любой ценой.
Одной из самых надежных, но сложных в исполнении схем была тема тяжелой болезни. Единственным ее недостатком была странная, математически, физически и метафизически необъяснимая недоверчивость институтских терапевтов к потокам тяжелобольных студентов, которые на предэкзаменационной неделе бесплотными тенями, оглашая окрестности мучительным кашлем, сдерживаемыми стонами, белея перевязками и гипсами, стекались к казенным дверям бауманской поликлиники. Чтобы разжалобить медикусов, эти порождения средневековой инквизиции, нужны были особые, железобетонные основания. Итак…
2Зимой 198… года что-то мне становится как-то печально на самой первой паре физкультуры. Захожу я к медсестре, она у меня обнаруживает какие-то странные цифры давления, вроде 80 на 70, и поэтому несколько оживленно интересуется, как я вообще живу на этом белом свете:
– Эй.
– Что?
– Мальчик, как ты себя чувствуешь?
– Норм. А что?
– И голова не кружится?
– Нет. А что?
– Давай еще раз померим.
– Что?
– Ты слышишь меня?
– Давайте.
– Что?
– Норм.
– Понятно… Ну-ка давай еще разок измерим.
– Норм.
Медичка получает какие-то другие, еще более забавные показания моего организма. Он не соглашается с моим предсессионным настроением и явно решает расслабиться.
– Нет уж, – шипит медичка. – Марш в поликлинику.
– А надо?
– Марш отсюда! Иначе зачета не будет!
Марш так марш.
Ну устал я, устал.
Даже очень.
Чапаю я по мокрому снегу, по бурым лужам, заявляюсь в поликлинику, занимаю место в длинной очереди к нашему эскулапу, которого мы ласково зовем Ехидной, и скучаю среди страдальцев. Но тут под дореволюционными сводами раздается какой-то странный, зловещий, лязгающий стук и в утреннем сумраке коридора медленно-медленно материализуется силуэт моего закадычного дружбана Сани Васильчикова – на костылях и фактически при смерти, столь бледно его чело и полны невыразимой муки глаза.
Я резко сомневаюсь в увиденном, говоря проще, не верю уже своим глазам: прошлой ночью Саня был живее всех живых, индейцем скакал по сцене Дома культуры и дудел в свой любимый саксофон так, что вышибал дух из бауманской дискотеки. Бауманцы визжали, орали и крутились волчками, а Витька Монеткин, звезда институтской секции по боксу, стоя на краю сцены и, подняв согнутую в колене ногу, энергично двигал пятой точкой так, что при виде его фирменного па визжали приглашенные участницы «Московского общества подруг инженеров»[42].
…Будущих инженеров, конечно. Инженерами надо еще суметь стать. Через четыре года Витя станет охранником очередного миллионера и убьет киллера одним ударом, и ничего ему за это не будет во времена торжествующей демократии. Впрочем, я отвлекся. Ты останавливай меня, если что, Шура.
А вот на той дискотеке… О, это было удивительное время, когда молодежь еще не умела целоваться по-заграничному, то есть с громким чавканьем и напоказ, поэтому ребята по старинке молча распускали руки ко всеобщему удовольствию будущих подруг инженеров… Да уж… Эх.
Лязгая костылями, Саня подходит к нашей очереди, бледнеет и молчит.
– Саня?
– А, привет, Гришка.
– Э-э-э…
– Нормально. Ты к Ехидне?
– К нему.
– Гришка, пошли вместе, а?
– А смысл?
– Смысл есть. Ты мой боевой товарищ. Ты привел друга, помог дойти. У тебя добрые и честные глаза, ты, Гриша, умеешь врать, как бог. Ехидна тебе поверит. Он отвлечется, короче, все будет в шоколаде.
– Думаешь?
– Отвечаю.
– А диагноз?
– Гришка, ты че, мне Виолетта такую историю болезни достала! Пять листов одной латыни. Бурденко! Фирма! Ехидна вжисть не разберется. Говорю: две недели в кармане. Даже три! Ну ты чего? Вечно ты какой-то слишком пессимистичный!
– Дай-ка глянуть. А костыли зачем?
– Для надежности. Ты че, я все продумал. Ты подведешь меня к Ехидне, я уроню костыль, ты меня поддержишь, он бросится поднимать, это вызовет в нем чувство сопричастности.
– Саня, ты где понабрался этой мути?
– Это Элеонора.
– Элеонора?
– Ну, с психфака[43].
– А Виолетта?
– Ну что ты занудничаешь? Ты еще о Жанне спроси. Так! Эй, козера! Расступись! Ты че?! Пусти тяжелобольного! Ты не понял? Ну, блин, вот я выйду. Нет, ты понял?! Гриша, до чего борзые козера пошли!
Раздвинув возмущенно пищавшую икру первокурсников, которых за строптивость и легкую невменяемость, свойственную всем бывшим школьникам, испокон веков зовут козерогами, мы протискиваемся в дверь:
– Ростислав Васильевич, можно?
– Вы оба ко мне?
– Оба.
– Хм… Ну-ка, ну-ка… Красавцы. Проходите оба.
И начинается наш поход.
Я несу тело боевого товарища на себе. Саня, роняя пот, бледнея и обмирая, мужественно, по сантиметру, преодолевает бесконечные три метра к столу.
Ехидна молча наблюдает шествие бойцов. Герои, соответственно, преодолевают пространство и время кабинета. В сгустившейся тишине оглушительно гремит расчетливо оброненный костыль. Саня слегка приподнимает голову, чтобы оценить диспозицию. Дело дрянь: Ехидна даже не шевелится. Он возвышается в кресле темным инквизитором напротив предновогоднего окна и скептически подпирает подбородок кулаками.
Это все очень-очень скверно. Но отступать уже поздно.
– Так… Филиппов, ты без костылей. Начнем с тебя. Что у тебя?
– Вот, – я протянул ему записку медсестры.
– Так. Сколько дней не спал? Два? Три?
– Э-э-э…
– Значит, три. Посиди пока. Васильчиков, что у тебя?
– Вот… Ростислав… Васильевич… Вот…
Ехидна скептически берет тоненькую папочку, смотрит на штампы, хмыкает, скучливо трет переносицу, затем опускает очки со лба. Поправляет очки. Я смотрю, как бегают по строчкам его глаза. Ехидна приближает листок к переносице, аккуратно кладет на стол, снимает очки, но поднимает брови и потом переводит взгляд на Саню.
Саня хорош. Саня красавец.
Саня теряет жизнь по капле.
Ехидна протирает очки белоснежным платком, снова читает профессиональную клинопись.
Хмурится.
За дребезжащим окном ползут автобусы, гудят моторы, хлюпает слякоть, доносятся голоса прохожих и карканье ворон, низкое небо набухает оттепелью. Время течет смолой.
Вдруг Ехидна резко вскакивает и прыгает к стеллажу, берет толстенный том и начинает с шумом листать, потом хватает еще какие-то справочники, плюхается в растерянно крякающее кресло и опять углубляется в чтение. Мы наблюдаем за ним с легким удивлением: манускрипт Виолетты явно действует на всю катушку.
Ехидна закрывает лицо большими пухлыми ладонями. Его пальцы дрожат. В таком состоянии, клянусь, его никто никогда не видел.
Мы переглядываемся – с длинных ресниц красавчика Сани слетают молнии ликования.
Наконец Ехидна отнимает ладони от мертвенно бледного лица. Мы в шоке – он заливается слезами. Это… сильное зрелище. Ехидна встает, грузно наклоняется, поднимает Санин костыль, огромной тучей надвигается на нас:
– Мальчик… Бедный мальчик… Как же так…
Мы с бедным мальчиком обращаемся в камень.
– Мальчик… – Ехидна протягивает костыль Сане. – Вот. Возьми. Как… – он говорит с усилием, будто держит на груди каменную плиту. – Как ты себя чувствуешь, мальчик?
Саня, как-то особенно задумчиво и нежно, с подлинно ангельским смирением, отвечает:
– Держусь, Ростислав Васильевич. Держусь… – И, подобно святому Себастьяну, кротко и недоуменно взирающему на стрелы в своем теле, сжаливается над Ехидной: – Колено болит, но терпеть можно.
– Что?! – вдруг сипит Ехидна. – Что болит?! Что терпеть можно?!
– К-колено, – вдруг запинается святой Себастьян. – Почти. Не… Болит…
– И больше ничего? Вот как? Так-так…
Ехидна возвращается на свое место, закрывает и огромной своей лапищей гладит книги, аккуратно складывает очки в очечник, откидывается на спинку кресла и минуту рассматривает сводчатый потолок. Потом берет манускрипт Виолетты, перелистывает пару страниц, будто забыв о нас, но…
– Молодой человек. Вот здесь, в вашей справке, – вдруг ласково мурлычет Ехидна, – здесь написано, что вам, молодой человек, вот буквально на прошлой неделе проведена сложнейшая операция на открытом сердце…
Мы молчим. Все ясно.
«Бросьте этих христиан львам!»[44]
Наш кумир
– Вы должны! – она с негодованием швыряет колючие грозные слова в наши с Витькой Монеткиным тупые рожи. – Молодежь должна подняться!
За окном неслышный снег целует ночь в желтом луче фонарей на улице Радио. Мы отрешенно молчим, пытаясь понять, какой черт дернул нас прийти после всех пар на это сборище. Сквозь плотно закрытую дверь в нашу неосвещенную аудиторию[45] проникает неизбывный запах соусов «Гастритки».
– Юноши! Революция – это!.. – Она задыхается, трепетно вздымаясь над нами. – Это прекрасно!
Витька сдерживает ржание. Я толкаю его под партой – в Технилище еще сохранились дореволюционные парты на несколько будущих личинок инженеров. Витька с удовольствием толкает меня.
– Молодые люди! Сегодня решается судьба демократии! Только баррикады! Завтра вы должны показать, на что способны русские мальчики! Бауманцы, вершится история! – Она замолкает, что-то мелькает в ее пылающих глазах, и она презрительно бросает нам в лицо: – Как?! Вы, студенты Императорского училища, не хотите пойти и умереть на баррикадах революции?!
Валерия Ильинична[46] прекрасна в своей ярости. Нам не хочется.
Марина
1– Счастливо, – бормочу я и пожимаю ее тонкую горячую руку. – Пожалуйста. Все будет хорошо.
Ее пальцы вздрагивают в моей ладони. Она все-все понимает. Конечно, у каждого своя жизнь. У нее мокрые глаза. Она кивает мне и шагает обратно в тамбур. Я всего лишь случайный попутчик.
Так бывает.
Я разворачиваюсь и шагаю по перрону, покрытому изморозью и белыми пузырями луж. Неразборчивые объявления диспетчеров Киевского вокзала, уютный дымок над составами, гул огромного города, две полосы дыма теплоцентрали справа, первые редкие снежинки из высокого серого неба – все как и должно быть на этом белом свете – до этой прошедшей ночи.
Ночи, которую мы провели вместе.
2О чем обычно думает двадцатидвухлетний балбес, когда обнаруживает, что сверхудачно договорился[47] с проводницей проходящего поезда и занимает двухместное купе проводников? Конечно, не о том, как выспаться, пока кишиневский поезд идет из Киева в Москву, и не о, вполне возможно, поддатом командировочном соседе, и не о возможной пенсионерке, которая обложится баулами и будет похрапывать желтой ночью – отчетливей дребезжащей ложечки в стакане; нет – балбес, то есть я, думает о возможном дорожном приключении – может быть? Ну, да, выдуманность, да, мимолетность, да, суета, пошлость, глупость – нечего таким забивать голову, но – а вдруг? – войдет пушистоглазая девочка, и ее будут провожать пожилые родители, не парень, нет, не надо парня, у нее будут пушистые прямые волосы до… Джинсы будут туго сидеть на ее фигурке… Или юбка? Нет, джинсы. В дорогу надевают джинсы.
– Вам чай сразу принести? – прерывает мои мечтания проводница. – Вы ж не волнуйтесь, располагайтесь, я у подружки посижу ночью, все хорошенечко, да, – почему-то хихикает она.
– Да, чаю было бы хорошо. Скажите, а не будет жарко? Батарея жарит.
– Да нет, что вы. Это ж я на сейчас открыла краник, на сейчас. А как все киевляне по купе разместятся, я ж тут же и отрегулирую.
Она поворачивается всеми многочисленными боками и выходит. От нечего делать, я пялюсь в окно, рассматриваю киевских провожающих – люди всегда интересны. Впрочем, я не успеваю заскучать – дверь купе открывается.
Проводница переступает порог, заполняя собой почти все пространство:
– Понимаете, тут… – Она как-то странно, изучающе на меня смотрит. Совсем по-другому, без игривости, а как-то очень неприятно, будто насквозь хочет просветить. – Понимаете, тут вместе с вами… – И еще пристальнее в меня вглядывается, что-то хочет услышать. Я молчу.
Она вздыхает, прозрачными заслонками закрывает душу и возвращается к привычному тону:
– А и проходите, заходите ж.
Сумка. Вторая. В купе входит женщина. Нет, это явно не приключение. В руках она держит клетчатое пальто из семидесятых годов, будто с чужого плеча, на ней какая-то странная шапка. На вид ей лет сорок, лицо странной худобы, голубые блестящие глаза, волосы с проседью точно не по возрасту.
– Вика, заходи. Заходи.
В купе входит девочка, лет двенадцати, по-старинному закутанная в пуховую шаль. Смотрит на меня.
«К черту приключение. Эх…» Я здороваюсь первым:
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Извините, пожалуйста. Мы до Москвы с вами будем. Вика, дай лоб… Горячий.
– Что с ней?
– Жар. Горит. Но нам срочно надо в Москву. Никак нельзя иначе.
– Лекарства есть?
– Есть-есть, не волнуйтесь.
– Так, секунду, я на верхнюю переберусь. Давайте я быстро все застелю.
Моя спутница настолько усталая, даже нет, слово неправильное, такая заморенная, что я вскакиваю, помогаю им разложить сумки, потом они выходят в коридор, а я стаскиваю тюфяк, шерстяное колючее одеяло, быстро застилаю внизу, потом себе, потом вываливаюсь в коридор.
– Ой, вы нам постелили?..
– Ну, чтобы не толкаться. Переодевайтесь спокойно.
– Спасибо… Меня Марина зовут.
– А я Гриша.
– Вот и познакомились, Гриша.
Я уже ничего не понимаю.
Поезд медленно движется по стрелкам центрального вокзала, потом, набрав ход, наполняется с детства знакомым особым гулом дальней дороги, начинает постукивать-разговаривать всеми сочленениями, ровно катится по грохочущему мосту через Днепр – нет, в этот раз «Бабу с мечом»[48] не видно, – с днепровскими кручами надо прощаться из купе, а там сейчас переодеваются мои странные попутчицы. До меня доносится кашель девочки – без мокроты, надрывный.
«Ого. Как бы не воспаление».
3Около полуночи я просыпаюсь от нестерпимой духоты. Горячий воздух от радиатора поднимается ко мне. Я свешиваюсь и смотрю вниз. В купе изредка заглядывают отсветы дальних фонарей, за окном мечутся лапы деревьев, где-то далеко впереди натужно гудит тепловоз. Марина сидит возле Вики и мокрым носовым платком протирает ей лоб. Девочка спит крепко. Ее лицо мелькает во вспышках света за окном. Красивая девочка. Как олененок. Будет невероятной красавицей.
Я спускаюсь вниз.
– У нее воспаление. Я не знаю, что делать, – тихо говорит Марина. – Так жарко… Так нестерпимо жарко. Вике плохо. А проводница куда-то ушла. И в соседних вагонах проводников нет.
– Может, собрались где-то и пьют.
– Не знаю. Очень, очень жарко.
– Давайте одеялом батарею закроем.
– Одеялом?
– Ну да, сложим в несколько слоев. Будет теплоизоляция, – я выпендриваюсь, как настоящий пятикурсник.
– Ой, ну если что, если, давайте попробуем.
– Только не разбудить бы Вику.
– Мы в Москву едем. Нам надо. Нам по-другому нельзя.
Я закрываю батарею толстым слоем колючей пыльной шерсти. Дергаю окно. Нет, оно закрыто намертво. Выхожу. У проводников тоже заперто. И в коридоре.