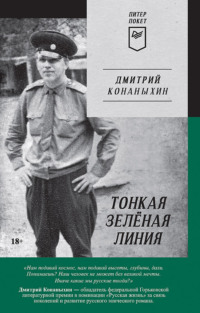Полная версия
Жизнь Гришки Филиппова, прожитая им неоднократно
Возвращаюсь:
– Знаете, в коридоре еще жарче, тут титан рядом.
– Вы сможете отключить?
– Попробую. Вроде… Секунду. Вроде отключил.
– Да вы ложитесь. Извините, что я вас разбудила.
– Нет, что вы извиняетесь. Я от духоты проснулся. Сейчас, постою чуть здесь. Подышу. Там, наверху, совсем нечем дышать.
– Да я подвинусь. Вот, здесь, я чуть подвину Вику. Она маленькая, много места не занимает, вы садитесь.
– Что вы, не беспокойтесь. Сейчас я уйду наверх. Еще пять минут побуду, чуть подышу.
– Останьтесь, Гриша. Пожалуйста.
4Она именно так и произносит, я точно слышу: «Останьтесь». Только не голосом из «фабрики грез» и не досужим каким-то… Я даже сказать ничего не могу, странная какая-то просьба, но что-то в ее голосе звенит такое, что… Марина берет мою руку. У нее удивительно горячие, сухие, нервные пальцы.
Я замираю.
Так мы и сидим в темноте, за окном летит время, ползет пространство, поздняя осень гонит серые тучи, рядом с нами спит очень больной ребенок, маленькая девочка. Вдруг Марина тихо, почти шепотом начинает говорить:
– Она моя племянница. У нее никого не осталось. Мы в Москву едем. Там наши дальние родственники. Потом дальше поедем. Поездом. Моя сестра… Короче, к ним в дом попала бомба. Я сама в Бендерах живу… Жила. А сестру с мужем и братика ее. Самолет. Эти. Они тогда… Вам, наверное, показывали. Они тогда говорили, что нам, империалистическим советским собакам, не место. Нет там места. Что мы их законы не уважаем, что мы язык не учим, что мы никто, что мы хуже собак. Все как с ума посходили. Соседи стали злые. Все смотрят. А я же там учила их детей. Как так можно, как так можно? А эти, они стали приходить, они стали всякое говорить. «Убирайтесь». Нам. А я – что я? Кому мы плохо сделали? У нас на заводе люди стали собираться. А они говорят: «Убирайтесь». И по радио. И по телевидению, по местному, а потом – потом они наших ребят постреляли. А потом страшно стало, а потом… Вы извините, я сейчас, я… Так жарко, так, как той ночью, вы поймите, Гриша, так. Простите, вы не убирайте вашу руку. Пожалуйста. Вы не сердитесь, вы понимаете, это все так… А потом… Вы понимаете, мы вот этим летом к выпускному нашу школу готовили. Там же выпускной был, в ту ночь[49], в ту самую ночь, вы, наверное, знаете? Вы же понимаете, я же вижу, вы же еще студент, да, вы же помните ваш выпускной? Последний курс, наверное, вы извините, что я так много говорю, я не могу, не могу, не могу, а потом – они по улицам, на бронетранспортерах, и по всему стреляли, по всем, кто шел: по мальчикам нашим, и по девочкам, и по окнам – по всему, понимаете, стреляли, как в мишени, такой грохот, так страшно, так страшно… Гриша, Гриша, я все понимаю, у нас же Союз вроде был, мы же все вместе жили, но как же так, откуда все это?! Как так можно?! А потом, потом, Гриша, они же наших мальчиков резали, живыми резали, животы, девочкам, я же их учила, девочкам груди отрезали, живым, понимаете, живым! И смеялись, и резали, и смеялись: «Убирайтесь прочь, русские свиньи!» И мальчиков очень мучили, отрезали им все… вот здесь отрезали, там так много наших постреляли, грохот, ужас, ужас, я не понимаю, как так можно было, за что они нас так ненавидят, Господи?! Я не понимаю, не понимаю. И снайперы, и пушки, и все это так страшно, и самолет, и убили сестру и мужа. Мы беженцы, я никому не могу ничего объяснить, кто мы всем здесь?! Я не знаю, не знаю, не понимаю, я там не могу оставаться больше, вы поймите, там мне все, как ужасом все, там так страшно, так невыносимо – как людям в глаза смотреть – сегодня он сосед, а завтра, а завтра как, что он будет со мной делать? Я не понимаю, не понимаю, что за время такое, как так можно, у меня вот Вика, мы хотим до моей двоюродной тети, в Салехард, там, может, может, туда переберемся, не могу, я боюсь на старом месте, там ведь опять может война начаться, опять война, это так страшно, так страшно, Гриша, вы поймите, что это вот так просто, посреди всего, вчера мирно, тихо, все соседи, а сегодня ищут, бегают, убивают, режут – и еще эти, палачи, которые смеются, которые, а потом в рефрижератор, в холодильник такой автомобильный, ребяток наших складывали, они же живых резали, живых, наших деток, Гришенька! А они, мальчики наши, начали прятаться. Мальчики в реку прыгали, плыть, а по ним стреляли. А девочки кричали. Девочки так кричали… Гриша, как так можно, Гриша, что ж это такое, почему это все, за что они так нас?!
И я держу ее руку, и я глажу ее голову, и за окном летит ночь, и нет у меня слов, только сухой шелест ее голоса в ушах, гул поезда, гул крови, все вместе, и этот бесконечный разговор до самого утра, и я понимаю, что ей надо выговориться, что такое выговаривается только один раз, что такое можно рассказать только случайному, чужому человеку в поезде, человеку, который уйдет и не вернется, унесет в себе этот разговор, что такое своим не говорится, что все это, то, что ее жжет, сжигает, будет жечь, что это все было, есть и останется, что этот колючий страх, этот горячечный ужас, от которого она спасает горячечную девочку, – это все, что занозой, болячкой в ней сидит, – ей надо это все выговорить, обязательно выговорить, чтобы не поседеть окончательно. И мы говорим до самого утра…
5Я иду по перрону.
Я возвращаюсь в большой город.
Гудящие машины, морозный выхлоп, первые снежинки. Небо того светящегося серого цвета, в котором, подобно японцам, различающим сто оттенков красного, москвичи различают сто оттенков серого. Московская зима часто слякотная, но если приморозит, то бульвары украшаются таким пухом, такими кружевами, белым по белому, что… Скоро Новый год, совсем скоро все будут радоваться и говорить друг другу самые замечательные слова.
Вообще, хорошо, когда людям радостно, когда вокруг такое хорошее, радостное, праздничное время.
Шуба наизнанку
1И вот диплом.
Меня ждет Пятый сектор[50], знаменитый Пятый сектор, мечта всей моей голопузой жизни. Меня ждут самые патентованные, самые сумасшедшие спецы «Турбомаша»[51], меня ждет сам Боб Криштул…
Я уже год хожу в Пятый сектор как на работу. Мне так хочется говорить – «как на работу». Только проскочить, промучить, проломить эти четыре месяца – и начнется моя настоящая дорога к звездам. Впрочем, у каждого своя дорога.
Хитроумный Боб придумал мне в качестве дипломной темы хитроумно спроектировать метановый автозаправщик, который должен хитроумно работать, даже если на автозаправке или на площадке слива метана вырубят электричество. Для этого пепелаца[52] надо разработать такой турбонасосный агрегат, который может закачивать жидкий метан, используя давление паров кипящего метана и кучу всяких интересных регуляторов, испарителей и прочей технарской чертовщины.
Мне надо показать класс. Мне надо сдохнуть, но показать класс.
И меня начинает кружить и носить по библиотекам, как кузнеца Вакулу, что верхом на черте за черевичками летал.
Самая главная сложность в криштуловой загадке – это скрестить ужа и ежа: грамотно рассчитать и посадить на один вал колесо газовой турбины и колесо жидкостного насоса. Поначалу, как майское теля, взбрыкивая и радуясь, я лезу в книги нашей кафедры, подбираю и рассчитываю подходящие варианты по нашему главному учебнику – букварю[53] Веры Петровны Кунгурцевой, доктора технических наук, звезды моего Технилища и лауреата всевозможных премий. Следует сказать, что при виде Кунгурцевой трепещут все – восемьдесят лет, пловчиха дай боже каждому, стальной взгляд голубых глаз и не менее железная воля. Я бы даже сказал – титановая. С каждой страницы ее монографии лязгает, брякает, гремит и обрушивается на меня титановая непреклонность Веры Петровны – формулы стоэтажные, объяснения лаконичные до нервной чесотки и венец всего творения – оглушительно громоздкая методика расчета газовых турбин. Помнится, еще на третьем курсе мы рыдали, пытаясь удержать в дурных башках эту клинопись Кунгурцевой, ни черта не понимали, но учили, грызли и долбили великую премудрость Веры Петровны.
Но, черт побери, я же дипломник! Меня Боб ждет. К черту! Инженер я или нет?!
Я надеюсь быстро прогрызть этот гранит, бог с ним, газовые турбины есть газовые турбины, заново, буквально побуквенно и посимвольно штудирую букварь Кунгурцевой, лезу в раздел расчета жидкостных турбин… И сажусь в лужу намертво. Несопоставимо куцый огрызок, не пойми какие формулы, схемки…
Приплыли.
«А поутру они проснулись, под ними мятая трава»…
Чувствуя противно растущий внутри ужас, я ковыряюсь еще три дня, не сплю, заливаюсь крепким чаем, перевожу гору бумаги, я честно долблю букварь, пытаясь соединить два раздела, бьюсь, мучаюсь и матерюсь.
Наверное, так разверзается ад – медленно, но неотвратимо.
2Делать нечего, ранним утром четвертого дня, голодный и холодный, я еду в Технилище, первым дожидаюсь у кабинета Кунгурцевой, пока она придет, здороваюсь, объясняю, опять жду, пока она меня позовет, захожу в холодный кабинет (она только что проветрила), что-то мямлю о «Турбомаше», о теме диплома, горячусь, листаю перед ней ее же монографию, пачки своих черновиков.
С каждой секундой сумрак в кабинете леденеет. Еще бы – ведь мы на кафедре глубокого холода. Ведь я все знаю о глубоком холоде.
Мне только так кажется. Идиот.
– Вот, Вера Петровна, вот тут… Жидкостное колесо… У меня формула вырождается… Какие-то сумасшедшие обороты… Вот здесь, посмотрите…
Слова из меня еще вываливаются по известному всем студиозусам «методу огурца»[54], но сам я понимаю, что я попал по полной, я что-то такое чувствую, поднимаю глаза – Вера Петровна сидит с прямой, как струна, спиной, ее обычно белесые глаза горят голубым огнем. Она буквально взвивается на зависть всем индийским гуру левитации. Молчи, Гришка, молчи, глупец! Но мне нельзя, нельзя, нельзя молчать, ведь всего лишь диплом, всего лишь сто двадцать дней, ведь Криштул и Пятый сектор ждут:
– Так быть не может… Радиальная турбина, а здесь лопатки жидкостного вообще в ноль превращаются, там же технологические зазоры всю эффективность убьют перетоками, вот, пришел к вам, может, подскажете, как…
– Вы очень плохо читали мой учебник. Вы. Недопустимо. Плохо. Знаете. Мою. Методику, – Вера Петровна тихо и спокойно вколачивает титановые костыли в мою дубовую голову. – Я обещаю вам, молодой человек, что специально приду на защиту вашего диплома и сделаю все, чтобы понять, насколько хорошо вы усвоили мою методику. И еще… Как вас? Григорий Филиппов, да. Какая оценка была у вас по моему курсу?
– Отлично.
– Напрасно. – К моему ужасу, она записывает в своем черном блокноте мою фамилию и аккуратно рисует зловещую галочку. – Как раз этот момент мы и проясним на защите вашей дипломной работы. У вас еще есть вопросы?
– Д-да. Вера Петровна, все-таки, может быть, вы посоветуете, как все-таки методику… Рассчитать… Такая задача, вот…
– Молодой человек! До встречи на дипломе!
Я выхожу из ее кабинета, чувствуя себя стрельцом после стрелецкой казни.
Прохожу мимо «Гастритки» и «Капкана»[55], кручинюсь и печалюсь, дергаю себя за чуб, проверяя, крепко ли держится башка на плечах, и отчетливо, к гадалке не ходи, вижу мое совсем близкое будущее – памятливая старушка завалит меня, как пить дать, выпотрошит, как Гая Фокса[56], насадит на зазубренный персидский кол, как… Зверски хочется напиться, но не хочется, не можется, да и что толку? Как в той тайге с астронавтами[57]…
Ничего, что я матом?
Я сейчас только матом могу.
Но ноги несут меня сами, несут туда, где я храню свое сердце, туда, где спрятана игла моей жизни.
3Лениво машу пропуском Технилища перед лицом индифферентной вахтерши и, с толпой беспечной младшекурсной мелкоты, проникаю в общагу «Химмаша»[58], вместе с неубиваемыми парами и ароматами столовки взлетаю по лестнице, мчусь по коридору, наконец за поворотом такая родная и знакомая комнатка.
Никого. Я плюхаюсь на стул у чертежной доски. Тупо рассматриваю знакомый бюстик на схеме воздухоразделительной колонны. Жду. Просто тупо жду. Сзади тихий взвизг – и тут ко мне подлетает мой ангел и самой круглой, самой теплой, самой любимой попой садится на мои колени:
– Гришенька! Родной… Ну что там у тебя?
– Жопа.
– Полная жопа?
– Хуже – тощая, дряблая и морщинистая.
– Не помогла Кунгурцева?
– Нет. Сказала, что спецом придет на диплом и завалит.
– Блин!
– Не то слово.
– Будешь менять тему?
– Поздно уже, надо что-то думать.
– А что думать-то?
– Буду пытаться родить по ее букварю.
– А сможешь?
– Не знаю. Какая-то засада.
– Слушай, а сходи к нам на кафедру!
– К вам?! Ты что себе думаешь?! Мне, дипломнику Технилища, идти к вам, в конкурирующий «Химмаш», на конкурирующую кафедру?! Это же как мушкетеру идти за помощью к гвардейцам кардинала!
– Ты сам все сказал. Послушай, сходи к Шерстюку. Ну, Гришка… Ты же знаешь, он классный старик. Сам подумай, у тебя есть другие варианты?
– Не думаю… Как ты себе это представляешь?
– А ты попробуй. Он же из Киева, может, это тебе поможет.
– Из Киева? Ах ты ж… Да я тебя съем! Вот здесь и вот здесь! И тут…
– Гришка! Тебе лишь бы… Потом. Потом, Гришенька… Давай, не ленись, беги, я его видела сегодня на кафедре. Беги, он дед что надо.
Что ж… Бегу.
«Он же из Киева, может, это тебе поможет»… О, женская расчетливая месть!
Сколь беспощадна, сколь неумолима ты!
Но на каждую неумолимую беспощадную расчетливую женскую месть есть женское коварство.
Ласковое и нежное.
Тем и спасаемся, тем и живы.
4Через десять минут дикого бега по московской слякоти я проникаю сквозь охрану главного корпуса «Химмаша», опять махнув пропуском Технилища (в этом деле самое главное – внешне небрежная и невозмутимая наглость), трусь во вражеском деканате, выясняю, что деда нет, что «он у себя, в келье, поищите там». Где «там», в какой «келье»? Что ж… В каждой избушке свои погремушки. Я отлавливаю какого-то местного бывалого, тот что-то бурчит про флигель, я бегаю по перестроенным внутренним дворикам «Химмаша», стучусь в запертые и открытые двери лабораторий, шарюсь по коридорам и протискиваюсь между стендами с шипящими аппаратами и тысячами реактивов, отвлекаю, раздражаю, веселю людей – «язык до Киева доведет», – лишь бы мне найти лейтенанта гвардейцев, доктора технических наук, старого деда Шерстюка, о котором я столько слышал от моего круглопопого ангела…
Наконец я нахожу его келью в подвале, оборудованном под лабораторию. Стучу в дверь.
– Заходите!
К моему крайнему изумлению, лейтенант оказывается аккуратным скрюченным снежнобеловолосым старичком с хитрыми, какими-то невероятно синими глазами и быстрой улыбкой в очень пушистые усы. Его кресло окружено огромными стопками каких-то папок и томов. Очень похоже на трон. Он показывает мне на стул напротив:
– Присаживайтесь, молодой человек. Чем могу быть полезен студенту Императорского технического училища?
Я клацаю зубами и умудряюсь довольно ловко защелкнуть распахнувшийся рот. «Откуда он знает?!»
Проходит вечность.
Дед опирается подбородком на рукоять тяжелой резной палки, явно крайне внимательно слушает мои бормотанья и почему-то довольно щурится и хмыкает в густые белые козацкие усы. Я, как могу, рассказываю о своей беде, говорю как есть, как на духу, как беглец, каторжник, очарованный странник… Наконец опускаю повинную голову и жду, когда меч судьбы упадет на мою шею, но тут старичок очень тихо и ласково мурлычет:
– А что же Верочка сама не помогла? Не смогла?
«Верочка? Верочка?! – Я в изумлении гляжу прямо в его смеющиеся синие-синие глаза. – Не смогла?! Верочка?!» Все логические цепи, реле, извилины, синапсы и прочие аксоны мозга черепа моей глупой башки щелкают, искрятся и дымятся. Я будто со стороны вижу, что открываю и закрываю рот, словно карась, вытащенный из теплого пруда. Як короп з ставка. Это по-украински. Не надо обращать внимания. Нервы.
– В-в-вы… Але… Кс… Александр… Др. Н-н-николаевич, вы знаете Веру П-п-петровну?!
– Знаю, – старичок явно очень веселится, как может веселиться только истинно щирый хохол, улыбаясь одними глазами. – Очень даже неплохо знаю. Знаете что… Как вас? Знаете что, Гриша… Филиппов, – он выдвигает ящики своего стола и копается, по-гномьи перебирая сокровища. – Ага. Вот, держите, – он протягивает мне тоненькую книжечку. – Это моя книжка. Она, конечно, не такая значительная, как Верочкина, но, думаю, вам это поможет. Только верните обязательно. У меня сохранился последний экземпляр. Не забудьте! Вот, посмотрите, можете сразу начать с сорок третьей страницы.
– Спасибо, Александр Николаевич! Я обязательно… Я постараюсь. Я верну через три дня!
– Через три не надо. Через неделю жду вас.
– Спасибо!
Я выхожу из его малюсенького кабинетика в тусклый коридор, на ватных ногах поднимаюсь на свет божий. Вечереет, но фонари еще не включены. Света мало. Я торопливо открываю книжицу, нахожу сорок третью страницу, пробегаю по первым строчкам и вскрикиваю от счастья.
Ах ты боже ж ты мой боже! Боже ж ты мой милосердный!
Аккуратный столбик формул – простых, понятных, толковых, четких, как автомат Калашникова…
Как Федор Михайлович после казни петрашевцев, я трясусь в совершеннейшем экстазе. Жизнь! Аллилуйя! Как мог этот дед, этот старикан вот так – просто и толково все изложить?! Я не понимаю, в мою башку это просто не помещается! Не моего ума это дело, но – бог мой, какой восторг!
5Дальше все уже дело техники. На самом деле техники. И нескольких ведер крепкого чая. На моей новенькой, к диплому купленной «Электронике МК-52»[59], моей рабочей лошадке, я свожу воедино шерстюковские формулы, программирую, за два дня рассчитаю массив вариантов, оптимизирую, все получается очень ловко, дальше кульман, чертежи, вся машинерия…
Эскиз готов!
Через неделю я приезжаю к Шерстюку, его нет, он болеет, потом еще проходит неделя, потом еще… Я помню о своем обещании, я постоянно приезжаю к своему спасителю, но… Только через месяц я отлавливаю его – все в той же подвальной каморке, с маленьким окошком под потолком.
Дед явно неважно себя чувствует, кашляет, пьет чай с лимоном, безучастно слушает мои восторги и вопли благодарности, немного рассеянно покачивает головой, только тихонько постукивает палкой в пол.
– Александр Николаевич! Александр Николаевич, спасибо огромное! Но… как? Как, почему?!
Дед долго-долго смотрит на меня, потом как-то затихает и явно кручинится, как печалится хохол вдали от своих полей, баштанов, цветущих мальв и вареников с вишнями. Его синие глаза становятся какими-то совершенно сапфировыми.
И вдруг он начинает тихо-тихо рассказывать мне такое, что не то что говорить – помнить нельзя. Что, оказывается, в далеком 1945 году из Германии вывезли не только узлы и агрегаты «Фау-2», станки, инструменты и горы оптики, электроники и прочего оборудования, но и немцев-инженеров, кого поймать смогли. И что среди «густавов» был такой немец по фамилии Рис, который работал в одной из шарашек Гипрокислорода, и что сам Капица[60] вовсю там рулил и Берии[61] докладывал, и что тот немец оказался очень ценный, голова светлая, работал исправно, и все свои знания тот аккуратный немец записывал в черный блокнот, и что к тому немцу Рису были приставлены два молодых специалиста, срисовывавших каждый его вздох – Саша Шерстюк и Верочка Кунгурцева…
И что именно Верочка унаследовала тот черный блокнот и потом старательно, словно шубу мехом наружу, нарочно вывернула рисовские компактные энтальпийные[62] формулы в стоэтажно-зубодробительные температурные преобразования и на этом курбете[63] стала доктором технических наук и так далее, и тому подобное. И что Саша Шерстюк оказался потом немножко лишним, и что-то было там что-то такое…
Дед долго молчит.
Потом смотрит на меня, будто из вечности, из пропасти времени:
– Ну что, Гриша… Еще чаю?
– Нет, спасибо. Спасибо, Александр Николаевич!
– Да-да… Вы же будете на «Турбомаше» работать… Если что, вы приезжайте, заходите, не стесняйтесь.
– Да, Александр Николаевич, конечно! Обязательно! Обязательно!
Больше я его никогда не увижу.
А Вера Петровна ко мне на защиту диплома так и не пришла. И ее я больше никогда не увижу.
Два геройских еврея
1– Здрасьте! У нас пожар, все в порядке! – кричим мы с Сережкой в воскресно-помятые лица соседей.
Соседи обмирают, хватаясь кто за сердце, кто за трусы, кто спереди, кто сзади, а мы уже ссыпаемся по винту лестницы – ниже и ниже. Выбегаем на улицу, а на пятом этаже из крайнего левого окна уже бьет пламя наружу: только что наша соседка тетя Люся Жигалкина купила телевизор – и он полыхает с такой мощью и удалью, что нет ни малейших сомнений, какие штуковины на самом деле разрабатывают бравые электронщики завода «Рубин». За спинами воет сирена, во двор, раскачиваясь и протискиваясь в узких поворотах, вползает пожарка, выбегают здоровенные дядьки, деловито берут какие-то красные бочонки и топают куда-то наверх. Они быстро-быстро густо-густо заливают прихожую и комнату тети Люси белой-белой пеной, и все довольны – и сбежавшиеся обитатели нашей хрущевки, и мы, пацаны со всего двора, и пожарные, и даже тетя Люся: все знают страшилку, что стандартная хрущевка сгорает за восемь минут.
Сережка Жигалкин мой друг. В детстве белый, как одуванчик, в школе – до неприличия спортивный блондин с синими глазами, мечта девочек из соседнего двора.
Мы вместе делаем рогатки, луки, удочки, вместе залезаем на территорию соседнего «ящика»[64], чтобы нарвать ревеня на всю нашу компанию, мормышим ротанов на соседнем карьере и до ночи гоняем в футбол до обычно разгромного счета, вроде «46:43». Даже болеем, случается, одновременно. Впрочем, поваляться в мартовском снегу и не схватить бронхит – это уже совсем как-то несерьезно.
А кораблики в ручьях пускать? Настоящие каравеллы, из коры подаренным ножичком вырезанные, – и бежать вниз по улице – вдогонку, кричать, спорить, чья яхта первой пришла к финишу, и обмирать, обрываться сердцем, глядя, как твой кораблик попадает в Мальстрим у сливной решетки, кружится волчком, вода клокочет, палки не хватает, вода почти до верха резиновых сапожек: «Я тебя спасу, мой капитан!» – а потом бежать домой в хлюпающих сапогах, надеясь, что родители не заметят мокрую насквозь одежду. А на подоконнике давно лук выстреливает зелеными перьями – в баночке. И котики на вербе мурлычут. И бабушкин платок на шее, и глотать больно, и всю ночь кружится водоворот, с ревом глотающий айсберги, и твоя каравелла, подняв все паруса, идет к неведомым жарким странам…
2Через пару лет, на Олимпиаду[65], мы переезжаем в другой микрорайон, Жигалкины остаются жить в дряхлеющей хрущевке, родители часто созваниваются с тетей Люсей и, как могут, следят, а то и участвуют в ее бесконечном бракоразводе с пьющим дальнобойщиком дядей Вовой. Потом я уперто влюбляюсь и, как проклятый, катаюсь в вечернюю физматшколу Технилища, а мои футбольные не-разлей-вода друзья – Сережка, Жека Бык, Васька Хмурый и Витюня Серый – уже наведываются в Железку[66] – «разобраться» с местными.
С теми безбашенными побоищами сто на сто, а то и двести на двести балбесов может справиться только не менее, а то и более безбашенная Дзержинка[67]. Да и то если привлекают конный полк.
Однажды к нам в Залесск приезжают настоящие звезды – очень модные и талантливые журналисты из «Взгляда». Какие-то шустрые волосатики в модной «варенке» выгружают аппаратуру из крутых разрисованных автобусов, располагаются напротив Вечного огня, в самом центре, и потом Листьев громко говорит на камеру что-то о «процветающем бандитизме в Залесске». Естественно, что такие речи возмущают Жеку, Серегу, Витюню и их друзей, культурно пьющих пиво на лавочках у городской картинной галереи, короче, модерновый телеавтобус окружается, раскачивается и нафиг заваливается набок, позвякивая крошевом стекла, а бледные Захаров с Листьевым быстренько прячутся в кустах за голубыми елочками у Вечного огня, откуда продолжают вести «прямой репортаж из криминальной столицы России»[68].
Смелые такие.
Серега берется за ум, лишь когда я уже поступаю в Технилище. Тетя Люся нарадоваться не может: «Зося! – кричит она в трубку моей маме. – Зосечка! Ты представляешь! Сережа! Сережа такой молодец, Сережа взялся за ум, он нашел замечательную работу – каждый день то телевизор принесет, то ковер, то банок с консервацией, ты представляешь, Зося?» – «Ой, Люсечка, как хорошо… А кем он устроился?» – «Ой, Зосечка, слово какое-то новое, модное. Сейчас, я даже на бумажку записала, сейчас, вот, здесь, на новом телевизоре, Сережин подарок, сейчас, подожди, очки надену… Так… Зося, слушаешь? Вот, читаю по слогам: “Ре-ке-тир”. Понятно?»