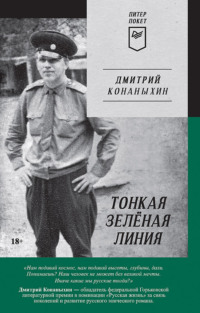Полная версия
Жизнь Гришки Филиппова, прожитая им неоднократно
– Готов клиент, – отец бледнеет, видя меня в дверном проеме. – Идти сможешь?
Женщины молчат.
3Воскресенье, поздний вечер, в приемном отделении сонной сельской райбольнички тихо. Естественно, что все тепленько пьяные – дежурный врач уролог и два медбрата.
Отца не пускают. Умницы.
Только маму.
Рентген, еще рентген. Обе лучевые, запястье в крошево, перекручивание в полный поворот, плюс штыковое. Штыковое смещение, в смысле. Рука стремительно отекает. Уролог что-то бормочет. Явно не на латыни.
Он выставляет маму за дверь. Она пытается улыбнуться.
Я тоже.
В смысле пытаюсь. Улыбнуться.
Мне плохо видно. Медбрат огромный, мешает. Дышит. Я тяну шею и хочу увидеть, куда маму выводят. Дверь старинная, тяжеленная, засов в палец толщиной, довоенной ковки, медленно скользит – «клац!» – и не успеваю я мяукнуть, как мне на плечи наваливаются два мужика и прижимают меня к столу, как жабку.
И я смотрю, как этот самый уролог берет мою так странно скрюченную руку и поворачивает, и поворачивает, и качает, и мнет ее, будто кубик Рубика собирает, и внутри все хрустит, хрустит, как хрустеть может только в живом человеке.
Во мне.
К счастью, мне везет:
– А-и-и-и! – И спасительная смола заливает мои глаза. Это очень приятно.
4Киношники врут. Не так люди теряют сознание. И не так в себя приходят. Мама медленно раскачивается в воздухе.
Потом мне удается ее остановить взглядом.
– Мама…
– Да, сынок. Я здесь, Гришенька.
Медбратья и уролог тупо смотрят на нее. Потом одинаково поворачивают головы и одинаково тупо смотрят на дубовую дверь. Вернее, туда, где была дверь. Дверь висит на одной петле, а кованый засов согнут, как пластилиновый.
– Я здесь, сынок.
(У мамы три месяца вся левая сторона тела была черно-желто-зеленая – отбила, как услышала мой сверлящий визг. А еще папа сказал, что в соседней палате приступ сердечный у кого-то случился – довольно неожиданно вечером славного воскресенья услышать такие звуки. Все там немного побегали. Бывает.)
5Два дня. Нет, не так – два дня и две ночи. За два бессонных дня и две бессонных ночи мне делают четыре репозиции. Слишком много обломков срастается не там, где надо. Хирург переживает, что осколки начинают срастаться («мозолиться») на неправильных местах, значит, их надо снова сдвинуть и перебрать.
Как кубик Рубика.
Рентген, снять гипс, кубик Рубика, гипс, восемь часов. Рентген, снять гипс, кубик Рубика, гипс, восемь часов. Естественно, без наркоза.
Естественно, без сна.
Четвертая репозиция. Рентген.
Хирург Ромашко снимает гипс, кубик Рубика:
– Не больно… Не больно…
– Хр-р-р-р…
(Это я хриплю, у меня уже нет сил ни потерять сознание, ни завизжать.)
– Не хрипим… Не хрипим…
– Р-р-р!!!
– Терпим… Терпим…
И тут я правой, сколько во мне чего осталось, – бац!
– Молодой человек, знаю, что больно, но зачем же руки распускать?! – совершенно спокойно говорит Ромашко, поднимаясь с пола.
Он совершенно не сердится. Мужчины не плачут.
И я тоже.
Батник
Однажды в магазинчик по соседству с заводской проходной завозят отличные румынские батники в бледную желто-голубую полоску.
Вечером невероятно душной апрельской пятницы я второй раз в жизни бреюсь дедовым «Золингеном», душусь отцовским «Жюлем», начищаю старенькие туфли до блеска и заявляюсь на школьную дискотеку, естественно, в мамином подарке.
Музыка уже бумкает, хихикающие девятиклассницы группками бегают посплетничать в туалет на четвертом этаже, на сцене дискотечники раскладывают бобины и пытаются раскрутить баскетбольный мяч, обклеенный кусочками разбитого зеркала, трепетные девятиклассники ждут, когда за окнами достаточно стемнеет, чтобы в мельканьях огоньков спрятать свои неуклюжие па, а потом… вдруг, ну… может быть, под конец вечера, все-таки набраться смелости и пригласить избранницу на медляк…
Только я преодолеваю робость и отклеиваюсь от раскаленной стенки, чтобы пригласить Светку Печенкину, как в актовый зал входит Димка Кузьмин. В таком же батнике. Я отворачиваюсь. Димка тоже. Старательно не замечая друг друга, мы расползаемся по строго противоположным углам зала.
Девочки, одна за одной, выходят в круг – ножка вперед, плечо назад, ножка вперед, «квадратик»… Они, конечно же, видят только подружек и старшеклассников. Пора действовать, я опять делаю первый, самый чугунный, шаг – и в распахнутые двери вваливается запыхавшийся Витька Садовников.
В батнике.
В точно таком же батнике.
В красивую бледную желто-голубую полосочку.
Кузьмин кривит губы. Витька ловит его взгляд, рассматривает меня и догадливо прячется в третьем углу актового зала.
В полку невидимок пополнение.
В течение пяти минут заявляются Дюша Сергеев, Вован Мышкин, Колька Петров и Макс Зязиков.
В батниках.
Все наглаженные, все в маминых подарках. Все одинаковые.
До слез…
Углов в актовом зале катастрофически не хватает.
Чувствуя себя обнаруженным невидимкой, я пробираюсь к выходу.
– Здравствуй, Гриша! Какой у тебя замечательный батник! – Маргарита Тихоновна, наша классная, меня обожает. – Мама подарила?
– Здравствуйте, Маррита Тихнна… – Мне хочется провалиться сквозь перекрытия, прямо в подсобку к трудовику папе Карло. – Да, мама подарила.
Я ссыпаюсь с пятого этажа в ночь, хряпаю многострадальной входной дверью и несусь через футбольную площадку. Моя бывшая дискотека смеется мне в спину и бухает усилками над пытающимся заснуть Залесском. Апрельская ночь удивительно теплая, я сдираю джемпер, в темноте пересекаю полосу препятствий старого Тобиша лучше, чем на все зачеты, по дворам хрущевок проскакиваю через кусты и дырки в заборах, известные с детства.
– Гришенька! Ты почему?..
– Нипочему!
– Гришенька? Сынок?!
– Мам… Там все… Там все в одинаковых. Не буду! – я сдираю подарок и бросаю на диван. – Нет! Прости!
– Сынок… Погоди, сынок, ты что? Сыночек… Погоди, я сейчас. На, вот, попей… Алеша! Алеш, я сейчас подойду на кухню. Есть разговор. Попей пока водички, сынок.
Родители входят в мою комнату. Мамины глаза странно сверкают, отец какой-то удивительно хитрый. Знаю я этот взгляд. Сейчас начнет подначивать, как только мы, Филипповы, умеем.
– Гриш… Вот, мы тебе хотели на день рождения. Посмотри. А ну, хватит. Хватит дуться, я сказал. Иди сюда, сынище. На, держи.
Я держу в руках новенькие узконосые ботинки и синюю рубашку. Недоверчиво нюхаю кожу ботинок. Австрийские. Вишневые. Руки дрожат и путаются в шнурках… Впору.
Рубашка – именно такая, как папа рассказывал об их ленинградском студенчестве. Взаправдашняя, такая… стиляжья.
В самый раз. Ох…
Сердце вылетает.
– Вот ты и вырос, сынок, – смеется отец.
– Беги, сынок! – Мамины глаза уже просто горят. – Успеешь.
– Мам… Пап…
– Беги, сыночек. Беги!
Я вскакиваю на школьное крыльцо, дверь обморочно ахает, прыгаю через две ступеньки, второй этаж, третий, учительская, четвертый, надо отдышаться, слышу – Жорка Сырников объявляет «Битлов», как мы договаривались, сейчас…
– Гриша?! – Маргарита заглядывает в мои глаза и медленно поднимает брови. – А… Ну… Ну, да… Иди, Гриша.
И я иду.
Бледные желто-голубые тени смотрят, как я иду.
Иду в самый центр – где мелькают огоньки от кружащегося зеркального шара, где принцессы не знают, как танцевать старый заводной твист, и только одна, новенькая…
Я улыбаюсь и делаю еще один шаг.
Дженни
Знаешь, это очень-очень прикольно – когда на школьной дискотеке тынц-тынц-тынц всякие СиСиКэтч и Модерны которые Токинги, а потом, неожиданно для всех, кроме тебя, Жорка за пультом ставит дорожку, которую ты знаешь с трех лет. Тебя еще с трех лет учили родители, первые твистеры Ленинграда, – и новенькая девочка, она только недавно перевелась в школу, вдруг делает два неуловимых шага, и тут ты вдруг понимаешь, что она сечет ритм и…
И ты идешь через весь актовый зал, и первые школьные танцоры неловко топчутся – они не умеют, это что-то заводное, но старое, и… И новенькая уже что-то тебе кричит в шуме – оказывается, ее родители тоже учили в узел завязываться. И – куда там Цоям! – она аж взвизгивает!
И старая Маргарита Тихоновна стоит за входную дверь актового зала держится, потому что… Потому что нельзя, когда толпа оторопело смотрит, когда привычно прилежные отличники уже, оказывается, не дети – и тебе пофиг на всех! – потому что Женя (ее зовут Женя!) – сходу схватывает ритм, попадает в ритм, давай-давай-давай, Дженни!
…Это потом ты будешь стоять в туалете младшеклассников на втором этаже, будешь смывать кровь из разбитой губы, все будет потом – гудящая башка, шишка на затылке, – улыбаясь до ушей, ты будешь вспоминать, как четко прыгают и вламывают «бэшки», хорошо, что не ногами, – потом ты выйдешь в темный школьный коридор и…
И вдруг тень…
И тепло ее ладоней и запах волос.
И все будет замечательно.
Впервые – в твои пятнадцать лет.
Жора не пришел
1– Филиппов!
– Да?
– Сырников не пришел. Ты бежишь «пятерку».
– Но… Но я никогда не…
– Ты бежишь. Все. Честь школы.
Подходит какая-то тетка, английскими булавками прикалывает мне на спину номер Жорки Сырникова. А я не бегун. Вообще. Мне КостьКостыч сказал прийти на всякий случай, так, мебелью, если что – «трешку», для общегородского зачета. А тут – «пятерка» за город.
– Я тебя уколола?!
– Что?
– Мальчик, ты что?
– Что?
– Ты меня слышишь?
– Нет.
– Ты очень странный мальчик.
– Наверное.
А я ночь не спал. Я уже месяц не сплю. Прошлой ночью третья пара в физматшколе затянулась, лязгавший, колченогий (или колчеколесый?) автобус мучительно вонял бензином, поздним вечером каждая раскаленная капля из крана падала кипящей ртутью на воспаленное содержимое моей пустой башки, и еще в субботнее утро КостьКостыч из телефонной трубки со своим «Филиппов, приходи, ты нужен на соревнованиях» – «Но я…» – «Просто побудешь. Для массовости. Я тебя прошу».
Если КостьКостыч просит – а он меня терпеть не может, – значит, что-то случилось.
Значит, надо позарез.
Эх… Но – «Надо, Федя, надо».
– Мальчик!
– Что?
– Как твоя фамилия? Я в стартовый протокол запишу.
– Филиппов. Нет, два «пэ».
– Мальчик!
– Что?
– Ты что стоишь?! Иди на старт!
– А куда?
– Вон, сразу за девятыми. Да не туда! Ты какой-то очень странный мальчик.
– Да.
Я смотрю вслед уходящей физкультурной тетке и вздыхаю:
– Возможно. Пожалуй.
2Какое же все-таки потрясное лето…
Лес дышит после дождей, ландыши гудят комариным воем: «М-м-м-я-а-а-со!» Отстаньте, черти, я невкусный, я токсичный, я полночи грыз несходящиеся ряды[32] по методичке…
Сосны дышат. Синее-синее небо. Белые облака. Белыми рядами. Несходящимися последовательностями.
– Ты новенький?
Какие у нее удивительно серо-зеленые глаза…
Глаза цвета бесконечности.
– А?
– Ты что, новенький? Я тебя раньше не видела. Ты из седьмой? Я тебя в седьмой видела.
– Нет. Я в седьмой писал олимпиаду по физике. Или по биологии. Или по литературе. Или по химии. Не помню. Я из одиннадцатой.
– Так у вас Жора… Георгий бежит. Ты не знаешь, где он?
– Жора не пришел.
– Не пришел… Вот как… А я с девчонками бегу. У нас старт сейчас. Вы бежите через пятнадцать минут. Ты чего?
– Что?
– Ты чего так на меня смотришь?
– Извини.
– Ты такой странный. А ты «пятерку» из двадцати выбегаешь?
– Выбегаю? Не знаю.
– Ты что, никогда не бегал?!
– Нет. Я тут случайно.
– Вот ты чудак… Случайный. Ну ладно, случайный, иди.
– Что?
– Иди, твой старт во-о-он там.
– Хорошо.
Рядом такие лбы, мама моя родная. Дышат. Спортивные. Ноги как у футболистов, с квадратами мышц. Смотрят сквозь меня, не замечая. Ну да, я дохлый. Знаю. Я уже месяц не сплю. Я все знаю о бессоннице. Я все знаю о кипящей ртути. Я могу рассказать о каждой молекуле, обжигающей мои глаза, я живу внутри пульсирующего океана кинетической энергии, я чувствую, как электричество течет по проводам моих нервов, Рихман мне брат родной, Тесла любимый дядька, Эйнштейн – как раз вчера Палыч разбирал на лекции Лоренцево сокращение пространства-времени – мы выли от восторга! Или позавчера? Или неделю назад? Я наизусть помню все иллюстрации учебника Фейнмана. Палыч говорил, что мистер Фейнман крут, чертяка; что Фейнман любит возить на своем олдсмобиле самых симпатичных аспиранток. Он крут, мистер Фейнман, как круты все настоящие физики…
3– На старт! Внимание! Марш!
Ну, что ж… Иттить надоть. Только как же… Сердце толкает отравленную бессонницей кровь. Главное, держать дыхание, держать дыхание, держать дыхание – как отец учил.
Отец говорит, что настоящий лейтенант должен уметь довести любого любителя самоволок до состояния изумления. Пограничники – они такие. Отцовы друзья звонили три дня назад – с Днем пограничника поздравляли. Тетя Юля Серова очень плакала, кричала в трубку маме, вспоминала, как папу, и Толю Серова, и всех-всех, всю маневренную группу подняли по тревоге, и мы с Машкой тоже поднялись по тревоге, только мы были в животах – я в мамином, а Машка Серова была в животе тети Юли, и весь Биробиджан не спал и ждал, повторится ли Даманский,[33] – ведь опять ушла по тревоге маневренная группа, опять и опять…
Дыхание. Дыхание держать. Вдох-раз-два, выдох-три-четыре. Вдох-раз-два, выдох-три-четыре. А она хорошенькая – эта, которая о Жорке спрашивала. Не просто так спросила. Эх… Как олененок. Глаза серые, высокая. Или зеленые? Ее, кажется, Аня зовут. Жорка как-то трепался, мол… Не хочу думать об этом. Жорка любит трепаться. Вдох-раз-два. Выдох-три-четыре. Бесполезно. Сердце не держит. Бок печет. Печенка со мной не согласна. Хоть ложись и помирай, так больно. Кровь отравлена. Организм зашлакован. Да, я читал в «Сайнтефик Американ»[34]. Папа приносит с работы. У них вся пресса свежая, им Первый отдел[35] дает – инженеры должны быть в курсе. Настоящие инженеры всегда круты. У отца друзья хиппуют – на работу в костюмах-«тройках» ходят.
Обязательно французский одеколон. У отца любимый – диоровский «Жюль»[36].
Когда отец возвращается из Тюратама, наша хрущевка наполняется запахами пустыни, волчьих шкур, человеческой усталости и «Жюля». Сейчас отец опять улетел. Он все время там. Говорит, что скоро «птичка»[37] полетит…
– Дорогу!
– Что?
– Дорогу, мля!
– Звиздуй.
– Ты че, пацан?!
– Беги давай, чемпион.
– Ну ты попал, ботаник!
– Звиздуй давай…
Чемпион двадцать седьмой школы больно толкает меня в плечо и вырывается вперед, оставляя на хвое четкие следы каких-то импортных кроссовок. Ага, как же. Вдох-раз-два, выдох-три-четыре. Вдох-раз-два, выдох-три-четыре. Держать дыхание. Держать дыха… Во рту солоно. В глазах красно. Уже весь разогрелся до понятной сухости, голова печет. Чемпион бежит впереди. Сильный, как лось, через лужи только так машет.
…Лесной кросс. Деревья стоят малахитовыми колоннами, как в Исаакии. Здесь душно – недавно дождь прошел, но вода впиталась. Отец рассказывал, что дед все приговаривал: «Летом ведро воды – ложка грязи, осенью ложка воды – ведро грязи». Дед знал, что говорил. Дед классный. Жаль, упал, сердце оборвалось в пустоту…
Сердце вылетает уже. Блин, паршиво. Дыхание сбилось. Надо как-то перетерпеть, а кислорода нет. Надо обмануть датчик углекислоты, встроенный в нас природой. Отец говорит, что мы настроены на углекислоту и не чувствуем азот, что при аварии на азотной станции человек продолжает дышать азотом и засыпает, розовенький, как младенец, без всякой синевы удушья. Раз-вдох, два-выдох, раз-вдох, два-выдох… На тропинке следы кед и кроссовок – кое-где маленькие, возле луж, – девочки бежали. Потом мы. Красная футболка лося в десяти метрах впереди. Господи! Это что?! Елки-палки… Сзади топот – мимо проносится стая. Все пацаны. Ах ты ж…
4– Эй, ты что? Что… Что случилось?
– Проваливай!
– Ты чего хромаешь?
– Вали отсюда!
– Давай помогу.
– Вали, я сказала! Чем ты мне поможешь?!
Аня сдерживается. Аня почти не плачет. Аня терпит. Правый бок весь в грязи.
– Ты поскользнулась?
– Я первая шла! Понимаешь?! Я первая шла, ну надо же! А тут эта коряга! Вон там… Я перескочила, а корень сыграл, блин! Беги давай! Чего вылупился?!
– Покажи ногу.
– Ты с ума сошел?!
– Покажи. Здесь болит? Пошевели ступней.
– Ай!
– Не реви. Шевелить можешь, значит, перелома нет. Лодыжка опухла, растяжение. Ахилл цел.
– Без тебя знаю, умник! Ты чего не бежишь?! Догоняй их, ты что?!
– Не хочу.
– Ты же за Витькой шел, я видела. Ты же вторым шел, он же чемпион города! Ты же можешь!
– Стой спокойно, я расшнурую.
– Дурак. Отвали.
– Сама дура. Рот закрой, комары залетят. И так жрут. На, веткой маши. От меня тоже отгоняй.
– Ты зачем футболку рвешь, придурок?!
– Забинтую туго. Терпи, коза, а то мамой будешь.
– Ну ты придурок… Ты всегда такой?
– Да. Всегда. Я всегда зануда и придурок. Комаров отгоняй.
– Ты где так бинтовать научился?
– Бабушка научила. Портянки мотать. И бинтовать голеностоп тоже. Она в немецком госпитале в оккупацию работала. Днем немцев лечили, ночью партизан. На Украине.
– То-то я слышу, ты говоришь не по-нашему.
– Неправда. У меня ленинградский акцент.
– А у меня бабушка из Ленинграда.
– Понятно.
– Что тебе понятно?
– Понятно, откуда у тебя глаза серо-зеленые.
– Откуда? Что тебе понятно?
– Неважно. Проехали. Давай руку. Как же тебя угораздило… А ты сердитая. Очень больно? Понятно. Ну ладно, сердитая Аня. Давай шагать. Я тебя не донесу, ты уж извини.
– Дубина.
– Допустим.
– Тебя комары жрут совсем…
– Ерунда. Я привычный. Комары не люди. Знаешь, бабушка говорила, что люди людьми закусывают. А комары – ну, что они сделают? Ну, укусят. Пройдет. Если не думать, то и ничего. Мы с отцом на рыбалке в Карелии были, вот там комары. А тут – так, интеллигенция. Хватай меня за шею…
– Хорошо.
Такая нежная кожа… От нее пахнет потом. И еще какой-то карамелью. Я стараюсь не думать о том, как от нее пахнет потом и карамелью. Я очень стараюсь не думать, как от нее пахнет карамелью. Она что-то рассказывает о бабушке, о доме в Мюллепельто, я взахлеб говорю о Зареченске, о том, как отец меня учил на лодке против течения грести, она рассказывает о Черныше, которого купала в речке, что-то говорит о том, как мама ее учила танцевать, что отец где-то тоже в командировках, он, кажется, геолог, что она хочет поступать на геологический, и что я такой странный со своей прической «под битла», что сейчас никто так не стрижется, и вообще, и я уже ничего не слышу, я глохну, я чувствую, как по моему локтю стекает капля ее пота, а вокруг гудит, и стонет, и дышит бесконечный Черный лес, и лес рассматривает нас, и этот километр дойти до финиша, и лето кружит, и плевать, что скажет КостьКостыч, и я знаю, что сегодня я буду спать без задних ног, спать так, как только возможно придумать, и что нет ничего слаще сна, сна обморочного, сна беспробудного, до понедельника, карамельно-сладкого сна, который будет лучше всех снов, лучше всех сказок, лучше всего, что было со мной и случалось раньше, и что наконец-то настало самое-самое настоящее лето.
Неприкольные мальчики
1…Ты слышишь, как сегодня падает снег?
Крупными хлопьями, из серого светлого неба. Как в детстве – выходишь во двор, поднимаешь голову – и оттуда, из туч, – на тебя, увеличиваясь в размерах, кружась и покачиваясь, летят пушинки, падают на лоб, на щеки, на язык – вкусно! И шум, и легкий, еле слышимый гул обрушивающегося тихого снегопада.
2– Гриш.
– Что, Шура?
– Гриш, у тебя много было первых любовей?
– Первых любовей?.. Много. Они разные, братик. Это возраст такой, когда мальчики становятся подростками, юношами, будущими мужчинами. Что, нелегко?
– Нелегко. А почему нам все нелегко достается?
– Планида такая. Ну, понимаешь, не умеем мы развлекать. Как-то не получается. Знаешь, есть такая мужская порода – хохотуны. Вот такие мальчики девочкам сразу нравятся. Они развлекают. С ними весело. А ты в это время физику зубришь, книжки читаешь… Понимаешь?
– Ну… Не очень.
– И я отца не понимал.
– Гриш…
– Что?
– А какой был наш папа?
– Самый лучший. Каким бы ни был. Самый лучший. Ты это запомни. Ладно, сейчас обо мне. Слушай…
3– Ее звали Валя. Моя одноклассница. Мама ее была сердечница, что-то там с пороком сердца, отец был очень хорош собой, такой… гладкий, обаятельный. Гулял, конечно… Тогда вообще по-другому чуть было. Не суть важно. Короче, Валя выросла удивительной девочкой. Характерная, синеглазая, глазищи – во! Фигурка, музыкальная школа… Жили они… Ты слушаешь?
– Угу.
– Да… Жили они небогато, отец же с другими женщинами… И Валя… Мама ее старалась одевать не хуже других девочек класса, но… Понимаешь, тогда же фирменные вещи были важны, ну, чтобы ярлычки, лейблики всякие. И девочки, были такие девочки в нашем классе, группа у них такая была – любили травить одноклассников. Тех, кто не подчинялся, объявляли в бойкот.
– А ты?
– А я к тому времени четыре года в бойкоте был. Обидно было, конечно, годами быть в бойкоте, когда весь класс на тебя натравливают. Но я тогда книжки очень читал, все, что в доме было, плюс «Науку и жизнь» – все деда твоего подшивки за двадцать лет, плюс «Квант», плюс «Химию и жизнь»… Да полно всего было, чем дома заняться, что ты! Что-то все время моделировал, что-то мастерил, мечтал, конечно.
Так вот, Валя… Однажды Валя пришла в школу в новых туфельках – таких голубеньких, как-то очень фигурно вырезанных, вполне красивых, но наших, в нашей стране сделанных. Наверное, не очень дорогие были. Может, даже недорогие. Знаешь, у нее глаза даже блестели. Я хорошо это запомнил, мне Валя тогда очень нравилась. И всегда. Вот… И она знала, что мне нравится, но фыркала. Тогда все фыркали. Возраст такой. Короче, эти принцессы, которые бойкот всем объявляли по своему желанию, они увидели, что Валя радуется туфелькам своим новым, да как начали: «Ха-ха-ха! Посмотрите! Какие ур-р-родливые у Никаноровой туфли! Какой позор! Какая гадость! Как можно в таком убо-о-о-ожестве вообще ходить?»
– А она?
– А она… А она стояла в коридоре на переменке и не знала куда провалиться, куда ноги девать. Потом убежала в туалет и плакала. А на следующий день пришла в других туфельках. А те голубенькие, которые ей очень нравились, больше никогда не обувала. Не видели ее в этих туфельках, хотя, я позже узнал, мама ее, сердечница, очень Валю утешала. Вот… Время шло, влюблялся я в Валю все сильнее, до темных глаз. А она решила всем доказать, что она крутая. Стала с десятиклассником дружить.
– Ой, Гриш, у нас тоже! Приходят к нам в класс из девятого, а наши девочки как давай хихикать. И так делают вид… что… Ну, ты понимаешь?
– Конечно. Они всегда хихикают. Сверстники для них не существуют. Как бы. Да и это круто же – дружить со старшеклассниками. Даже с самыми гугнявыми. Ты вон на турнике крутишься, в Физтех хочешь поступать, но ты же не прикольный. Понимаешь? У тебя черные брови, голубые глаза, блондин… Погоди, братик, все будет.
– А что дальше было?
– С Валей? А я ее пригласил на день рождения. Только ее. А она пришла к нам домой, мы еще на Чкалова жили, пришла с рыжим десятиклассником. Вернее, он где-то ее у подъезда ждал, пока она полчаса у меня на дне рождения сидела.
– А мама это знала?
– Мама? Мама, конечно, знала. Знаешь, как у твоей мамы глаза умеют вспыхивать разноцветным? Ого… Но мама ничего не сказала, просто закруглила все мероприятие, жалко ей меня было. А потом… Потом была дискотека. Ну, знаешь, у нас большие были школьные дискотеки. А у меня не получилось тогда на этой дискотеке Валю пригласить.
– Почему?
– Я классно танцевал тогда, да, но, понимаешь, та «травильная» группировка – они Валю к себе допустили, приняли ее в свой кружок. Они-то хоть и принцессы нашего класса были, но у Вали был козырь из десятого класса. А это было круто. А я тогда, и всегда, был неприкольным ботаником, ну, знаешь, нас всегда называют занудами.
– Но ты же не зануда!
– Да, но мы не прикольные. Не хохотуны.
– А потом?
– А потом… Потом я пошел Валю провожать. Вернее – как провожать? Она шла с этими принцессами группкой, под зонтиками, а я тенью плелся сзади. Дождь такой был тогда – хоть и осенний, но теплый, струями. Как из душа. Я, естественно, без зонтика был, до нитки промок, сухими только гланды были, вот и шлепал за ними по лужам, весь в соплях и отчаяньи. А она знала, что я тенью сзади. Но делала вид, что не замечает.