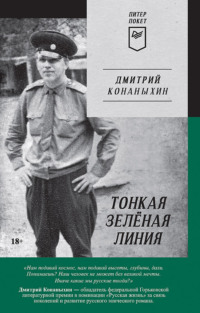Полная версия
Жизнь Гришки Филиппова, прожитая им неоднократно
Конечно, все понятно.
Каждую неделю в разных кварталах Залесска гремят автоматные очереди – советский народ увлеченно делит свое, бывшее общенародное, и азартно накапливает первоначальные капиталы. Чуть становится тише лишь после того, когда совсем уж безобразно, в рабочий полдень, заваливают директора первого казино «Зимушка» – он доводился родней кому-то из райкомовских. Костик Колюшкин приносит нам в Пятый сектор эту сплетню, мол, хозяева города недовольны.
Сережкины друзья решают взять очередной рабочий отпуск. Кто уезжает на дачу за Богородск, кто на юга, кого-то ловят и отправляют прореживать тайгу, а Бронебойный Сережка начинает безудержно пить. Но не безнадежно-старчески, а весело, с куражом, перемещаясь по знакомым со школы «хатам», к полному восторгу и даже экстазу их обитательниц.
Но однажды Бронебойный Серега решает отдохнуть от девчонок и культурно пообщаться на вопросы истории с дядей Мишей из первого подъезда. Под водочку, естественно.
…Сколько себя помню, дядя Миша живет на первом этаже нашего хрущобского подъезда, живет очень тихо и только тем заметен, что делает замечательные резные птичьи кормушки. Еще я его помню потому, что однажды, когда я был в первом классе, его выживший из ума престарелый пудель Антон укусил меня за ногу.
Не только люди сходят с ума. И тогда, и особенно сейчас. Бывает…
Так вот, надо же такому случиться, что накануне Сережиного визита дядя Миша что-то решает замутить на рынке и случайно, ну, так получилось, остается должен своему кредитору какую-то совершенно невероятную, просто огромную сумму, что-то около двухсот американских долларов.
Должен и не отдает: «И чего вы хочете от больного человека?» Непорядок.
Времена-то поменялись.
Ситуация накаляется до неприличия, поэтому солидный и уважаемый кредитор Эдуард Вениаминович посылает двух своих сотрудников выбить из должника означенную сумму. А поскольку вида они были отнюдь не героического, дает им «макара»[69] с одним-единственным патроном.
С одним-единственным. Чтобы упаси бог.
Проклиная своего шефа, два крутых еврейских мафиозо заходят в подъезд нашей старенькой хрущевки, звонят в дверь и ожидают. Дядя Миша им открывает, видит ствол, сразу соображает, что не с пряниками пришли, и быстро, как таракан, шуршит по коридорчику. А навстречу героям вываливается вусмерть пьяный Сережка.
С поллитрой в руке.
– А, бля! Мужики! Пить будете?! Ну, мужики, чего стоите? Ты че? Давай, проходи!
И тут первый, который со стволом, не в силах «мяу» сказать при виде прущего буром веселого Сережки, совершенно автоматически поднимает руку и, не глядя, нажимает на спуск «макара».
Единственная пуля четко в лоб. В упор.
Сережкины мозги плещут во весь потолок, будто взрывается банка с вишневым компотом. Плещут густо, всех зрителей облепляют. Дядя Миша глаза протирает, на гостей таращится, а они на него – такие же красавцы, все в «компоте». А между ними – полуголовый Сережка, бронебойный друг моего детства…
4Дело, естественно, заминают.
Эдуард Вениаминович до лучших времен улетает в Израиль, Сережку хоронят в ряд с друзьями, тетя Люся лет пять ходит в черном платке. Потом замуж выходит, хорошо устраивается, бизнес с дальнобойщиками крутит, овощи-фрукты-гвоздики, все такое, дочек в Америке поддерживает, переводы им туда шлет, чтобы машины себе купили, чтобы как у людей все было.
А тут звонит мне, по-соседски, все вспоминает, как два года назад помогала мне обед делать, когда я маму хоронил.
330 метров в секунду
1Это происходит тем безумно жарким летом, когда гадюки боятся сойти с ума, ордынский суховей иссушивает заливные луга и рубиновые, изумрудные и гранатовые ящерки носятся по плитняку давно разрушенной речной мельницы, пытаясь оставить те же следы, что их царственные предки-гиганты…
Выгоревшее небо, в котором ленивой медузой плавает древняя звезда, уже сорок дней не видит дождя, растрескавшаяся земля обморочно просит воды – в трещины рука уходит по локоть – и не находит прохлады, лишь пыль и мертвые корни. И кругом горячий ветер до горизонта, и дрожащее марево над полями, и Старый лес дрожит в том мареве, зеленой линией отделяя зеркало земли от зеркала небес, и лишь в Черном овраге, там, где по зеленому мху рассыпаны янтарные бусы лисичек, в глубоком провале шепчет-звенит ледяной Марфин родник.
Убитая послевоенным лесосплавом река почти пересыхает, спасение мы находим лишь в омуте под нашим домом. И сколько того омуточка? – чаша в три моих, в четыре твоих роста, мне по плечи. Встать посреди парной воды, упереться пятками в теплый ил и ждать, когда ты с берега нырнешь ко мне и проплывешь все твои два роста. И твои мокрые ладони на горячих моих плечах, и ножками бедра оплетаешь, и теплыми губами моих горячих касаешься, и язычком, как ящерка, – и жар небес по макушке, и твои зеленые глаза против моих, и сладкая боль внизу, и водомерки бегут по водной ртути, голодный канюк кричит над горой, и кашка таким медом цветет, но не так сладко, как вкус твоей груди, лишь ключевая струйка пульсирует, бьется, вьется среди парной воды, толкает сердце, живи, Гришка, живи, пей время, пей молодую женщину… Отпустить, поднять, держать тебя на воде, кружить, любуясь, разглядывая бесстыже, запоминая все, что ночью буду пить, целовать, ласкать, всем собой окружать, до стона, до тихого обморока, до горячего, сладкого пота – пей любовь, Гриша, пей, считай бессмертие по толчкам ее сердца, что стучит быстрее обычного – то золотые корни плетутся, то волшебная роза, сестра Чернобыля, сильнее радиации, что сжигает небо, сжигает дальний лес, сжигает тебя сухим жаром. Твоя женщина ложится на воду, подставляет негритянский загар старому светилу, ее тень, ее сестра, скользит по дну – и тебе лучше проплыть к берегу, вдохнуть пьяный дух камышей, ила, соснового бора, где стучит дятел, аромат сладкой кашки, душистой материнки, что розовой пеной цветет под обрывом, беззвучно проскользить под ней у самого дна, перевернуться, словно большой сом, и смотреть, на всю жизнь запоминать, как пузырьки из носа тонкой цепочкой поднимаются вверх, скользят по ее попе, по спине, по колышущейся гриве, – и всплыть:
– Бу!
– Что?
– Бу!
– А, это ты, Большой Медведь?
– Да, это я, Белка.
– Знаешь…
– Что?
– Я не хочу умирать.
– Ты не умрешь.
– Не хочу.
– Говорю же.
– Да?
– Да.
– Поклянись.
– Чтоб я сдох!
– Ах ты! Как ты можешь?
– А ты? Как – ты – можешь? Ты меня переживешь.
– Я больше не буду. Не говори так. Я действительно больше не буду. Обними меня.
– Я люблю тебя, Белка.
– И я тебя. Очень-очень.
2Высоко-высоко над нашими головами плывет бурая пелена: за сотни километров отсюда горят торфяники – там беда, там жара, там люди в дыму, в чаду, там гудит огромный человечий муравейник, там наш «Турбомаш» работает в три смены, и люди, маленькие муравьи, своими маленькими, слабыми, мягкими ладонями сгибают броневую сталь в огромные колонны, там горят звезды патоновской сварки[70], там рождаются колоссальные реторты для будущих алхимиков – они зажгут рукотворные солнца глубоко под землей, разгонят дыхание смерти в циклоторонах, добудут вечный огонь, который не снился Прометею[71]… Они – это мы, только мы удрали, сбежали, исчезли. Это наш первый отпуск – мы играем в робинзонов в старой деревне на краю Старого леса.
Мы покупаем козье молоко у бабы Зины, малину у бабы Нади, картошку варим свою – выкапываем мелкую из горячей земли. Весь дом – от пыльного подклета до борова печи, от красного угла, где родители повесили старую икону на пальмовой доске, до разросшегося терновника – он сладкий, перезревший, в крапиву падает, но не такой сладкий, как твои губы, – весь столетний дом – только наш, он нас переживет, и детей наших, они же будут – будут обязательно, ведь мы же будем жить долго и счастливо, и ты не умрешь, ну же, что ты плачешь, дурочка, все хорошо, давай я тебе расскажу о грозе.
– Белка, ты знаешь, из чего тучи состоят?
– Из воды.
– Ага. А почему в тучах гроза?
– Дождинки?
– Не-а. Тучи – там, наверху, ближе к стратосфере, – тучи состоят из снега.
– Из снега? Тучи? Поэтому они такие белые?
– Ну не совсем. И вода отражает белый свет, и снег. Так вот, чтобы снежинка образовалась, нужны – что?
– Что?
– Ну же. Это же на лекциях было.
– У нас нет.
– Точно?
– Угу. Передай мне малину.
– А поцеловать?
– На!..
– Так… О чем я? Уф-ф-ф. Ты вкусно целуешься. Чемпионка.
– Ага.
– И язык розовый. Ты зачем гаишнику язык показала?
– А чего он, пузатый, на нас палочку наставил?
– Зараза!
– А то! Еще молока? Так. Давай о снеге.
– Чтобы снежинка образовалась, нужна пыль. Обычная пылинка. Только очень-очень маленькая, такая, чтобы ветер ее забросил на несколько километров. И там высоко-высоко на ней осаждаются первые молекулы воды. И растет правильный шестиугольник.
– Гриш…
– Что?
– А почему снежинки всегда шестиугольные? Ну, не квадратные, не семиугольные?
– А, это еще Кеплер, который Иоганн, доказал. Он своему благодетелю, императорскому советнику-Не-Помню-Какому, подарил рождественский подарок: «Рассуждение о снежинках»[72]! Я в Топорове купил, в магазине, за год, когда в тебя влюбился. Только ты еще тогда не знала.
– А вот и знала!
– Не показывай язык!
– Знала!
– Откуда?!
– Я загадала. Сидела на сеансе в кинотеатре. А потом оглянулась… Это, кажется «Сокровища Атлантиды»[73] шли, ну, там, где они нырнули.
– Точно! Я три раза ходил.
– Ты всегда сидел на заднем ряду.
– Точно.
– А я загадала, что оглянусь… Оглянулась, а там ты сидел. Один. И смотрел. И меня не видел. А потом ты вышел из кино и пошел к себе, а я запомнила, что у тебя спина была мокрая.
– Блин.
– Что, Большой Медведь?
– Получается, ты меня выбрала? Это не я тебя нашел?
– Ха! Знай наших!
– От вы ж, Евины дочки… Вот так всю жизнь живешь, думаешь, что ты самый умный и хитрый, и ловкий, и украл так ловко, ан нет – оказывается, сам в сети попадаешь. Оказывается, это нас выбирают.
– Ты умнеешь на глазах.
– Зараза!
– Так, хватит целоваться. Ты о снежинках не рассказал.
– Смотри, все очень просто. Кеплер ходил по двору, вымощенному плитками, и думал-думал-думал. Вообще, думать – это прикольно. И он понял, что это задачка на то, как минимальным количеством фигур покрыть максимальную площадь. А какая фигура с самыми маленькими размерами занимает самую большую площадь? Ну, это третий класс!
– Круг?
– Точно. А какой многоугольник ближе всего к кругу, но чтобы эти многоугольники между собой без зазоров складывались, как плиткой?
– Восьмиугольник?
– Да тю.
– А, поняла. Шестиугольники.
– Ну. А он целую брошюру написал, вельможе на Новый год подарил, очень витиеватое рассуждение получилось, тогда все было витиевато… Ты куда?
– Сейчас, вынесу тарелки на мост. Слушай, ни туда, ни сюда! Ну что это – оставлять? Допей молоко! Ну пожалуйста!
– Хорошо…
– Гриш!
– Что?
– Бегом сюда!
– Что случилось?
– Бегом!
3Над Старым лесом, расчертившим пыльный горизонт, висит маленький белый клубок. Это не Огромная Туча, из тех, которые пару недель назад попытались пролить дожди на нашу выжженную долину, – мы видели ливни, которые обрушивались на нас и испарялись, не долетая до земли, лишь пугали мечущихся ласточек, – нет, это просто Белый Клубок, инопланетной тарелкой зависший над Марфиным ключом…
– Белка…
– Что?
– Белка, беда идет. Большая беда.
– Ты что?!
– Белка, бегом побежали, все, что на заборе, снимай, все в дом.
– Гришка, ты с ума сошел?
– Смотри!
Клубок растет слишком быстро, будто маленький пацан катает снежный комок из стратосферной стужи. Сначала комок величиной с яблоко, потом с футбольный мяч, термоядерная медуза ежится, колышет щупальцами, небо дышит ледяным ветром…
– Гришка!
– Не бойся! Давай быстрее!
– Гришка, я боюсь!
– Не бойся ты! Давай в дом, убегай!
– А ты?!
– А я… Я посмотрю…
– Я с тобой!
– Марш отсюда!
– Не пойду! Чтобы тебя шаровая молния шарахнула?! В Рихмана играешь?! Я без тебя никуда!
– Брысь отсюда! Здесь стой, у двери.
Терновник уже клонится до земли, ягоды осыпаются с глухим стуком, жухлые листья летят над землей, пыль, сор, мусор с полей вьются жгутами через реку, через высохшую деревню, желтые пасмы[74] песка перелетают через дальнюю молочную ферму, ветер вдруг начинает реветь так, будто Создатель включает аэродинамическую трубу…
– Гришка! Гри-шень-ка!
– Что?!
– Будет смерч?!
– Не зна-ю! Мо-лись, что-бы кры-ша!
– Что?!
– Что-бы кры-ша не у-ле-те-ла!
Шарах!
Черная туча грохочет в полнеба, над Старым лесом пляшет занавес из розовых и синих молний, уже ничего не слышно, только твоя потная ладошка в моей руке, я слышу, как стучит твое сердечко, слышу, как звенит твоя кровь, которую изнутри сжигает золотой корень, волшебная роза, что жарче Чернобыля, оранжевые молнии лупят по полю, распаляясь, раскаляясь от бешеной пляски…
Быстро в дом!
Закрыть, запереть, спрятаться – маленькие человечки, потные ладошки, сердечки-комочки, как мышата – что есть человек перед лицом Его?
Гремит!
– Ну, Белка, давай молоко допьем.
– А?
– Плохо слышишь? Громко?
– Так гремит… Обними меня.
– Ты знаешь, как считать, где гроза?
– Как?
– Просто. Скорость звука – триста тридцать метров в секунду. Проще говоря, за три секунды звук проходит километр. А скорость света – триста тысяч километров в секунду. Мгновенно. Поэтому молния блеснет… Ты слушаешь?
– У тебя так сердце бухает.
– Я люблю тебя. Ты вкусно пахнешь.
– Ты вкуснее. Очень-очень. О звуке и свете. Рассказывай.
– Перестань целоваться.
– Перестану.
– Не щекочись!
– Не буду. Давай, а то защекочу.
– Молния блеснула – считай.
– Как?
– Спокойно. Двадцать два – значит, секунда. Двадцать два, двадцать два, двадцать два. Уже три секунды. Значит, километр. Шесть секунд прошло с молнии – сколько километров отсюда сверкнуло?
– Два?
– Теперь сама считай. Сейчас молния блеснет… Есть!
– …Семь, восемь, девять… Три километра?
– Ага. Видишь, это не страшно. Это далеко. Сейчас еще молнию дождемся…
Шарах! И блеск! И гром – сухой, резкий, уши заложило.
– Гриша?..
– Стоп… Это уже по нам. Это по деревне.
И – посреди пляски молний, посреди оранжевых и ослепительно синих сполохов звон. Кто-то колотит в рельс – заполошно, тревожно, как в колокол, как в деревянные била, что раньше об ордынской напасти возвещали, – над взметенной деревней, над старым, как боги, миром – русский человек бьет в железо – спасайте!
– Белка! Пожар. Горит где-то. Бежим! Хватай ведра!
– Какие?!
– Любые! Давай!
– Куда ты?
– Босиком давай, не сахарные, не растаем!
4Тебе двадцать пять. Ты переполнен силой.
Ты переполнен восторгом.
Над тобой, до самой стратосферы, свежий ветер – и кружит, и стонет, и хохочет, и до самого синего-синего неба, где светит умытое солнце, где кружат тучи и рвется кисея зноя, там во весь кислородный простор сияют звезды – и ты бежишь по горячей пыли, летишь, не чуя ног под собой, и ты молод, и разве есть что больше счастья для мужчины – быть живым и сильным?
Когда твоя женщина рядом…
Бежим мимо старых, нахохлившихся, осевших домов, что век свой доживают, проносимся мимо заколоченного дома бабы Шурки, к которой родня пропивать деньги приезжала, да не дождалась пензии[75], вот и заколотила двери до следующего приезда, а бабку внутри избы оставила – «все равно не жилец бабка Шурка, уже мохом покрылась»…
Но…
Двери бабы Шуркиного дома с грохотом разлетаются – и на пороге стоит сама несостоявшаяся паралитичка. Огненные глаза. Топор в руках. Крупной рысью баба Шурка проносится мимо меня, обгоняет и врубает самый настоящий аллюр три креста:
– Ы-ы-ы! Господи! Три раза! Три раза горело село! Не дам! Не позволю! Перед смертью!
И уносится вперед.
– Белка… Ты это видела?!
– Бабка Шурка…
– Воскресла!
– Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный…
– Во чешет!
А бабка Шурка уже перескакивает овраг, перепрыгивает разметенные дрова – то ветер поленницу опрокинул – и мчит мимо летающих над крышами куриц, и скулящих из будок кабыздохов, и мимо дома московского художника, единственного еврея на селе, что сейчас одиноко возвышается на крыше с метлой – куда там Дон Кихоту с его копьем! – наш Аркаша явно решил отгонять со своей крыши летящие клочья горящей соломы – а там, сразу за селом, у фермы, ветер же на деревню дует, – горит-пылает-завивается в огненную спираль скирда колхозной соломы, что на зиму была заготовлена – туда, туда вприпрыжку несется старая бабка, что передумала умирать и паралититься, и «не достанется Гальке-невестке пензия, нечего!»
Молния точно угодила в самую середину огромной, метров в двести, скирды, сложенной из новомодных валков в диаметр человека, ударила, подпалила, вот и ревет огонь, пожирая сухую солому.
У скирды, в почтенном жаробезопасном отдалении, кучкуется вся деревня – пара ребят из Мурома, несколько наливающихся соком пигалиц, да с десяток теток-дачниц, да местные – дюжина мелкошкольников на летние каникулы, пяток глубоких стариков – петухи на развод – и десятка два старух, что те наседки. И над всем пейзажем – с пылающей скирдой, пыльным горизонтом и пронзительно свистящей синей стратосферой – в библейском одиночестве стоит пятидесятилетний московский художник Аркаша с метлой в руках.
– Эй! Давайте, тушите!
– А чего оно, бля, ваще, бля, хули тут, оно, Гриня, видишь, как горит, ни хера…
– Дядь Вань, ты что?! Ты ж фронтовик!
– Да какой он в пязду фронтовик! Он обозник! Его корова забодала, не далась, когда он ее к быку водил! На пенек встал, корову даже не осилил! Ни хера хера у него нет!
– Валька! Не пязди тут! Вожжой!
– Ты?! Да ты мне тут! Я сейчас тебя!
– Убери палку, старая!
– Я старая?! Это я старая!?
– Эй, люди, вы что? А тушить??
– А как его тушить-то, Гриня? Ты те валки видел? Их же не сдвинешь ни х… Ой, извините, мы тут… А оно, видишь, как… Ну, ето…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Топоров – местечко на Киевщине, где родился, жил у бабушки Таси Завальской и проводил школьные каникулы Гришка Филиппов.
2
Собака – на Украине слово мужского рода.
3
Клуня (укр.) – вроде кладовки, пристройка к сараю или хате, где хранится ручной инструмент для работ на земле. Вечером, когда уже затемно, в сарай идти сил нет, клуня удобнее – бросаешь лопату и сапку внутрь, закрываешь, в хату заходишь, сил мыться нет, босые черные ноги обматываешь тряпкой и спишь до рассвета. В северных областях для хранения огородного инструмента используется пространство под высоким крыльцом.
4
Сапка (укр.) – тяпка.
5
Клямка (укр.) – щеколда.
6
Робити на смерть (делать на смерть) – крайне популярный на Украине род смертельного колдовства.
7
Склонение фамилий – типичный украинизм.
8
Халабуда (детск.) – так испокон веков дети всех возрастов и поколений называют шалаш.
9
Репаться (укр.) – трескаться.
10
Ставок (укр.) – пруд.
11
Рынва (укр.) – водосточный желоб.
12
«Танчики» – Гришка долго пытался мне объяснить весьма сложные правила этой азартной детской игры, похожей на «морской бой». Играется на открытом воздухе дни напролет. Советские и немецкие танки и самолеты схематично рисуются на земле в виде мишеней; эти мишени надо поражать, по-разному бросая и втыкая ножи в цель несколько раз, в зависимости от прочности танка. Если простой танк убивается с одного тычка, то в «Фердинанд» надо попасть до пяти раз без промаха. Поразив вражеские танки, ты можешь себе нарисовать танк уровнем повыше и продвинуться вперед. World of Tanks появится только через двадцать пять лет.
13
Робить (укр.) – делает.
14
Занурюе (укр.) – погружает.
15
Папировка – очень вкусный сорт исконно русских раннеспелых яблок, вроде белого налива, но несколько поменьше и еще нежнее. Главная цель всех детей Топорова в начале лета. Папировок в садах всегда столько, что на детвору никто внимания не обращает – пусть едят на здоровье, лишь бы здоровенькими росли.
16
Чумацький шлях – Млечный путь.
17
Коняка – добродушно о лошади.
18
Васю – местное употребление звательного падежа.
19
Дядя Петя – точная копия Фернанделя, только кулаки страшные. Fernandel – настоящее имя Фернан Жозеф Дезире Контанден – крутейший французский актер, очень почитаемый в Топорове в те старинные годы.
20
Да-да, в те годы и дороги в Топорове, и само Брест-Литовское шоссе из Киева на запад еще были замощены брусчаткой. Асфальт положили на брусчатку накануне Олимпиады 1980-го.
21
Жито (укр.) – рожь.
22
«Ревела буря» – естественно, что все в Топорове поют и говорят по-русски или малороссийски; в те годы Киев и Киевщина еще говорят по-русски, хоть и пережили насильственную коренизацию.
23
Балия, иногда баллия (укр. местное) – большое круглое цинковое корыто ведер на шесть воды, чтобы белье стирать, малых детей купать, огурцы замачивать перед засолкой, карасей выпускать после рыбалки детворе на потеху.
24
Вовкулак (укр.) – волколак, человек-волк, самый обычный в той местности оборотень.
25
Черная книга – в те годы каждая травница была свято убеждена в существовании Черной книги – книги официально исчезнувших редчайших лекарственных трав. Естественно, что в заповедных местах те чудо-травы продолжают буйствовать, только надо, чтобы прабабушка согласилась провести и показать.
26
Кошель (укр.) – корзина с ручкой и округлым не плоским дном. Удобно носить на локте – так современные модницы носят сумочки Birkin.
27
Авоська (устар. советск.) – плетеная веревочная сумка-сетка. В наши дни любая прогрессивная девушка поймет тебя, только если ты правильно скажешь fishnet bag. Называть модную вещь авоськой – предосудительная вульгарность.
28
Безмен – карманные пружинные весы с кольцом на палец и крючком, чтобы цеплять груз.
29
Тюратам – исключительно так спецы называют известный всей стране космодром Байконур.
30
Джанибек – Владимир Александрович Джанибеков, гениальнейший из гениальных летчик-космонавт.
31
Волк – Игорь Петрович Волк, великий летчик-испытатель, командир «Волчьей стаи», отряда пилотов «Бурана».
32
Ничего страшного, это всего лишь начала математического анализа.
33
Даманский и Жаланашколь – тщательно забытые кровавые боестолкновения на советско-китайской границе в 1969 году.
34
Scientific American – в советское время читать американские журналы в оригинале – это нормально.
35
Первый отдел (устар. советск.) – жаргонное название маленькой службы КГБ СССР в каждом серьезном конструкторском бюро или институте, отвечавшей за сохранность секретов, безопасность разработчиков и организацию технической разведки. Не путать со Вторыми отделами – «представителями заказчика», или военпредами.