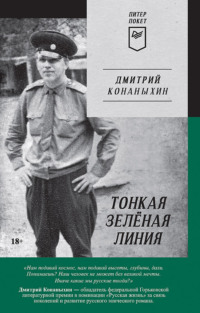Полная версия
Жизнь Гришки Филиппова, прожитая им неоднократно
Больше мы не играли с Жориком Василенко. Никогда.
Он прятался – Шурик на него все время охотился, хотел толстожопого из лука подстрелить, но не получалось.
А потом Шурика увезли из Топорова в Киев – во втором классе учиться.
И еще… Я немного жалел, что больше не смогу подержать в своих руках удивительную Книгу обо всем на свете.
Зато у меня, в халабуде на старой груше, на моей космической базе, было спрятано мое настоящее сокровище – очень хорошо мною нарисованная картинка, где над заснеженными горами летит специальный воздушный шар аэростат, а над ним реактивный самолет, а поверх границы стратосферы сгущается фиолетовая мезосфера, где горят метеоры, а выше начинается темная термосфера, где пылает северное сияние и летит Спутник, а еще выше открывается черная экзосфера, где только звезды шепчут сказки о дальних галактиках…
Предрассветный ветер
…В час, когда Чумацький шлях[16] поворачивается поперек бездны, когда ангелы устают разгонять ведьм и лампады звезд начинают мигать на волнах предрассветного ветра, мы все выходим во двор.
С каждым порывом душистого воздуха в саду глухо падают переспелые груши, абрикосы барабанят по шиферу сарая и скатываются в мерцающие звездной росой резеду, мяту и руту. Высоченный орех стариковскими ветвями отмахивается от клочьев сена, летящего с покоса, косматые вишни сбиваются в кучу и что-то обиженно, торопливо, захлебываясь, по-старушечьи шелестят. Свет из окон хаты освещает опущенные борта старенького «газона», который спит, словно хороший коняка[17] перед дальней дорогой.
– Я не хочу в кабину! – заранее протестую я. – Не хочу! Я не маленький!
– А и не надо, – как-то весело соглашается деда Вася. – Давай, Гриша, со мной, в кузов. – Он хватается за борт за кабиной и тенью взлетает наверх, в кузов. – Давай руку, сынок.
И поднимает меня, как котенка. Потом поднимает – вот так же, без усилий, – бабушку и маму. Дядя Петя, крякнув, отказывается:
– Ты, Васю[18], мне всю руку поломаешь, нет уж. Я сам, погодь, борта подниму.
Бухают борта, лязгают замки. Мы сидим под кабиной на покрывалах поверх горячей соломы. Посреди кузова белеет простыня, которой заботливо укрыт памятник Терентию и Антонине – моим прадедушке и прабабушке. Вся семья собрала деньги, у мастера заказали памятник мраморной крошки, фотограф дядя Сеня Долгин расстарался, сделал овалы, дядя Гриша Стеценко вырезал буквы – все сделано по высшему классу.
– Ну, хлопци та й дивчата, поехали?
Дядя Коля Павловский встает на подножку. «Газончик» аж крякает под весом его крепкого тела. Никто никогда не рисковал перечить дяде Коле – он необычайной силы моряк, дважды тонул, дважды из плена бежал, по-норвежски матерится так, что собаки вздрагивают. Только своего двоюродного брата, моего дедушку, он трепетно уважает и смиряется при любых, самых невыносимых по накалу беседах.
– Поехали.
Все крестятся. Я тоже. За спиной включаются фары, ночь становится непроглядной, звезды прищуриваются, словно загулявшие коты, чихает стартер, движок вздрагивает, бормочет спросонья, потом начинает гудеть ровно, машина приминает траву и выкатывается на дорогу, похрустывая гравием меж брусчаткой.
Глухо стучат дубовые ворота, лязгает клямка, дядя Петя, фернанделевски[19] сверкая зубами, заглядывает к нам в кузов:
– Ну?
– С Богом.
И мы едем по спящему Топорову.
Три часа ночи или три часа утра субботы – коты серыми тенями скользят по заборам, в курятниках сонно кряхтят и ворочаются куры, изредка взбрехивают старые псы, ветер кружит над головами, раскачивает фонари, шелестит в тополях…
По брусчатке[20] машина идет тихо – нам никуда не надо торопиться, нечего тяжело работавших людей будить. Наконец последние огни городка остаются за спиной, машина сворачивает с шоссе на знакомый с босоногого детства проселок и начинает пылить-раскачиваться по полям. Встречный ветер срывает и уносит клубы пыли из-под колес далеко-далеко в сияющую ночь, куда-то за ряды пирамидальных тополей. Лучи света то падают долу в зеленые волны жита[21], где свечками зажигают глаза какого-то зверя, то поднимаются к звездам, сигналя спутникам и припозднившимся ведьмам.
Украина – от края и до края.
Родина.
И такой горячий ветер, и такая сила и правда разлиты во всем, что творится в эту секунду, в этот безвременный час, что так душу заполняет восторгом, что дед мой Вася Добровский, последний раз в жизни звенящий силой мой дед, не выдерживает и встает, держась за борт; он долго смотрит вперед, как и положено морскому офицеру, потом бешено оглядывается на замершую бабушку Тася – она всегда понимает его в такие секунды – и бросает слова навстречу ветру:
– Р-р-ревела бур-ря, дождь шумел! Во мраке молнии летали!
Он поднимает песню на пару тонов выше, как тогда, в 1950-м, в Керчи, когда его неожиданно назначили солистом сводного хора Черноморского флота, когда солист, увидев в первом ряду самих Головко и Жукова, со страху потерял голос, вот Васе и пришлось – ему всегда приходилось и доставалось. И тогда дед, то ли от кенигсбергской пули, оставшейся под сердцем, то ли снова взлетая на расстрельную оршанскую высоту, расправил плечи и запел «Вставай, страна огромная!» – да так высоко, что хор ошеломленно поднялся вслед за ним в такую высь и так загремел, что адмиралы и генералы рыдали как дети…
И опять, среди Господней ночи, вслед его баритону пускает втору мама, потом третьим голосом, клиросным распевом (Боже, дай мне слова – не знаю, как они это делают!) – речитативом начинает кружить-выкруживать бабушка Тася; дядя Петя, услышав брата, не выдерживает, встает на подножку кабины, держась за дверцу, и дает подпорку густым басом, будто в бочку дудукает, что твой протодьякон, – и вся семья вдруг заливается, взлетает во весь голос так, как петь могут только люди, радостно уверовавшие в бессмертие тех, кого любят и будут любить после смерти:
Нам смерть не может быть страшна;Свое мы дело совершили: Сибирь царю покорена, И мы – не праздно в мире жили![22]
…И голоса летят в ночи, обгоняя души.
До мурашек по коже.
До скончанья веков.
Родные. Живые. Мы.
«Кон-Тики»
Мне девять.
Я болею этой книгой тяжело и неизлечимо.
Я читаю о путешествии на плоту из бальсовых бревен – на крыше бабушкиного сарая, на сеновале, в моем домике на вершине старой груши, на нижних ветвях огромных орехов, которые растут на низине прабабушкиного огорода…
Тур Хейердал и его команда…
Читать об океане и мужчинах посреди бескрайнего Океана лучше всего на высоте метра четыре – достаточно высоко от земли, чтобы не бояться в свои девять лет, и только далеко внизу теплый ветер – «ш-ш-шух, ш-ш-шух» – порывами катит волны по океану зеленого жита и бирюзового овса – но если зачитаешься и свалишься вниз, в картошку, то не отобьешь ничего, земля-то горячая, мягкая, прабабиной сапкой вспушенная – так прабаба Уля правнука спасает, сама того не зная.
Перерыть в сарае дедов инструмент, достать особую маленькую пилу для осенней обрезки яблонь, из сухих веточек нарезать девять прямых палочек, связать травинками – строго по книге! – и поставить парус с ликом, что так же страшен, как лик на темной прабабиной иконе, и веревки сплести из бабушкиных ниток, щепки воткнуть рулями – помните, как Тур и его друзья поняли, как, поднимая и опуская рули, можно управлять движением плота по лицу бескрайнего Тихого океана?
Дрожа от восторга, вынести на вытянутых руках творение рук своих, поставить на дно раскаленной солнцем балии[23], наполнить ледяной и вкусной водой из шланга и смотреть, как вода поднимает плот, как он качается и как хмурится и хохочет парус, увидев волны…
Господи, я душу готов отдать за путешествие на борту «Кон-Тики»!
Я места себе не нахожу, когда в программе передач слышу, что в «Клубе кинопутешественников» Юрий Сенкевич будет рассказывать о своих путешествиях на борту тростниковой лодки… Сначала «Ра» – это до моего рождения, а потом на борту «Ра-2», это уже я родился.
А потом подъем вручную вырубленного истукана на острове Пасхи, где короткоухие вырезали длинноухих, где люди перевели весь лес, чтобы сделать катки для своих бесчисленных базальтовых истуканов… Я учусь спать на корточках, как индейский воин в пещере, чтобы, чуть что, уметь вскочить и с диким криком проломить череп врагу!
Я на всю жизнь запоминаю «И-а-орана» – «Здравствуй» и «Те-пито-о-те-хенуа» – «Пуп Земли». Пуп Земли – так жители острова Пасхи называют свой затерянный камешек посреди бескрайнего Тихого океана…
На всю жизнь…
Когда отец мне расскажет, как наша величайшая и секретнейшая космическая боевая станция взорвана над Японией, я не заплачу.
Почти.
Она даже до острова Пасхи не долетела – я ведь тогда уже знал, что последние ступени наших ракет падают там, за Пупом Земли, – и всегда, всегда, когда наши парни летят к звездам, я знаю, что их путь идет сначала над нашей Родиной, а потом над бескрайним, таким синим-синим, Тихим океаном, по которому на плоту из девяти бревен когда-то снова проплыли удивительные ребята – Тур и его команда.
На всю жизнь в сердце: «И-а-орана!»
Декохт
…Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни.
Н. В. Гоголь. Мертвые душиДекокт – отвар, питье из трав (Чехов и др.), декохт – то же (Гоголь), народн. декох, дякоп – растение Comarum palustre, лапчатка болотн., смол. (Добровольский). Заимств. через нем. Dekokt или прямо из лат. dēcoctum.
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера…Ранним утром, настолько ранним, что небо еще не розовеет, а лишь переливается бирюзой, когда припозднившиеся ведьмы возвращаются со своих плясок, а тощие вовкулаки[24] шныряют у черной кладбищенской ограды, на мир падает серебристая роса.
Какими словами передать свечение сгустившегося дыхания малороссийской ночи? Когда вся земля – в испарине, неге, истоме – бесстыдно разметалась долами и перелесками и спит безмятежно и радостно, и в старых липах спросонья стонут горлицы, и смирно дышит скотина в сараях, и звезды уже не звенят в мировом эфире, лишь шепчут, и первый ветерок начинает гладить красавицу и бесстыдно снимает туманные покровы, тогда сено на покосах, солома на крышах, каждая травинка, каждый листочек, каждый лепесточек начинает светиться-переливаться росой и радостно умывается навстречу ясной заре.
В такой час голова еще обморочная ото сна, ледяная вода не помогает, разминаешь лицо, неловко одеваешься, делаешь вид, что проснулся, выходишь на крыльцо – вдыхаешь аромат резеды и мяты – и не можешь глаз оторвать, стоишь зачарованно, пока бабушка не возьмет за плечо: «Ну что, сынок, пошли?»
И первым автобусом, тем, что из автопарка развозит первую смену водителей, полупустым, раскачивающимся на поворотах, едешь куда-то, где никогда не бывал, лишь мечтал побывать, – куда-то за Княжево, в знаменитые Мироновские леса, настолько огромные, что в оккупацию армию Ковпака прятали; там если поискать хорошенько, то и махновцы еще могут жить, и раскольники, и еще какие русские люди, еще с Ольгиных времен древляне старинные, изначальные, и спишь уже на бабушкином плече, отвык от такой ранней жизни и видишь сны о логарифмах и русалках, пока не стукнут гармошки дверей – выходить.
И перед тобой – Лес.
Хвоей пахнет, сосны – огромные, медные колоннады, рядом дубы корявые в землю вцепились, ясени черные в сумраке – и все это начинает оживать потихоньку. Где капля упадет на лист, где под ногой сучок треснет – все слышно, все ощущаешь совсем по-другому, все внутри просыпается особое, непередаваемое, когда всем телом мир слышишь, словно рыба боковой линией, так и на затылке глаза вырастают, – вокруг смотришь и чувствуешь, как лес на тебя смотрит, приглядывается, знакомится, принюхивается – свой ли, чужой ли, довериться, одарить сокровенным – или заманить, закружить, запутать напрочь?
И молчится.
Куда ж говорить-болтать, когда ты – в храме, когда гулко так, что свечку поставить – слышно будет, как потрескивает свечечка, да воск течет-плавится, нечистую силу отгоняет, старается слабый огонек. И не по грибы пришли, не по ягоды – когда звонко аукается, каждому боровику, каждой пригоршне июльской малины радуешься до полной липкости щек, нет – по травы, за самой редкой травой начинается охота – за старинным декохтом, что даже не в Красной, а в Черной книге[25] прописан.
По непонятным приметам, по сверткам, мимо трех сосен-сестер, что от одного корня растут, над бормочущим ручьем да по склизким бревнам душу несешь, оглядываешься, вслушиваешься…
– Ты помнишь, Гришенька, как в пять лет ты здесь ножик нашел?
– Ба, разве здесь?!
– Да, сынок, сюда ходили, ты маленький был совсем, вот тут, здесь, нашел ты свой любимый ножик.
– А где же он?
– Так сточился он, старенький был, еще когда нашли, он в ручье давно лежал, но не сгнил, сталь, видно, хорошая, точилась легко. Картошку ей чистили, на драники. Любил ты, сынок, драники?
– Да я и сейчас, бабушка, твои драники очень.
– А придем, домой вернемся, и сделаем, много сделаем.
– С малосольными огурчиками и с подсолнечным, с душистым маслом?
– Да, сынок, вчера купила, ждала же, знала, что ты ко мне едешь, ждала, когда из Киева автобус придет, всем сердцем ждала… Вот здесь свернем, ты запоминай, сынок, запоминай, где-то здесь, я покажу тебе низинку.
И по седому мху, по сбегающему вниз сосняку, среди мелколистья всякого выходишь на поляны, вроде бы и земляничные, но земляники мало – здесь она чахлая, припадочная, прячется в густой траве – а трава… И слов нет таких, сколько разных трав на тех полянах – и зверобой, и череда, и тысячелистник лесной, и мята-рута, и всякое разнотравье упоительное – упиться таким запахом, забыться, зачароваться – пропасть напрочь, но… Нет, нельзя, нет-нет, дальше надо идти, заветное место искать. И на самой неприметной полянке, когда на душе уже светло, уже радостно, уже не страшно – в розовом свете, что наискосок черные тени кидает напротив солнца…
– Смотри, сынок, вот. Видишь?
– Нет.
– Да под ногами, смотри, как звездочка горит.
И точно – горит.
Красный с лиловым, нет, даже медный с фиолетовым. Нет-нет, совсем другой. И не вишневый, и не черешневый – крови, горячей крови цветок – пятилистник на тоненькой веточке, заветное сокровище. Садишься на корточки, смотришь на чудо-юдо, сам не понимаешь, как такое может быть – один-два таких цветка на целую поляну. Ладони тянешь, красную звездочку греешь, а она в утренней прохладе зябнет; ежится, боится, больно ей будет, страшно травинке, жутко былинке – ох, судьба ее настала, ох, нашли ее люди, нет, не спряталась, нет страшнее зверя – человека.
А дальше…
А дальше, помолясь Господу Богу да извиняясь перед Лесом, дрожа от удачи, подкапываешь травинку с кровавым цветком да под былинкой тоненькой корневище коричневое находишь, прочное, будто телефонный кабель какой с партизанских времен, да не одно! – и начинаешь цеплять-вытягивать подземную сеть корней, все больше изумляясь и себе, и чуду, когда и радостно, и больно, и будто сам себе кожу вспарываешь – корни-то те во всю поляну расходятся, будто огромная паутина тянется, и по земле песчаной, влажной шрамы тянутся, и кровяной цветок давно завял, а ты все вырываешь из-под земли все новые корни, роешься, как крот земляной, как лиса полевая, собираешь от одного цветочка целый кошель[26] корней, редкости необычайной.
А потом…
А потом – тот кошель с сокровищем заветным в ручей звенящий ставишь. И смывает вода песок и сор древесный, промывает корни кровяного цветка. Сам сидишь чуть повыше, где сухо, спиной к сосне привалившись, и только слышишь, как мурашки топочут, бегут, гусеницу тащат к соседнему муравейнику – день у них начался, а твой почти закончился. И бабушка Тася рядом – платок сняла, смотрит на ручей, рассказывает такое, от чего сердце плачет и радуется: о заветных временах, о прабабушках, что по травы ходили да в оккупацию спасли девчонок-санитарок теми травами, чтобы в Германию не угнали, и о соседях, и о временах стародавних, да обо всем на свете, что помнится, когда что-то большое удается…
А что же декохт?
Неспроста за тем цветком алой крови с давних времен тайная охота идет – силы он необычайной. Сам видел, на себе пробовал, такое сочинить невозможно. Если ребенок какой грудной, младенец совсем, простудится тяжело, когда боишься воспаления, когда нельзя дитя антибиотиком калечить, – стоит лишь бросить в стакан корешок декохта, не больше дамской тонкой сигаретки, да кипятком залить, получится удивительный чай – перламутрово-розовый, сладковатый, вкуса розового лепестка, и если дать ребеночку несколько глотков теплого питья с ложечки, так вскоре начнет дитя откашливаться, и жар проходит, и все легкие чистятся, и на глазах ребенок оживает.
Я видел, что после декохта творится с заядлым курильщиком.
Папа мой, Алексей, с самого детства хулиганского по пачке сигарет в день курил. Так он выпил, на свою голову, стакан бабушкиного декохта – такой же корешок был заварен, такой же перламутровый отвар получился, светящийся, на научном языке – опалесцирующий – язык сломать можно. Ох, что было… И тошнило его от кашля, и рвало, и выл, и прятался от всех – из легких такое вылетало, что две недели не то что курить, смотреть на курево не мог, и сам себе ужасался, что внутри такое держалось – весь очистился. Правда, потом на нервах опять курить стал, но то времена такие были, мутные, подлые, злые, горбачевские.
Берегли мы тот декохт необычайно, тянули, по корешочку заваривали лишь на самый крайний случай, лишь когда маленького ребенка лечить. А потом та травка заветная закончилась.
Много лет прошло.
Я, конечно, с закрытыми глазами смог бы найти те места – потом, когда война с украинским фашистом закончится… Мог бы… Только все равно, туда, где сердце мое спрятано, туда никому ходу нет – в те заповедные леса туча чернобыльская упала, невидимым горем звенит ручей заповедный, а в другие леса мне судьба идти лишь по старости, рано еще свои поляны искать, еще на этом свете дела есть…
Бегемот
Его все зовут Бегемот.
Бегемот – толстый и одышливый, цвет кожи очень нездоровый, серо-фиолетовый, из каждой поры противно сочится пот, который Бегемот промакивает большими клетчатыми носовыми платками.
С первого сентября он наш учитель рисования.
С первого сентября он учит нас, пятиклассников, совсем по старинке, рисовать простыми карандашами тени «Нос» и «Глаз»… Через каждые три очень нудных урока Бегемот просит нас нарисовать пейзаж – ну, что-нибудь на вольную тему.
Я рисую деревню – домики, березки, забор, на заборе кошку. Я люблю рисовать домики. Березы уже желтые – значит, сентябрь, за окном тоже сентябрь. И птицы улетают на юг. И кошка смотрит куда-то.
Бегемоту очень нравится мой рисунок, он вызывает меня к доске, всем показывает его и просит нарисовать меня дома еще что-нибудь. А я стою перед хихикающим классом, и мне очень неловко, что меня хвалит серо-лиловый липкий Бегемот.
Через месяц он опять поднимает меня с «камчатки» и говорит, что попросит, чтобы меня приняли в изостудию, а лучше – в специальную школу, где учатся рисовать. У меня даже уши краснеют от смущения, и класс опять хихикает.
Еще через месяц я вхожу в школу, а на первом этаже на меня смотрит Бегемот – с большой черно-белой фотографии с черной полоской поперек угла. После обеда нас всех собирают на линейке, и учитель начальной военной подготовки, которого все зовут Тобиш, встает перед нами и ничего не говорит, молчит.
И все замолкают. Даже те, кто сзади.
И вся школа смотрит на Тобиша.
И он начинает тихо говорить, и говорит такое, от чего немеют даже прокуренные десятиклассники.
И Тобиш тихим, задушенным голосом нам всем говорит, что, оказывается, Бегемот был танкистом, что он горел в танке, что у него была сильнейшая контузия всего тела, что у него всю жизнь болела каждая клеточка, что у него были боевые ордена и что он нас всех очень-очень любил.
Безмен
Откуда берется идея отловить дикого бабушкиного кота и взвесить четыре килограмма царапучих когтей против их желания? Такое может прийти в голову, только когда тебе двенадцать лет, и ты только что приехал из Москвы в Киев, а потом из Киева в Топоров, и ты снова видишь любимую бабушку Тасю, и тебя радость переполняет, будто потрясти бутылку с лимонадом.
И, конечно же, в этот момент ты просто не можешь не взвесить Маркиза, случайно попавшегося на глаза и под руку.
Итак, я уже четверть часа запихиваю бабушкиного котика в авоську[27]. Маркиз явно вспоминает все рассказы бывалых товарищей и догадывается, что его собираются топить. Поэтому внезапно озверевшее животное изображает из себя столапый адмиралтейский якорь и всем видом и существом отказывается влезать в веревочную сетку.
За четверть часа котик успевает исполнить и «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”», и «Плещут холодные волны», и весь репертуар несгибаемых югославских партизан; наконец, он прибегает к тактике опоссумов: закатывает глаза, высовывает розовый язык и выпадает в осадок на дно авоськи.
– Что с ним? – заботливо спрашивает заслуженная учительница УССР, дважды орденоносица, медаль Макаренко, участник Всесоюзного съезда учителей и моя бабушка Тася.
– Придуривается. Йод есть?
– Сейчас принесу.
– Четыре двести, – говорю я бабушке.
– Двести граммов лишних – это соседская курочка, – догадывается заслуженная учительница УССР. – Мне соседка Марийка Тимощук всю душу выест.
Маркиз открывает один глаз и мотает головой, все отрицая со дна авоськи.
Язык на всякий случай не убирает.
– Брешет.
– Конечно, брешет. Ладно… Главное, чтобы наших курчат не жрал.
Маркиз согласно хрюкает.
– Отпусти душегуба, Гришенька.
Я вытряхиваю окоченевший труп совершенно умершего кошачьего покойника на мягкую травку-муравку.
Светит солнышко.
Маркиз упорно высовывает язык.
– Вот я водой его сейчас, стервеца, – спокойно говорит бабушка Тася и тянется за кружкой.
Труп оживает и взлетает на забор птицей, матерится по-кошачьи и растворяется в сиянии дня.
А я отправляюсь раскрашиваться йодом. Я дома.
Господи, я дома…
А кота мы так и не переименовали в Безмена[28], хотя и хотели сгоряча. Слишком красивый был – черный, как смоль, белая манишка и носочки на всех его загребущих лапах.
Поэтому его, конечно же, убил кто-то из соседей.
Хирург Ромашко
1Славный август в Топорове.
За мной приехали папа и мама.
Мы поедем вместе домой, в Залесск, – через неделю мне идти в седьмой класс.
Папа и мама только что прилетели из Тюратама, который вся Большая страна знает как Байконур. Оба загорелые до черноты, худые и веселые. Бабушка только охает и ставит на стол жаркое, огурчики, чарочки. Отец много смеется, сверкает белыми зубами: у них все получается этим летом – там, где земля ближе к звездам, где пот высыхает за секунды, где наши советские инженеры готовят к полету самые фантастические машины, крылатые корабли, которые поведет Волчья стая.
Отец уже проболтался, поэтому я знаю, что Волчья стая – это удивительно прекрасно. Это лучшие из лучших. О них тюратамовские[29] так и говорят: «На том, что без крыльев, лучше всех летает Джанибек[30], на том, что с крыльями, – Волк[31]». Я тоже хочу туда – в пустыню.
Я отпрашиваюсь покататься на велике. Я очень хорошо умею ездить на велике – и без рук, и на заднем колесе, я ведь мастер. Вечереет, но я быстро. Все совершенно прекрасно.
2На пути мне попадается настоящая ведьма.
Старая Надька давно меня подкарауливает, выпрыгивает из-за ворот и метко плещет по колесам самыми мерзкими помоями, и, естественно, через два поворота, на спуске с Садовой на Школьную, я на полной скорости вылетаю на рассыпанный по дороге круглый шлак, меня закручивает, швыряет, как на подшипниках, и я лечу головой в бордюр, прикрывая голову руками.
Хруст.
Я тут же вскакиваю, трясу головой, не понимая, что с левой рукой и почему кругом так много разбрызгано крови. Пытаюсь поднять велик, но роняю. Тупо смотрю на лопнувшую раму. Я такого никогда не видел. Потом смотрю на левую руку. Такого я тоже никогда не видел.
Я не верю своим глазам. Да и не хочу верить.
Такого не бывает.
Правой рукой вытираю кровь со лба и тащу (жалко же!) разбитый велик по Котовского, потом сворачиваю мимо голубятни и котельной, где колдунья Грибаниха живет, потом по нашему огороду… Пытаюсь тащить. Хорошо, что кровь уже присохла, – очень уж сладкий вечер в Топорове.