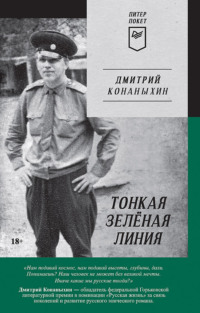Полная версия
Жизнь Гришки Филиппова, прожитая им неоднократно
– Будто все живое, да?
– Да, сынок.
– Ба, а у мамы с папой, у них ракеты – тоже живые?
– Живые?
– Ну, папа все время говорит «полетела», «встала», «закапризничала». Ба, а этот кулек сюда?
– Сюда, сынок.
– Ба, а как ракета может капризничать? Это же не малявка какая-нибудь – капризничать. Капризничают ведь только малявки, да?
– Да, сынок. Давай поправлю. Вот здесь, здесь землей присыпь. Дай руку. Замерз?
– Нет, что ты! Ба!
– Что?
– Ба, а я тоже буду делать ракеты? И они тоже будут летать?
– Наверное, сынок. Вот через два года пойдешь в первый класс, потом учиться будешь, потом еще, а потом еще…
– Это что же, всю жизнь учиться?!
– Конечно. Человек всю жизнь учится.
– А ты? Ты же столько знаешь!
– И я всю жизнь учусь… Погоди, сынок. Газеты кончились. Сбегаешь в сарай?
– Да! Я один?!
– Не боишься?
– Нет! Что ты! Я быстро!
4Оно, конечно, очень смело и мужественно – сказать «что ты». И не бояться. Хорошо не бояться, когда бабушка рядом. И все так хорошо видно, и звезды, и ночь такая туманная, и месяц яркий-яркий, и тень такая – справа от тропинки – рядом бежит. Я бегу, и тень бежит. А у старой яблони тени. И такие ветки – звезды и луну закрывают. Корявые, будто лапы. Будто пальцы. Будто схватить хотят. Как когти. Быстрее надо. Быстро-быстро открыть калитку, быстро-быстро пробежать мимо кривого угла хаты. Он кривой, потому что туда ударил немецкий танк, когда немцы отступали, – мне прабабушка Уля рассказывала, – бежать до сарая, бежать быстрее, сердце стучит, быстрее, еще, в сарае темно, но надо быстро-быстро взять и не бояться, потому что Саша Суворов не боялся, он своим солдатам кричал: «Вперед, чудо-богатыри!» и еще кричал: «Заманивай!» А они увидели, что их генерал кричит «Заманивай!», и стало им стыдно, развернулись и победили. И прижать отсыревшие номера газеты к груди, и бежать, еще быстрее, серой мышью, со всех ног, потому что корявая старая яблоня подняла ручищи, и все спят, и бежать еще быстрее, потому что так весело бояться, так весело и страшно, и впереди ждет бабушка Тася…
5И мы всю ночь крутим кулечки. Ну, не всю ночь, наверное, еще полчаса. И в лунной ночи по всей делянке стоят и светятся колпачки – домики для рассады. И уже всерьез, взаправду холодно, и уже руки ледяные, и у бабушки руки ледяные, а я, чтобы согреться, прыгаю на меже, а потом мы идем домой, и дома бабушка подбрасывает в печку пару поленьев, и они разгораются над старыми углями, из полешек свистят голубые струйки, оранжевые язычки облизывают дерево, оно светится, будто мед, а вниз, в поддувало, падают оранжевые искры, и ветер чуть-чуть, совсем нестрашно, поет в трубе. И молоко в чашке теплое, и кусок хлеба, и мед сверху. Такое приключение, такое здоровское приключение, которое может только присниться, всю жизнь будет сниться…
6И ведь только сегодня, когда у меня борода уже седой стала, только сегодня утром, на грани сна, я соображаю, доходит до меня, что она ведь могла меня не будить.
И быстрее бы управилась сама, и все бы сделала сама, и пожалела бы, и спал бы сладко, и все было бы хорошо, чудесно и замечательно…
Но разбудила – и научила – и в сарай самого послала за старыми газетами, хоть и знала, каково это – ночью, под корявыми ветками старой яблони.
Яблони старой и корявой, как руки старой старухи Грибанихи. Когда ночной туман, звезды и месяц светит, острый, как серп.
Когда закончится война
1Сколько себя помню, ее зовут Надькой.
Надька – совсем дряхлая, маленькая, ссохшаяся старушка лет за семьдесят. Ножки худенькие, ручки худенькие, сама тощая, личико хитренькое, вечно ходит в старенькой выцветшей юбке, какой-то передник, на ногах опорки. В центр Топорова она не выходит, хлеб себе и своим чумазым курам покупает в магазинчиках при кирпичном заводе или возле конторы пиломатериалов.
Живет Надька по соседству с бабушкой, в пристройке к дому полицаев Гавриловских, доводится им какой-то родней, вроде двоюродной сестрой полицаю деду Сергею, но точно не знаю, старые люди лучше помнят такое. Сам Сергей с ней не очень общается, он и сам немного не в себе, а уж старая Надька и подавно заговаривается.
Я иногда подсматриваю за Надькой через щель между досками забора.
Интересно же: то ли сумасшедшая, то ли нет – сумасшествие всегда притягивает, а такое и подавно. Вроде и не дурная, но не в себе. Выскочит из своей хатки и давай крошить хлеб своим облезлым курам. И все время что-то бормочет неразборчивое, будто язык заплетается. Накрошит хлеб и замрет. Стоит, смотрит перед собой, хлеб в руке держит. У ног куры соберутся, на кусок хлеба в ее руке косятся, потом не выдерживают и начинают подпрыгивать, выщипывать крошки. Надька стоит, не видит, пока уж совсем какая-нибудь заполошная за палец не ущипнет. Тогда очнется Надька, бросит хлеб и бежит в клуню[3], схватит старую сапку[4] и давай бить ссохшуюся землю под чахлыми помидорами. Побьет корку минут десять, бросит сапку и побежит за ведрами, схватит – и через дорогу, как кошка, которая по обочине, по обочине, а потом под колеса поперек бросается, вот так Надька к колонке бежит – а к колодцу она не ходит. Все местные водилы научились притормаживать на повороте с Калинина на Буденного, знают, что может Надька выбежать. Бросит Надька одно ведро у колонки и бежит к себе, тащит, расплескивает полведерка. А из колонки вода шумит, бьет струя в переполненное ведро. Тогда выходит какая-нибудь соседка, молча вынимает колышек из-под рычага колонки, но к ведру не прикасается.
Разве что, если себе надо ведро наполнить, тогда рычаг полой халата протирает, ногой Надькино ведро отпихивает и свое со вздохом ставит. Так и стоит Надькино ведро до вечерней зари, аж пока Сергей не забирает.
Никак Надька умереть не может. Хочет, но не может.
Я что-то такое помню, что бабушкины подружки вроде говорили, что звала она Смерть, но Смерть к ней не шла. Я иногда пытаюсь представить, как Смерть приходит к Надьке, но эта мысль такая неприятная, что я ее никогда не додумываю, просто бегу к бабушке со всех ног – носом в теплый живот ткнуться.
2Опять я подсматриваю за Надькой, и тут она поворачивается к забору и говорит: «Иди, Гриша, иди сюда, заходи, я тебя угощу». Мне всегда нравится, когда меня угощают бабушкины подружки, да и ужасно хочется узнать, хоть чуточку узнать тайну старой Надьки, я оглядываюсь, нет ли кого в вишневом саду – нет, никого, я открываю горячую клямку[5] калитки, выбегаю на улицу и быстро захожу в Надькин дворик. Немножко жутковато, когда я с яркого солнца захожу в ее хатку, все озираюсь, осматриваюсь.
Старенькая мебель. Горшок с алоэ, горшок с каланхоэ – если выдавить из листа сок и смешать с сахаром, тогда можно горло лечить, – я всегда любил кисленький вкус каланхоэ, такие горшки во всех хатах Топорова стояли на окнах. Телевизора у старой Надьки нет. Шкаф, железная кровать с квадратными шишечками, возле кровати тумбочка, а на тумбочке – две шкатулки какие-то странные, на черепашек похожие. Но плохо видно, будто свету божьему темно и душно у Надьки. И пованивает старушечьим духом, меня мутит, но удерживаюсь, меня не тошнит. Сзади шарканье. Надька выходит из кухоньки и мне в руку сует две ириски в выцветших обертках. Я не разворачиваю конфетки при Надьке, но разлепляю вдруг онемевшие губы:
– Спасибо.
Молчим.
Она стоит, на меня смотрит, потом вроде даже хочет меня по голове погладить, а я, дурак шестилетний, шарахаюсь – я же помню про Смерть.
Надька так и стоит с протянутой рукой, сквозь меня смотрит, что-то за моей спиной видит. Я делаю шаг в сторону, а она ни с места. Стоит, и рука в воздухе. Я вздрагиваю и проскальзываю мимо нее, а она так и остается стоять посреди темной комнатки.
3Прибегаю я к бабушке:
– Бабушка! Бабушка, а Надька меня конфетами угостила!
Я очень хвастаюсь и радуюсь удаче. Бабушка роняет ножик, которым чистила картошку, и удивительно быстро, совсем как кошка, круглой пушистой тенью прыгает ко мне:
– Где?!
Я пугаюсь, засовываю руку в карманчик шортов, достаю две ириски, показываю. А бабушка меня по руке вдруг как ударит! Конфетки те на пол падают. Я рот открываю, а бабушка конфеты на совок веником собирает и быстро на улицу выбегает. Я в окошко кухни выглядываю – бабушка прямо через соседей Тимощуков двор бежит и через забор так совком и бросает те несчастные две конфетки на брусчатку. Я даже не плачу от изумления, только глазами хлопаю. Потом догадываюсь закрыть рот.
Бабушка возвращается, почему-то на меня как-то очень странно смотрит. Мы садимся за стол, она мне молока наливает, варенья клубничного дает и булки свежей. А я потихоньку отхожу от шока и начинаю рассказывать, что и как у старой Надьки увидел. Но о конфетках не спрашиваю, что-то такое чувствую, понимаю, что лучше не надо лишнее спрашивать. Когда говорю о том, что увидел у Надьки шкатулки, бабушка прищуривает глаза:
– Какие шкатулки?! Такие вроде как ракушками обложенные?
Я изумляюсь, булку держу, варенье по руке течет:
– Да.
Тишина.
Ничего мне бабушка не говорит, тихо встает из-за стола, подходит к окну и долго-долго стоит. И молчит, молчит, молчит, и все на улицу смотрит.
Вот так…
4Когда мне было уже двенадцать лет, совсем уже большой балбес, вспоминаю я ту странную историю и спрашиваю у бабушки, что же тогда такое странное произошло.
А бабушка мне вдруг отвечает, что мало того, что старая Надька была всем известная ведьма и людям «на смерть робила»[6], так, оказывается, она еще и молодой когда-то была, а когда молодой была Надька, люди говорили, что так обзавидовалась она на шкатулки, перламутром обложенные, которые лесник из Торжевки своим дочкам подарил, что донесла немцам на лесника, и немцы лесника со всей семьей повесили, и что немцы Надьке что-то из вещей лесника дали, то, что она у них попросила, и тогда Надьку люди прокляли и больше Смерть к ней не шла.
Но никто тех шкатулок никогда не видел.
Думали, что старые люди сочинили.
Тропосфера, стратосфера, мезосфера
1Меня несколько раз убивали, но травили только раз, да и то не со зла, а так, ради смеху…
Однажды, ясным июлем, живем в Топорове, что на Украине, мы – четыре пяти-шести-семилетних соседа – Шурик Семенко, Славка Тимощук, Жорик Василенко ну и я, Гришка Филиппов, москвич.
Четыре мушкетера, четыре соседа через три забора. Добро пожаловать в наше лето.
Лучшее лето моей жизни.
Я живу у своей бабушки Таси Завальской и дедушки Васи Добровского, пока мои папа и мама работают на космодроме и учат ракеты летать. Киевлянин Шурик Семенко живет слева от нас на полхаты у настоящего полицая Сергея Гавриловского, Славка Тимощук – справа. Он внук настоящего партизана, который купил полхаты у Зиновия Василенко, деда Жорика. Дед Зиновий – заведующий библиотекой школьного интерната, поэтому как-то так случайно получилось, что в доме Василенков[7] собрана самая лучшая библиотека в Топорове – ни у кого такой нет.
К моим шести годам я уже перечитал все, до чего дотянулся на бабушкиных полках и в детской районке: «Маугли» и «Буратино», Джанни Родари, Бианки, «Волшебник Изумрудного города» и весь «Незнайка» зачитаны до дыр. Я люблю читать, да так, что иногда увлекаюсь и вываливаюсь из халабуды[8] на старой груше и, естественно, пикирую в бабушкину резеду и мяту. Лететь метра три, но на очень мягкую землю.
Бум!
Это совсем не страшно.
У меня есть заветная мечта, самая главная греза этого лета – книга, которую я увидел у Жорика, Большая детская энциклопедия. Здоровенная… Обо всем на свете. О глубинах, динозаврах, вулканах, пластмассовых лодках, откуда уголь пошел, и как устроен танк… А картинки… Какие же там картинки на специальных вкладках – глянцевые, яркие, и каждая иллюстрация переложена папиросной бумагой! Вы представляете, как дрожат руки, когда пальцы осторожно, чтобы не разорвать, переворачивают тонкую полупрозрачную бумагу и открывается очередная удивительная картинка? До дрожи. Будто поймал пальцами бабочку-махаона.
Жорик Василенко совсем не дурак, и за право почитать Его Мою Книгу он берет с меня всякие ценные штуки. Я уже отдал ему мой любимый пистолет с пистонами. Он еще хочет с меня получить мой деревянный меч, но меч я ему не отдаю, потому что это самый лучший, самый острый меч среди всей нашей четверки.
Мало того, это Кровавый Меч! – на рукоятке и на лезвии сплошь следы взаправдашней крови! (Это моя кровь – я, пока выстругивал меч из бабушкиного штакетника, несколько раз порезался, но не признался и сказал друганам, что зарубил врага, – а Славка Тимощук верит, малявка четырехлетняя.)
Пока Жорик целый день щелкает бывшими моими пистонами, я забираюсь на грушу, где расположена моя космическая база, и читаю-читаю-читаю Книгу. А потом по веревочной лестнице слезаю вниз, бегу к бабушке, ищу цветные карандаши, опять быстро лезу наверх, в базу, и очень тороплюсь, чтобы успеть перерисовать картинку атмосферы – ну, вы, конечно, помните такую голубую-синюю-фиолетовую, с воздушным шаром, самолетом, а сверху спутник и ракета и надписи «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «термосфера», «экзосфера»… От этих «сфер» у меня мурашки по коже бегают, я даже забираюсь повыше по веткам старой груши, чтобы быть поближе к границе атмосферы, только там уже ветки гнутся. У меня все получается, а что не успеваю, я запоминаю, заучиваю наизусть. Это очень удобно. А потом иду к Жорику, чтобы отдать мою Книгу, заодно прихватываю Славика и Шурика – и мы все вместе идем в гости к Василенкам.
2…У Василенков очень большой и богатый огород – по весне дед Зиновий навозу не жалеет, поэтому летом их грядки аж репаются[9] – так картошка прет из земли. Вдоль всех тропинок растут метелки, мальвы, вдоль сарая – пионы, розы, тюльпаны, настурции, ноготки, то есть календула, всяких цветов необъятное море.
Пахнет землей, травами, луком, картофельной ботвой, чесноком, помидорами, цветущей фасолью, горохом, и над этим всем теплый ветер разносит сладость наливающихся яблок и падалицы, уже изобильно гниющей на гноярке, где всегда можно набрать самых юрких червяков для рыбалки на ставках[10] за колхозом «Коммунист».
Знаете, какая у нас огородная география? По низинке от полицаев Гавриловских, по задам огородов моей прабабушки Ульяны, через огород бабушки Таси, мимо Василенков можно незаметно дойти до шелковицы, которая растет на меже между огородами соседей Петра Пивня и Самуила Пивня… (Когда-нибудь расскажу и эту историю, пока не об этом.) Но мы туда не ходим, там скучно. Главным местом наших игр является Очень Большая Бочка, которая стоит за сараем деда Зиновия.
3Ни у кого из соседей такой огромной бочки нет!
О, это грандиозная, всем бочкам Бочка, настоящая Царь-бочка! Если из нее какой-нибудь невероятный силач сможет вычерпать всю воду, то в ней мы можем уместиться все вчетвером, и еще раза три по четверо нас – такая огромная бочка. Железная, сбоку орел с загнутым клювом и свастика. Только свастикой бочка к сараю повернута, свастику можно рукой потрогать, если очень-очень пальцы тянуть. Вода в бочке бесконечная – к ней под краем крыши сарая идет рынва[11], с которой дождевая вода стекает в бочку, поэтому этим солнечным, душным и очень грозовым летом бочка всегда полна до краев.
На Украине июль всегда грезит августовским изобилием, но этот июль 1976-го настолько теплый и влажный, что ломаются ветки у абрикосов, а за вишнями можно не подпрыгивать – ветки гнутся до земли, огороды распухают будущим урожаем, азартные хозяйки не успевают закупаться сахаром для закрутки варенья и разных консерваций, которые спускаются в ледяные погреба в ожидании холодов и Нового года…
Так вот, как и положено взрослым мужчинам, натрескавшись пенок со свежесваренного варенья, после обеда мы собираемся на огородах и играем во все, что можно выдумать, – и в казаков-разбойников, и в ножички, и в «танчики»[12], и в партизан, и в немцев, и в летчиков, и в робингудов (если не растеряли стрелы), а то и в доблестных рыцарей (а для чего пальцы резались весной? – мечи же!), но сегодня мы играем в бочке в подводную войну.
(А моя заветная Книга уже лежит на веранде Василенков. Эх…)
Для игры в подводную войну нужна Царь-Бочка, полная до краев, и дудки подорожника. Вы знаете, что если очистить дудку подорожника от зеленых семян, то у нее плавучесть и нырючесть будут как раз такие, что ее можно воткнуть в воду, как копье? А потом завороженно следить, как дудка, расталкивая суетливых мотылей, медленно устремляется к ржавому дну, далеко в глубины океана – и только тени наших макушек видны на буром дне. И самое главное в игре в подводную войну – это надо так бросить свою дудку в воду, чтобы у самого дна на страшной глубине, где осьминоги, где живут чудовища – пожиратели пиратских кораблей, где скелеты в остовах погибших каравелл и галеонов с золотом, – чтобы там твоя боевая подлодка протаранила вражескую!
4– Так нечестно! Так нечестно! – горячо протестует Славка-малявка. – Так нечестно! Ти бачив, що вiн лобить[13]?! Вiн руку занулюе[14]! Ах ти ж!
– А что не так?! – Шурик прикидывается сибирским валенком. – Я подбил твою лодку, вот и не сопи, малявка!
Это железный аргумент. Тем более что Жорик киевлянин, а все киевляне говорят по-русски. В этом мы с Шуриком сходимся. Я из Залесска, но всем говорю, что из Москвы, чтобы было проще, Шурик из Киева, ну а Жорик Василенко говорит по-русски потому, что так хочет его бабушка Тамара – хромая полная бабушка со странно толстыми щиколотками. Она всегда всем говорит, что ноги у нее такие из-за больного сердца.
– Не! Так не можна! – чуть не плачет Славик. – Вiн! Дай менi ще лаз! Я ще лаз!
– Ладно, пусть еще раз бросит, – я вступаюсь за малявку. – Жорик?
– А мне все равно, – лениво отвечает Василенко. – Пусть бросит, все равно он по счету проиграл.
– Я не плоглав! Не плоглав я! – топает Славик.
Он уже забрызгался теплой водой по уши, но не обращает внимания, старается, прицеливается, бросает свою дудку! И мы следим, как зеленая черточка сначала быстро, потом медленнее, потом совсем медленно уходит вниз, где уже поднимается «Наутилус» Шурика. Шурик самый старший из нас и все свои подлодки называет «Наутилус». А нам не разрешает.
А мне все равно – мою подводную лодку я всегда называю «Бодрый», бортовой номер 42. Такой номер, как на эсминце моего дедушки Васи. Дедушка с немцами воевал на «Бодром», потом к немцам в плен попал, они его расстреливали, но не смогли. У дедушки после войны орден боевой. Очень тяжелый. Красного знамени боевой орден, вот!
– Ага! Вот! Вот! – Славик прыгает, лупит по воде и торжествующе кричит на всю округу. – Попав! Попав я! Это ты плоглав, ты!
– Ну, ладно, хватит. Хватит, говорю! – Жорик и Шурик вытирают лица. – Все, адмирал сопливый, пошли. Выиграл! Да. Стопэ! Харэ, говорю, а то в глаз получишь!
Мы идем мимо папировки[15], потом объедаемся ранней падалицей – Жорик разрешает поднять несколько яблок.
– Парни, – вдруг шепчет он таинственно. – Гороху хотите?
– Ну. А можна?
– МожнО, а не можнА, – поправляет он Шурика. – Тютя.
– А в глаз, толстожопый? Ты че?! – Шурик пытается дать поджопник Жорику, но тот быстро отскакивает.
– Ну что ты? Что ты, я ж шучу. Можно. Можно, конечно. Пайшли, хлопцы.
И мы втыкаем куриные перья в волосы и секретно идем по тропинкам большого огорода деда Зиновия, где-то крадемся на четвереньках, где-то ползем по-пластунски, где-то заметаем следы наших мокасин – для полной тайности, по-гуронски и по-могикански, пока не доползаем до горошка, который по весне посеяла бабушка Тамара Василенко. Среди путаницы изумрудных листочков, усов и стеблей висят туго наливающиеся стручки. Вы знаете, как это вкусно? А как вкусно поддеть обкусанным ногтем пленку оболочки стручка, снять ее и разжевать сладкий стручок? А съесть сладкие горошины? Залезть на толстую нижнюю ветку яблони, пересчитать на ладони зеленые жемчужины, вдохнуть сладкий запах и весело есть, болтая черными босыми пятками?
– Форик, а фы? – Славик набил полные щеки гороха и нечаянно пускает слюни на голый животик. – Фы ффо фе фъеф?
– А я не хочу есть, – лениво мычит Жорик Василенко. – Я этого горошка объелся – во! – он проводит ладонью по горлу. – Вы ешьте, ешьте.
И мы лопаем зеленый, сладкий, самый вкусный молочный горошек, еще не жесткими шариками, которые суховаты, а самый восхитительно сочный, самый молочно-спелый, такой, что за уши не оттянуть и ум отъешь. А потом расходимся и Жорику, конечно, спасибо говорим за такое пиршество, руки жмем, как взрослые мужчины.
Шурик и Жорик жмут руки сильно-сильно – кто сильнее. Конечно, Шурик.
Ладно, вечер уже, пора по домам.
5Дома я еще играю немного, потом что-то читаю, только вот почему-то спать хочется очень сильно, потом очень хочется пить, потом я ложусь спать прямо на полу. Вбегает бабушка, а я уже сплю, потом бабушка начинает бегать, искать градусник, трогать мой лоб, искать каланхоэ, смотреть горло, меня просто ужасно тошнит и выворачивает всего, потом бабушка кричит что-то, я плохо помню, кажется, температура уже сорок два, потом кто-то поит меня чем-то, меня, кажется, опять тошнит, потом что-то еще происходит, какие-то круги, тени, шар из стратосферы поднимается в синюю высоту, дальше уже летит реактивный самолет, а выше, там, где темно-фиолетовая термосфера, там еще выше горят огни северного сияния, а еще выше переливаются звезды, такие, как те звезды, о каких рассказывал папа, который каждый месяц улетает на Байконур, а потом звезды начинают кружиться, собираться в большие круги, водят хороводы, проваливаются в черную пустоту, где так много звезд, так много пустоты, черноты, тишины, где так кружится все и снится, и марится, и видится, и чудится, и все понарошку, и взаправду, и где я всех-всех очень сильно люблю…
6Я открываю глаза.
Я лежу на бабушкиной кровати, на мне «пушкинская», моя любимая рубашка, такая вся белая, а на ней черные профили Саши Пушкина с синими строчками вроде «я помню чудное мгновенье» и всякими «у Лукоморья». Очень любимая.
– Мама. – Я даже не удивляюсь. – Мама, ты приехала? Когда ты приехала из Москвы?
– Я прилетела, сынок, – тихо говорит мама и оборачивается на бабушку.
– Бабушка… Бабушка, сколько я спал?
– Четыре дня, сынок.
Я опять не удивляюсь. Все как-то очень странно и невесомо.
– Бабушка, я так долго спал, что соскучился.
– И мы соскучились, сынок. Очень.
– Бабушка. Ты какая-то усталая. Бабушка, извини, я кушать хочу. Можно я покушаю?
Бабушка куда-то исчезает. Мамина рука на лбу. Как здорово, когда мама. Вы не представляете, как это удивительно здорово, когда мамина рука на лбу…
– Мама, у тебя же работа. Ты же в командировку к папе улетала, да?
– Я потом поеду, сынок. Вот, бабушка жаркое пожарила, такое, как ты любишь. Давай, поешь тихонько. Я подую.
– Я сам. Я что-то… Мам, подними мне подушку. Мне так полегче будет.
И я кладу в рот кусочек картошки. Никогда в жизни я не пробовал такую удивительную картошку! Я чувствую каждую крупиночку, каждый вкус, все-все-все. Удивительная, необычайная, самая вкусная картошка в мире!
– Бабушка! Ты лучше всех жаришь жаркое! Бабушка… Мама? Мама, куда бабушка побежала? Бабушка плачет?
– Бабушка скоро придет. – Мама закусывает губу и гладит меня по мокрому лбу, вытирает пот из уголков глаз. – Бабушка скоро придет. Она не плачет, что ты.
Все хорошо.
Я наливаюсь силой. Все просто замечательно. За окном очень ярко горит солнце. Очень замечательный июль. Замечательное лето. Все просто чудесно. И самая вкусная картошка.
И мама…
7А потом…
Да, думаю, можно уже рассказать.
А потом я узнал, что, пока я в беспамятстве летал в стратосферу, моя бабушка Тася чуть не убила бабушку Тамару Василенко.
Потому что Шурик Семенко, Славка Тимощук и я – вся наша троица индейцев, – а у меня был самый целкий лук, а у Шурика самый тугой, а у Славика самый косой, мы все втроем чуть не отправились в Страну Вечной Охоты, наевшись зеленого горошка, который дед Зиновий перед тем тщательно опрыскал хлорофосом.
И Жорик Василенко это прекрасно знал. И накормил нас тем горошком, чтобы мы его не обыгрывали в подводную войну.
И пережившая оккупацию бабушка Тася так душила Тамарку Василенко, что взрослые оторвать не могли, и лишь прибежавшие соседи спасли Тамарку, которая когда-то перед немцами голая плясала в оккупацию, и партизан она сдавала, но доказать потом не смогли, но за это все равно ее после войны к лестнице привязали, да в петле за подмышки подняли, да оземь брякнули так, что ступни раздробили, – оттуда у нее были такие странно толстые лодыжки, и что книжки у деда Зиновия были ворованные из интерната – на них печать была государственная. Только вот после расформирования интерната всем было все равно, да и Сталина уже не было, да и жизнь совсем другая настала.