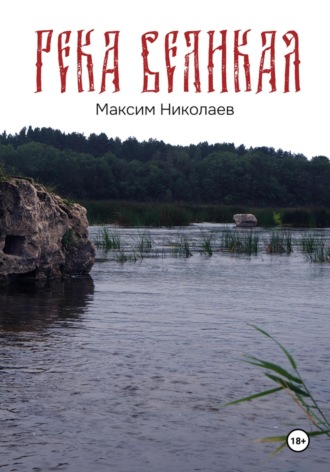
Полная версия
Река Великая
– Мальчик? Девочка?
– Мертвенький родился, – ответила староверка без выражения.
– Ой, Господи!
Хозяйка ларька попыталась изобразить сочувствие на лице, но Любава даже не поглядела на нее и достала кошелек из корзины.
– А батюшка Власий, вы не знаете, в храме у себя?
– Не видала. А зачем тебе? – Надежда неторопливо отсчитывала сдачу с крупной купюры.
– Меда для Никитки наш Невзор велел ему передать.
– Так ступай сразу к Ерофеевне, тебе до церкви отсюда через всю деревню идти.
– Я к нему лучше.
Прилуцкая отдала покупки, дождалась, пока староверка отойдет подальше, и обратилась к Алене вполголоса:
– Пусть скажет спасибо, что мертвые, а не уродцы какие-нибудь. Не зря Церковь между двоюродными запрещает браки.
– Да они там в Ящерах все – друг другу родня.
– Так, глядишь, и выродятся.
– И дай ты Бог, – прошипела Алена и снова обернулась к дороге.
Девушка с корзиной уже поравнялась с домишкой цвета яичного желтка, где жили старики Дубенки. За их забором она свернула в сторону реки.
В этой части Малых Удов Любаве бывать прежде не приходилась. Избы по обе стороны улочки стояли с заколоченными дверьми и окнами; в теплицах, что еще не развалились, были побиты стекла. Ни людей, ни птичек, которые всю дорогу сопровождали ее радостным пением, здесь было не слыхать. Только с Великой доносился тревожный шум ледокола.
Железный крест на куполе храма святого Дионисия возвышался над крышами деревенских домов и служил Любаве указательным знаком на протяжении всего пути от ларька. Второй крест она увидела за низкой церковной оградкой. Этот был вырезан из цельной плиты известняка и стоял на небольшом продолговатом холмике, покрытом прошлогодней травой. Имя легендарного основателя прихода, местночтимого преподобного Тарасия, было выбито на сером камне славянской вязью.
На церковном дворе кое-где еще лежал снег. Любава остановилась перед входом в храм и задумалась, нужно ли стучать, или нет. В конце концов решила, что не нужно. Приоткрыла дверь и юркнула внутрь.
В дальней части церкви, перед иконостасом, священник беседовал с прихожанином, в котором она узнала местного пьяницу Андрея Евстафьева.
– Заходи, красавица, – ласково улыбнулся ей Власий.
Любава попятилась обратно в притвор:
– Я попоздней лучше.
– Да я уже ухожу, – подбодрил ее Андрей. На пути к двери он тоже улыбнулся ей – так, как всегда это делал, широко и не разжимая губ.
Оказавшись впервые в православном храме, Любава при каждом шаге озиралась по сторонам с робким восхищением. По пути она остановилась перед фанерным реликварием со стеклом спереди, чтобы рассмотреть его содержимое. На стекло, как в музее, где она никогда не бывала, была приклеена пожелтевшая табличка:
ВАЛЕНКИ ПРЕП. БЛАЖ. СВ. ТАРАСИЯ, ВТОР. ПОЛ. XVI В.
Пара упомянутой обуви внутри ничем, кроме ветхости, не отличалась от той, что зимой носили в ее селении все от мала до велика, не считая модницы Умилы. В медном подсвечнике перед коробом горели несколько свечей.
Настоятель дождался, пока она подойдет:
– Мужайся, голуба. Сама жива осталась – и то спасибо Господи.
– Невзору еще спасибо: неделю травами отпаивал. Коль не он, померла бы, – с этими словами она достала со дна корзинки горшочек с ручной росписью из косых крестов и ромбов с точкой посередине. – Мед от него принесла.
Они стояли у входа в алтарь. Внутрь вели три двери: две боковые – без росписи, а на створках большой срединной были изображены два крылатых мужа, похожие на того юношу, что явился к ней в давешнем сонном видении. Один из мужей держал кубок с вином, а другой – старинную книгу.
– Мед? Мне, что ли? – Власий с удивлением поглядел на нее.
– Передать для Никитки велел, чтоб не хворал.
– Благодарствую, милая. Посуду верну, – священник бережно принял горшок из ее рук, и теперь держал его перед собой за две ручки и не знал куда пристроить.
Любава рассматривала лики святых на иконостасе и, кажется, не думала уходить.
– Еще чего-то хотела с меня? – спросил священник.
– Хотела, – ответила она, обернувшись.
– Чего, любезная?
Любава наклонилась к уху настоятеля церкви св. Дионисия и прошептала своим девичьим шепотом:
– Просьба у меня к вам есть, святый отче. Тайная.
Хвостище длинный: сразу понятно, что не кошка, а кот, и масть чудна́я: белый в крупных рыжих пятнах. Лекарь Невзор Асич видал у соседей-христиан коров такой расцветки, но котов – ни разу. Лапы с животом покрыты пушистой шерстью, но спина, голова и хвост почти голые, и только кое-где вверх завиваются редкие прозрачные волоски. На хвосте вдобавок кисточка – жиденькая, как усы их старейшины Святовита.
– Это откуда такой?
– Мимо пристани иду – слышу, мяучит кто-то. Покыскысала – прибежал. За мной так и шел до забора шаг в шаг, за всю дорогу не смолк. Туда шла – не видела.
Кот с жадностью накинулся на сырую неочищенную плотву, которую вынесла ему Любава к забору. Вместе с челюстями двигались огромные рыжие уши на плешивой голове.
Невзор внаклонку разглядывал необычного зверя:
– Шкура гармошкой у него, значит, долго голодал. Хоть с виду и не сказать, что тощий.
После кошачьей трапезы на желтой прошлогодней траве у изгороди осталась россыпь кровавой чешуи. Только теперь, когда наелся, плешивец заметил Невзора, боднулся лбом в его резиновый сапог и ласково, по-домашнему замурлыкал.
– Околеет, гунявый, на улице, – с горечью вздохнул лекарь. – Ночью – холод.
Лед пошел на Великой, и для Невзора это означало, что пришло время собирать белену, пока не успела зацвесть, и заодно молодые ростки горечавки. Он был одет для леса: в старые армейские штаны и брезентовую куртку с капюшоном, на ногах – сапоги до колен. Котомка под травы висела на плече.
– С шерстью у него что такое? Лишай?
– Запущенный, – подтвердил лекарь. – Ты не видала, Ерофеевна кур еще держит?
– Не была у нее. Тебе яйца нужны? У нас есть в холодильнике. Могу у Святовита спросить.
– Не яйца – помет. Для мази.
– От лишая, что ли?
– От него самого. Берешь в равных долях птичий помет, мед и толченую хвою от молодой сосны. Мешаешь всё это в кашицу и на кожу мажешь.
– И что, помогает этакая гадость? – удивилась Любава.
– Еще в древности было сказано: лекарство должно быть горьким. А коли вдобавок вонючее оно, то еще лучше, – с важным видом объяснил лекарь.
– У Парамоновых куры есть.
– Ну, зайду, – кивнул Невзор. – А отец Власий к меду ничего не просил больше? Может, еще что от простуды?
– Ничего не просил, кроме меду. – Любава внезапно потупила взор с тем обреченно-мученическим выражением, которое он не в первый раз замечал у нее за последние дни. Роды у ней были уже четвертые по счету, но в прошлые разы обходилось легко, а тут она едва не истекла кровью, с постели не вставала неделю, и до сих пор, видно, не оправилась.
– По ночам боли не мучают? Может, еще сбору снотворного насыпать?
– Не мучают. Крепко сплю, – всё так же не глядя на него, отвечала Любава.
Невзор Асич подхватил с асфальта кота и пошагал к своей калитке. Сегодня ему было уже не до трав.
– Может, хозяйский он?
Лекарь с мурчащей ношей в руках обернулся на полпути:
– Пройдусь завтра до Малых Удов да до Бабаева.
– А ежели он с того берега до ледохода пришел?
– Виданка объявления в интернете поглядит.
– Третий уже у тебя будет?
– Да ты что! Куда мне? Вылечу да пристрою! – возмутился Невзор, и потом нехотя добавил: – С Барсучком вместе – четвертый.
Кот, которого он уже назвал про себя Гармошкой, ехал на руках и не пытался вырваться, даже когда услышал собачий лай из отворенной калитки, и лишь крепче вцепился когтями в брезентовую куртку. Только сейчас Невзор задумался о том, где поместит больного. В амбаре устроить – одно, что на улице, а к своим домашним подсади такого лишайника – и через неделю будешь мазать мазью всех четверых. Оставались сени. Там не хватало кошачьего лотка, и Невзор решил тут же, что сам сколотит его из досок: всяко быстрей, чем просить Святовита или Богуслава ехать за готовым до города.
Старший брат Людмил надсмехался над бабской сердобольностью младшего, но Невзор ничего не мог с собой поделать. Когда подросла, дочка Видана стала такой же. Последнего, черно-белого Барсучка, она приволокла с мороза прошлой зимой. Вид у кота был совсем не тот, что у сегодняшнего найденыша. Он даже за лечение сначала браться не стал: уложил его на печь и мысленно утешал себя тем, что бедолага хотя бы помрет в тепле.
Однако наутро будущий Барсучок потребовал еды и через дней десять совсем оправился. На ноги его поставили общеукрепляющие клизмы из пижмы и мать-и-мачехи, хоть расцарапанная дочь и бранилась, что толку с них никакого. Вместе с ней и с котом в котомке они обошли деревни по обе стороны реки, но бродягу ни в одной из них не признали. Так бывало и прежде: домашних зверей, которых находил Невзор, никто не терял – не иначе, как с неба, все они сыпались на его двор.
В волшебном лукошке не было двух одинаковых яиц. Первое – голубое, второе – зеленое в крапинку, третье – настоящее золотое, и сверкало на солнце будто купол собора в Пскове, куда в прошлом году они ездили с мамой, Дашкой, бабушкой и дядей Андреем, а четвертое…
– Мам! Гляди!
Мать с преувеличенным интересом покрутила в руках яйцо в разноцветных матовых разводах.
– Это у кого такие?
– У Максим Пахомыча!
Новый год Матвей, конечно, любил больше Пасхи, но крашеные яйца были такие же интересные, как елочные игрушки, и каждый раз новые. Обидно только, что Никитос опять разболелся. Валентина Ерофеевна, его бабушка, сказала, что у него температура 40. А если 42, то умрешь. От этой мысли Матвею стало зябко-зябко, хоть апрельский ветерок был теплый, как парное молоко, а солнце в небе грело почти по-летнему. На церковном дворе распускалась верба, люди были одеты легко и пестро, и никто, кроме Матвея, не замечал полоску снега, что вытянулась тонкой змеей под скатом деревянной крыши.
В бытность на всенощной бывали и Козакова, и Ларина, и Комарова, и Хомутова. Нынче из них одна только Катерина Ивановна Хомутова осталась на этом свете, и всем говорит, что ноги не держат, а может быть, не хочет одна ходить. Уже давно отец Власий служил Пасхальную службу в одиночестве без диакона и прихожан, но зато утром в храм вся деревня тянулась освящать яйца, куличи и творожные пасхи. Не сказать, чтобы рано приходили. Да и сам Власий тоже отсыпался после утомительной ночной службы, и прежде десяти часов в храм не являлся.
Случалось, чтоб подождать его приходилось, но такого, чтоб спал он до одиннадцати, на памяти людей не было. Разузнать, что случилось с батюшкой, отправили Надьку Прилуцкую. Остальные ждали у закрытых дверей храма. Среди собравшихся за компанию вертелся толстый полосатый кот стариков Дубенко.
Со стороны поглядывая на собравшихся и чему-то про себя хмурясь, на корточках перед храмом дымил сигаретой Андрей Евстафьев. Докурив, он затушил окурок о траву и мусолил его в пальцах: стеснялся мусорить у церкви при честном народе. Только когда в калитке показалась Надежда Прилуцкая, и все взоры обратились к ней, Андрей щелчком отправил окурок за могильный холмик со старинным крестом.
– Ну что?
– Спит?
– Пьяный?
– Минут десять трясла, пока глаза разлепил, – начала рассказывать Прилуцкая. – Бормочет: «Что стряслось?» «Просыпайтесь, – говорю ему, – батюшка. Пасха! Христос, Господь наш, из мертвых восстал!» «Ну и слава Богу, – отвечает, – а я еще полежу», – и на другой бок повернулся. Ерофеевна ко мне вышла, сказала, что на всенощную он не выходил. Ни разу такого, мол, за десять лет не было. Случалось, что и день, и два пьет, а с Андрюхой, так и подольше, а тут уж неделя к концу пошла. Третьего дня самогон давать ему перестала, а тому уже и не надо. Только водички попросит, да глядь: опять такой же, будто как Иисус воду в вино претворяет.
– Очень уж он эту историю любит!
– Это да.
– Бог с ним, с пьяницей! Никитка как?
– Жар спал, Ерофеевна говорит. Спит.
– Ну слава Богу. Самое главное.
Во главе с котом прихожане, кто с лукошками, кто с сумками, кто только с праздничными куличами в руках, потянулись к церковной калитке.
– Ну Власий-то – еще не пьяница, если с Фалалеем сравнивать, – на ходу заметила одна из старушек.
Вторая подхватила:
– Козакова, царство небесное, мне жаловалась, что на исповеди ни скажешь, тот потом пьяный по всей деревне разнесет, еще обсудит. Я-то уж и не ходила к Фалалею.
– А как Лариным сарай спалил…
– Да бросьте вы про покойника. Не дай Бог такого никому, – перебила их пожилая супруга Максим Пахомыча. Не сбавляя шага, она перекрестилась и с осуждающим видом почему-то обернулась на Андрея Евстафьева.
– Да что я-то?!
– А кто, Андрюш? Ладно бы просто замерз, как Сергей, царство небесное, а то еще сколько ногами вы пинали его, горемычного!
– Это Генка вон.
– Что Генка? – тут же откликнулся сзади его деверь.
– Да ты всё: коряга, коряга!
Когда случилась трагедия, Андрей еще женат не был, только недавно вернулся из армии. Отец Фалалей исчез перед Новым годом, но никто в деревне этому не удивился: на Рождественский пост их прежний священник, как и Власий нынче, обычно уезжал в свой Дионисийский монастырь. В те дни шел снег. Матерясь вслух и про себя, все деревенские рыбаки, включая Андрея с Геннадием, несколько дней подряд спотыкались о погребенный в сугробе предмет на пути к причалу, пока в сочельник кто-то не догадался разгрести снег.
После смерти Фалалея на дверях храма повесили замок. Боялись, что приход закроют. Но летом из той же Дионисийской обители приехал тогда еще молодой отец Власий, и духовная жизнь в Малых Удах вернулась в прежнее русло.
Матвей выпутал из мелкой ячеи двух плотвичек: каждая – чуть побольше блесны. Из осторожно сжатых детских кулачков торчали наружу рыбьи головы.
– Куда такая мелочь? – проворчал Геннадий, его отец.
– Нашему Окушку если?..
– Не ест он плотву.
Матвей затормозил на полпути к пустому ведру и пошагал обратно в реке.
– Може, навозу взять на приваду? – предложил он.
– Брали уже.
– Коровий брали, а куриный – нет.
Выбросив рыбешек в воду, Матвей забыл обтереть руки от слизи, сразу сунул их в карманы разгрузки, и в такой позе глядит на реку в своей детской задумчивости. Вода в Великой волнуется по-весеннему.
Сзади слышатся шаги, а потом и голос Бориса Прилуцкого:
– Как уловы, командир?
– По-разному, – со значением отвечает Матвей, не вынимая рук из карманов.
Ставить сеть под водой через лунки, как это делают соседи-староверы, Геннадий не умел. В марте он достал из сарая старинную отцовскую сеть, загодя подлатал и стал ждать ледохода. Три дня они вдвоем с сыном ходили к берегу глядеть на плывущие льдины, а на четвертый взяли сеть и пошли к своей заводке.
В первый раз Речной Дед проявил милость: достали подлещика, пять окуней, столько же ершей и почти килограмм плотвы. На следующее утро подлещика уже не было, а потом и окуни с ершами перестали попадаться. Не то, что себе на уху, а кота нечем угостить.
Прилуцкий подошел ближе к Геннадию и спросил:
– Чем прикармливаешь?
– Червями. Тошнотиком. Черствым хлебом, ясно дело.
– А привада какая? Подсолнечное масло пробовал?
– Целую бутылку влил, – рыбак понизил голос: масло было взято им из кухонных запасов без спросу у матери и супруги, так же как и флакончик духов, которые Мария второй день искала и не могла найти.
– Парфюм? – угадал его мысли майор.
Геннадий молча кивнул и скосил глаза на Матвея.
– Вчера даже керосину плеснул, в сарае отцовский остался. Он только им и приваживал. Може, выветрился, конечно.
– Керосин – это не дело. Всю экологию загубишь, – сумничал Прилуцкий.
– Я же капельку. Рыба – она что попахучей любит.
– Мне один поп знакомый говорил, что ладан использует. Привады, мол, лучше нет. Главное, истереть помельче.
– Да где я его возьму? Покупать, что ли, специально?
– У Власия попроси. Скажи, что для лампадки.
– Для какой лампадки? – не понял Геннадий.
– Ну, мол, купили лампадку, чтобы молитвы дома читать. Это нынче модно.
– С запою он вышел, не видал?
– Ну, одной ногой, – майор неприятно ухмыльнулся.
Геннадий поглядел на сына. С выступа на берегу ребенок наклонился над водой и что-то высматривал в черной паводковой мути. Из кармана детской разгрузки торчала шапка, которую Матвей стянул с головы еще по пути на рыбалку, как только изба, откуда их могла видеть мать, осталась за поворотом. Ветер ерошил рыжие волосы.
– А что за сеть взяться решил?
– Да так.
– Чего?
– Вон, думаю, староверы в Ящерах по сколько тягают. Вдруг повезет, так Андрюха на продажу в город свезет. Всё не лишнее.
– Деньги, никак, на что понадобились?
– Дашку в университет собираем.
– В университет? Нелегко это. – Майор потянулся к фляжке на поясе. Когда он сделал глоток, лицо у него почему-то вдруг стало такое, как будто вместо четырехзвездочного коньяка ему кто-то влил тайком во флягу местного самогону.
– Ну ты своих двоих как-то выучил. Оценки хорошие у нее, по математике…
– Всё спросить забываю, – перебил Прилуцкий. – Вы с Машкой теленка почем сдали?
– Тише ты, – Геннадий прижал палец к губам.
– А что, не сказали ему?
– Сказали, что в стадо продали. День ревел. До сих пор спрашивает, когда навестить поедем.
– Это не дело: мужика растишь. Я своим двоим с детства говорил…
Сбоку раздался шлепок тела о воду. Отец обернулся и бросился к кочке, на которой только что стоял сын, упал на колени, поймал рукой петлю на спине его жилетки и привычным движением выволок ребенка на берег.
Матюха не кашлял, хлебнуть воды не успел. Майор присел на корточки вместе с Геннадием и глядел на его сына. Мокрые, волосы у Матвея стали еще рыжее, с жилетки и со штанов стекала вода.
– Ну что, крупный бобер?
Глупая шутка Прилуцкого стала последней каплей. Целых несколько секунд Матвей пытался держать лицо, но теперь зашелся громким душераздирающим плачем.
– Кш! Кш! Кш!
Над кружкой с брагой с противным писком вертелась белая моль. Сколько ни пытался отец Власий отогнать насекомое, оно уворачивалось и всё плясало в воздухе на том же месте.
– Кш! Кш! Да чтоб тебя!
Очередным взмахом руки он отправил Божью тварь прямиком в кружку, где она, барахтаясь, запищала еще громче. Власий нашел на столе ложку, обратным концом выловил насекомое из жидкости, и тогда только понял, что совершил ошибку, принявши за мотылька крохотного ангелочка.
Благой вестник на столе отплевывался и тряс мокрыми крылышками.
– Ну и вонища! На навозе, что ли, настаивал?! – вместо приветствия пронзительно пропищал малыш, так что священник, который склонился к нему, чтоб лучше слышать, отпрянул с испугу.
– Брага как брага: сахар, дрожжи, – чуть смутившись, ответил Власий. – Вы там у себя в раю совсем, что ли, вина не пьете?
– Вино пьем, а не это пойло злосмрадное! И по рюмочке только, на двунадесятые праздники, – подозрительно быстро поправился он.
– Всё кагор, небось?
– И кагор, и порто, и мадеру. Сам я, правда, больше малагу почитаю.
– Господи помилуй, я про такие и не слыхал! Небось, ваше небесное что-то?
– Не слыхал, потому что в магазине на ценники дороже ста рублей не смотришь!
Маленький гость спрыгнул с журнального столика на пол и на глазах стал расти в размере. Когда он достиг человеческого роста, священник смог лучше рассмотреть его. На вид ангелок был не то, чтобы стар, но и не мальчик. Полтинник с небольшим Власий дал бы ему по земным меркам. Жгуче-черные глаза блестели на его некогда красивом, а теперь только лишь благородном лице, как пара итальянских олив, которыми Власию случалось закусывать в прежней своей женатой жизни на праздниках у тестя с тещей, перед каждой выпивая, к их молчаливому неодобрению, целою с горочкой рюмку водки.
– Не для того явился я, чтоб напитки хмельные с тобой обсуждать!
– А для чего?
– Весть принес, – чрезмерно важным тоном объявил ангел. – Передать было велено, что, коли пьянствовать не прекратишь, доведет тебя твой грех до позора, а приход твой – до гибели лютой. Вместе с Малыми Удами и другие деревеньки бесчисленные с лица земли сгинут, и сам град Псков, древний и славный.
– А затем и твердь земная на две половины ако яичная скорлупа расколется, – с надменной усмешкой подхватил Власий. Бедность свою он считал богоугодной, втайне гордился ею и связывал с чистотой души, но слова про недорогие ценники в магазине всё же немного задели его, тем более что кагор, если брать божеский, уже давно стоил под двести.
– Коль ты не внемлешь, Всевышний мне велел доставить тебя к Нему для личной ауди… диенции, – небожитель старался выговаривать слова четко, но язык у него заплетался: видно, во время купания он успел как следует хлебнуть браги.
– Ну полетели, послушаем. Мне и самому есть, что рассказать Ему. Дай допью только, – священник потянулся к кружке, из которой перед этим выловил своего незваного гостя, но не успел взять ее, как ангел крепко схватил его за локоть и потащил к окну. Распахнув свободной рукой фрамугу, он больно ударил своего пленника шпингалетом по лбу.
На дворе ангел на куриный манер отряхнул мокрые крылья, несколько раз взмахнул ими, и вместе с Власием оторвался от земли. Они стали медленно набирать высоту над огородом Ерофеевны. Старую осину на краю картофельной посадки пассажир увидел первым, успел вскрикнуть, но было поздно.
От падения святого отца спас толстый сук, за который он, Божьей милостью, зацепился своею рясой не по размеру, и так остался висеть, свесив ноги над пропастью. Возчик его запутался крыльями в глубине кроны, возился там, сотрясая ветви, и пытался выбраться.
– Как ты, друже? – с искренним сочувствием спросил Власий.
Ангел ответил матерно.
Священник решил про себя, что небесная братия не оставит в беде своего, и стал раздумывать, как самому выбраться из положения. Покрутив головой, над собой Власий заметил ветку, с виду попрочней остальных, и протянул к ней руки. Это было ошибкой. От неосторожного движения тело выскользнуло из широкого одеяния. В одном исподнем он полетел вниз, зажмурив глаза от ужаса.
Удар сотряс в его теле все косточки до последней. Он осторожно пошарил рукой вокруг и подивился тому, что нащупал пальцами не траву, а доски пола. Кряхтя, священник перевернулся на спину и открыл глаза. Над головой в лучах апрельского солнца из окна кружились пылинки, поднятые его падением.
Ворчливый голос хозяйки раздался из-за стены:
– Опять в горшке застрял, отче?!
– С дивана сверзился, Валентина Ерофеевна!
Поднявшись с пола и дождавшись, пока перестанет кружиться голова, Власий взял из красного угла икону местночтимого святого Тарасия, перекрестился на лик святого, и только после этого отодвинул заднюю часть тяжелого оклада и достал наружу прозрачный пузырек. Уже сняв крышку, он замер и с мучительным выражением уставился в окно.
На дворе вокруг сарая с шиферной крышей, которую он только что наблюдал с высоты полета в своем сонном видении, носились наперегонки Парамоновский Матвей вместе с Никиткой. То ли от Невзорова меда, то ли от Власьевых молитв мальчишка совершенно выздоровел и даже, как показалось ему, чуть округлился в щеках. В игре вместе с ними участвовал лохматый хозяйкин пес по кличке Валенок.
Увидавши в происходящем на дворе однозначно положительный знак, Власий сделал из пузырька глоток, потом еще один, и лишь затем закупорил сосудец и вернул его в богоугодный тайничок. Вернувшись на диван, он посидел немного, пока совсем не ушла головная боль.
Когда святой отец вышел в сени, с кухни появилась хозяйка.
– Час который, Валентина Ерофеевна?
– Одиннадцать утра, – ответила она и сразу угадала следующий вопрос. – Четверг.
Не с первой попытки Власий подцепил ногой галошу и сунул в нее босую ногу.
– Куда собрался, батюшка?
– В храм пойду, приберусь.
– Проспался бы сперва.
– Ну как же? Чистый четверг.
Хозяйка одарила квартиранта в семейных трусах и одной галоше укоризненным взглядом:
– В то воскресенье Пасха была.
– Помилуй Боже! – Власий осенил себя крестным знамением. – А всенощная?
– Андрюха за тебя отслужил. Сам же псалтырь ему дал. Забыл, что ли?
– Андрюха?! Нерукоположенный?! Грех-то какой! – Власий уставился на нее с ужасом, но тут заметил смех в глазах и сердито взмахнул рукой.
Вдвоем они обернулись на скрип входной двери. В сени вошел Геннадий Парамонов и поздоровался, нисколько не удивленный полуголым видом святого отца.
– Ты за Матюхой? – спросила Ерофеевна. – Во дворе он, с Никиткой бегают.



