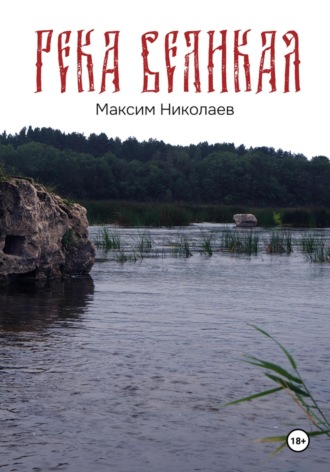
Полная версия
Река Великая
– И на льду, – подсказала Мария.
– Чтоб согреться.
– Чаю возьми, чтобы греться. Термос, давай, тебе Генкин старый подарю?
– Есть у меня, спасибо, – сказал Андрей и отвернулся, чтобы больше не дышать на сестру.
– Всю жизнь здесь ловлю, а на зимовальную яму наткнулся, только когда эхолот в руки взял. Неделю вокруг лунки плясал. И мотыля, и тошнотика пробовал. За горохом даже к Машке сходил. Без толку. Тогда только драч взял.
– И сколько ты их натаскал? – с укором спросил Власий.
– Троих лещей ровно. Из них одного Борису снес за то, что рыбогляд одолжил. Вот крест! – Андрей Евстафьев размашисто перекрестился.
Они вдвоем сидели на старом неудобном диване в комнате священника, которую тот снимал за превеликую благодарность в избе у самогонщицы Валентины Ерофеевны. Рыбак взял бутыль с журнального столика, налил янтарного напитка сначала Власию, потом себе, оторвал от буханки ломоть и наложил сверху сала внахлест. Святой отец потянул с тарелки соленый огурец и вяло чокнулся с собутыльником:
– Троих выловил, а поранил своей косой скольких?! То перемет растянешь, то острогой щук бьешь. По-христиански это разве?
– Вы из-за драча этого, что ли, зайти просили?
– А ты как думаешь сам?
О своей вылазке в Ящеры он болтанул по пьянке только Валерке Христовичу, тот, видать, своей Ирке передал, а она уже по всей деревне разнесла. Андрей вздохнул, помолчал еще немного и начал рассказ.
У соседей он побывал неделю назад, в новолуние, Власия тогда в деревне не было: отдыхал от мирских дел в своем Дионисийском монастыре в лесу. Андрей вышел из дому, когда в Малых Удах погасло последнее окно. Чтобы не встретить по дороге белую «Газель», выбрал путь по лесу напрямик. Шел с фонариком, но всё равно чуть не переломал ноги о валежник под снегом. Времени был двенадцатый час. Фонари в Ящерах не горели, кроме единственного за частоколом на пристани.
Если внутрь не заберется, то хотя бы сверху с забора рассмотрит всё хорошенько. Так он думал, но не успел подойти к пристани, как услышал голоса. Двое стариков шагали по большаку с дальнего проулка. Андрей затаился под забором.
За этими стариками потянулись остальные. Ворота пристани отворились и затворились опять. Из-за частокола слышалась нехорошая возня. Что-то говорили, но слов было не разобрать. Со двора мужики перешли в большую домину на берегу.
Он прижал ухо к бревнам и приготовился слушать, но надолго его не хватило. Когда из-за стены заиграла музыка и раздался зловещий мужской хор, его ни с того ни с сего обуял такой ужас, что ноги сами понесли по берегу прочь. В избе у себя он выпил столько самогона, что не помнил, как засыпал.
– Говорили вы, батюшка, что в этой домине они хранят сети и снасть, а молятся у себя в жилищах.
– Может, в обычные дни у себя, а по каким-то событиям и вместе собираются. Думаешь, много я об их вере знаю? В своей-то дай Бог разобраться!
– И на христианскую молитву это похоже не было. За стеной вроде гусли играли, и слова такие… не знаю, не молитва, а скорее, как песня какая-то старинная очень или как заклинание. Еще мимо реки, когда обратно бежал, я вонь почуял.
– От испуга может случиться, – кивает отец Власий.
– Да ничто не случилось! Такая вонь была. То ли как сера жженая, то ли рыба тухлая или водоросли гнилые. Козаков рассказывал, когда дед его ящерицу на островке нашел, там тоже жуткая вонь стояла. Говорят же, что они этим ящерицам людей живьем скармливают.
– А я говорил тебе, чтоб не лез к соседям?!
Андрей молча глядит на тарелку, где осталось еще несколько нарубленных ножом брусков толстого домашнего шпика.
– Вот что, Андрюш, я решил. Ни единого греха на исповеди тебе больше не отпущу. Гори в аду!
– Да есть ли тот ад, батюшка?
– А вот и узнаешь! – Приходской священник делает злорадное лицо.
Андрей берет со стола бутыль и наливает себе до краев. Власий обиженно прикрывает свою рюмку ладонью.
– Ничего, что закурю?
– Кури, Бог с тобой.
Андрей поискал глазами и не нашел жестяную крышку от банки с огурцами, которую видел только что и собрался использовать вместо пепельницы.
– Видит Бог, тяжек крест службы приходской. Душа к братии в обитель просится.
– Только же на той неделе вернулись.
– И напрасно, как Бог свят. Сам-то не хочешь к нам?
– Куда к вам? В монастырь, что ли? – не понял Андрей.
– В монастырь, – подтвердил Власий.
– У меня жена есть.
– И что, в деревню к тебе она воротиться согласна?
– Жить со мной хочет, – ответил Андрей.
– Сегодня хочет, а завтра опять шлея под хвост попадет. Сам ты сколько раз жаловался: то ей не так, се не эдак. Недаром сказано: баба как горшок, что ни влей – всё кипит.
– Не жалуете вы, батюшка, дамский пол, – усмехнулся Андрей.
– Упаси меня Господь! – Власий отрывисто перекрестился. – Истинно тебе говорю, сама по себе баба, отдельно взятая, ничуть мужика не хуже. Но только, ежель прилепится к тебе, жди горестей великих.
Андрей чокнулся со святым отцом, выпил и, вместо того чтобы закусить, сделал глубокую затяжку. Крышки он так и не нашел и стряхнул пепел в банку с рассолом, откуда перед этим отец Власий выловил последний огурец.
III. Март
Во времена рыбхоза промышленный холодильник был не нужен. Выловленную рыбу каждый день возили в Псков на большой лодке с мотором, которую водил старый Святослав Родич, дед Святовита. У них же, Родичей, в подполе держали и пьяниц, а старинный ледник у реки общинники использовали под свои нужды.
Когда Союз стал разваливаться, о продажах пришлось думать самим. Разжились грузовичком, построили морозилку – плоское кирпичное здание с дверью в несколько слоев стали. Вертелись как могли. Что-то возили в Ленинград, который потом стал Санкт-Петербургом, что-то – в Прибалтику, немногое получалось сбывать псковскому общепиту. Нынче прав на лодку в селении ни у кого не было, да и саму лодку продали, разобрали старый причал, и от пристани осталось одно название.
Михалап Родич, сын Святослава и отец нынешнего старейшины Святовита, не хотел держать у себя в избе пленников. Старики на сходе согласились с тем, что это опасно, и нужно оборудовать отдельное помещение. В каждом доме тогда уже стоял холодильник, и старый общинный ледник переделали в темницу. Спускались туда теперь через морозильную камеру, люк – в полу.
Днем компрессора было почти не слыхать, но ночью гул стоял на всю пристань. Из трубы под крышей капал конденсат, от которого снизу вверх росла толстая сосулька.
Стоян Славич прошелся вдоль кирпичной стены и достал из тулупа часы на цепочке. Был третий час ночи. Он собрался вернуться в сторожку и еще подремать, но тут услышал машину и пошел отворять ворота.
На пристань въехала белая «Газель». Через шум мотора он различил глухие удары по кузову изнутри. Богуслав заглушил двигатель и выбрался из кабины. Грохот стал громче.
– Буянит? – спросил Стоян.
– Проснулся, как Полены проехали.
Стражник обреченно вздохнул:
– Пойду будить.
Улица шла под уклоном вниз, а фонари, как водится, погасили еще с вечера. По пути к избе старейшины он так лихо поскользнулся, что только чудом не переломал старые кости. Когда постучался в калитку, Кощей поднял лай и разбудил Невзоровых собак. У старших Асичей, через двор, загорелось окно. Нескоро со своего крыльца, зевая, спустился старейшина Святовит Родич.
Когда вдвоем они вернулись к пристани, он велел старому Стояну запереть ворота. Сам пошел в амбар и вернулся с оружием. Себе он оставил старинный кистень, а сыну Богуславу вручил шест в сажень длиной с рогаткой на конце, острия которой были заточены и обожжены для крепости.
Из кузова больше не доносилось ни звука. Пьяница то ли заснул, то ли почуял недоброе и затаился.
– Где подобрал? – спросил старший Родич у младшего.
– Перед мостом в Шабанах.
– В деревне, что ли, останавливался?
– Говорю же, перед самым мостом. За́ деревней.
– За? Там последний дом, считай, на реке стоит, – заворчал старейшина на сына. – Я в твоем возрасте за ночь пол-области объезжу, бывало. Домой воротишься – у соседей в Малых Удах уже петухи поют. А тебе лишь бы…
Из кузова послышались тяжелые шаги. Святовит приложил ухо к железу.
– Говорил тебе переростков не возить?!
– Думаешь, бать, они по району на выбор тебе разложены, как овощи в магазине?! – не сдержался сын. – Зато теперь до июня запас есть!
– До какого июня! Тот, что с Пиявина, сколько ни съест, всё обратно выходит, мне и сразу-то не понравилось, что он желтый такой. Второй тоже вялый: боюсь, месяца не протянет.
– В Пиявине, слыхал я, нынче половина мужиков такие: спиртом каким-то ядовитым потравились. Соседи за глаза одуванчиками зовут, – примиряющим тоном вставил старый Славич.
Старик стоял перед дверью фургона. Глава общины жестом указал ему отойти и дернул вниз шпингалет.
– Выходи, винопийца! – свой приказ старейшина сопроводил ударом рукояткой кистеня по железу кузова.
Подождав немного, молодой Богуслав свободной рукой потянулся к ручке.
– Куда?! Стоян, холодильник включи!
Старик послушно полез в кабину. К гулу морозильной камеры на дворе прибавился шум рефрижератора. Сын с рогаткой встал с правой стороны от двери, напротив отца.
Без предупреждения дверь распахнулась с железным грохотом. Великан вылетел наружу как ядро из пушки. Святовит тут же попытался прибить его кистенем, но промазал: шипастая булава просвистела в воздухе в полувершке от уха жертвы. Во второй раз замахнуться у него шанса не было. Удар пудовым кулаком пришелся в лицо. Старейшина рухнул навзничь на слежавшийся снег.
Младший Родич успел распороть штырем куртку врага, но теперь не понимает, как оказался на земле под тушей весом раза в полтора больше его собственного. Пальцы силача стиснули его шею: ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Как рыба на льду он беззвучно разевает рот и тянет руку, но не может дотянуться до древка рогатки на снегу. Старый Стоян суетится по двору. Заметив примерзший камень, он пытается оторвать его земли. Так продолжается несколько бесконечных мгновений.
Как отец ударил пьяницу, Богуслав не видел, но почувствовал толчок, который передался к его телу от тела сверху. Сжимавшие горло пальцы обмякли.
У старшего Родича из разбитого носа сочилась юшка. Младший с трудом выбрался из-под бесчувственного тела пленника, поднялся и с размаху пнул его ногой в голову.
– С ума сошел?!
Богуслав во второй раз занес ногу в тяжелом ботинке, но не успел ударить. Святовит двинул ему под ребра с такой силой, что сын едва устоял на утоптанном скользком снегу. Лицо у младшего Родича стало такое, что Стояну Славичу подумалось: сейчас сын бросится на отца с кулаками.
– Ну что ты, Божик, не со зла он. Пьяницы тоже жить хотят, – забормотал старик.
Богуслав ничего не ответил и с еще не утихшей ненавистью глядел на родителя. Старый Славич только сейчас опомнился и выбросил камень, который ему удалось все-таки отковырять от земли. Оглушенный исполин хрипел на снегу, распространяя хмельную вонь. По низкому, как у обезьяны, лбу стекала черная в свете фонаря струйка крови.
Втроем тело перевернули на живот. Под головой пьяницы на белом снегу осталось кровавое пятно. Старейшина достал из кармана шубы веревку и разрезал ее рыбацким ножом. Вдвоем с сыном они связали сначала кисти, а потом лодыжки пленнику, поднатужились и подняли тело в воздух. Стоян Славич побежал вперед отпирать холодильную камеру.
– Шкарин Алексей Викторович в ночь с 8-го на 9-е марта покупал у вас спиртное?
– Какое спиртное?
– Обыкновенное, – холодно отозвался майор Копьев.
– Самогон, что ли, не пойму?
Молоденькая палкинская участковая первой потеряла терпение:
– Бодягу вашу, Оксана Петровна!
Девушка сидела вместе с двумя операми на диване перед журнальным столиком из черного стекла. Напротив них в кресле устроилась в домашнем халате белокурая, с приятной полнотой хозяйка жилища, Оксана Петровна Корчмарь 1978 г.р.
– Какую бодягу? Что это? Самогон гоню, да. Для себя. Не скрываю. Законом не запрещено.
– Может, надзорные органы из Пскова на ваш алкомаркет пригласить посмотреть? – с этими словами Копьев демонстративно принюхался. – Статья 171, ч. 3. Незаконное производство спиртосодержащей продукции. До трех лет.
– В том месяце ОБЭП приезжал, нарушений не нашли. Полковник Ильмень, знаете, может быть, такого? – озвучив фамилию замначальника областного отдела по борьбе с экономическими преступлениями, она с вызовом уставилась на лысого майора. – Вовремя надо было Шкарина сажать. Теперь ищи ветра в поле!
– Без тела мы ничего не могли предъявить.
– Почему без тела?
– Котова всю зиму под снегом пролежала, экспертизу было не на чем проводить, – к удивлению Ивана Сабанеева, майор Копьев вдруг перешел на доверительный тон. – По уликам – ноль, только на чистуху расчет был. Но на допросе он не раскололся.
– Так кололи, значит!
– В следующий раз вас пригласим, – вставила с издевкой участковая. Лейтенант Сабанеев усмехнулся вместе с ней.
Перед выездом сам он успел коротко изучить дело годичной давности. Восемнадцатилетняя Юля Котова в прошлом феврале вышла вечером из дому в Шабанах и не вернулась. Тело, а вернее то, что осталось от него, обнаружили только в апреле. Причиной смерти экспертиза назвала перелом шейных позвонков и зафиксировала, кроме этого, многочисленные переломы конечностей, ребер, костей таза.
Шкарин имел за плечами десять лет строгача за изнасилование и убийство с аналогичным почерком. Преступление он совершил в Пскове, где вел бродяжнический образ жизни. Отпущенный на условно-досрочное, убийца вернулся в родные Шабаны, и здесь проводил дни в пьянстве вместе с матерью-алкоголичкой. Когда нашлось тело Котовой, Шкарина увезли в городской СИЗО, чтобы после недели допросов отпустить ни с чем.
Для того чтобы установить за ним административный надзор, внятных юридических оснований не было, но судья пошла на уступки. За год без малого Шкарин ни разу не нарушил режима, и оставшийся срок уже подходил к концу. Когда в положенный день он не явился отметиться в райцентр Палкино, участковая сама поехала к нему в деревню. Дверь избы открыла пьяная мать и заявила, что не видела сына уже три дня. Тогда к делу подключился областной угрозыск.
Полицейские опросили ближайших соседей и втроем направились к Оксане Петровне Корчмарь, которая, по словам участковой, снабжала алкоголем всю Новоуситовскую волость. Начинала с домашнего самогона, но уже давно ей привозили бодягу в канистрах люди из города.
Ламинат, натяжные потолки, стеклопакеты, мебель из натуральной кожи и паровое отопление вместо печи – судя по обстановке в ничем не примечательном при взгляде с улицы домике, розничная торговля шла неплохо. Хозяйка глядела в экран метрового телевизора, где беззвучно двигали губами участники идиотского политического ток-шоу в дневном повторе. Троица полицейских на диване напротив нее терпеливо молчала.
– Приходил он. Часа полвторого ночи, – заговорила она наконец. – Поллитровку взял в долг. Всегда в долг берет. Как освободился, так ни разу, ей Богу, денег от него видала. Да такому и дать спокойней. Особенно, как Юляшку нашли. Двое ребят вон, – она обернулась на закрытую дверь, из-за которой были слышны детские голоса, – не обеднею я с этой пол-литры.
– Он был пьяный?
– Еле на ногах держался. 8 марта, видать, с матерью отмечал. Говорят, что он с ней… Да слухи, может. – Копьев испытующе поглядел на нее, но переспрашивать не стал. – Окошко в заборе закрыла за ним, и, уже когда на крыльцо поднялась, машину услышала, – продолжала женщина. – Остановилась на дороге, постояла минуты две, не больше, тронулась. Я поняла, что за ним приезжали.
– Что за машина?
– Фургон. Белый.
– А марка?
– Я не разбираюсь, да из-за забора не разглядишь. Темно к тому же было, – хозяйка поправила халат на пышной груди и бросила взгляд на пустой столик. В стеклянной столешнице отражался телеэкран. – Чаю, может быть?
– Спасибо, мы спешим.
– Можно и покрепче что, – осмелела самогонщица.
Майор ответил ей ледяной миной.
В прихожей перед выходом на улицу Оксана Петровна накинула зимнюю куртку на свой шелковый матово-синий халат.
Окошко со шпингалетом для покупателей, о котором она говорила, было вырезано в заборе из профнастила рядом с калиткой. Вместе с хозяйкой полицейские вышли на дорогу. Дом самогонщицы стоял ближним к Великой. Она повела их в сторону берега и остановилась там, где начиналось ограждение моста:
– Вот тут машина затормозила.
Великая в Шабанах была раза в полтора у́же, чем в Пскове, но всё равно еще оставалась довольно широкой рекой. Сабанеев вместе с коллегами окинул взглядом ничем не примечательный участок дороги и теперь смотрел вдаль. За мостом раскинулось до самого горизонта снежное поле, где прошлой весной в неглубокой яме нашли останки невинно убиенной Юляшки Котовой.
Он, конечно, сам разбаловал Златку: то шоколада с города привезет, то заграничных цукатов. Это в его детстве магазинных сластей в селении не водилось: ребятня мед ела, да еще старухи лепили конфеты из тли. Молодежь морщится, и зря. Ведь и муравьи тлю доят, и пчелы молочко тлиное вместе с нектаром для меда своего собирают. И сладенько, и сытно, и, главное что, никакой химии.
– Дай шоколадку!
– Откуда я тебе ее возьму?!
– Я в сундуке видела! – Злата весело и с вызовом глядела в лицо Святовита, на котором после недавней ночной стычки с пьяницей выделялся нос, распухший и синий, как спелая слива.
– Пока уху не съешь, не будет шоколада.
– Не хочу уху!
С притворно грозным видом Святовит занес кулак над столом:
– Ешь!
– Не буду!
Он двинул кулаком по столешнице и случайно задел и отправил на пол миску с ухой. Спасибо, не на штаны!
Девочка прыснула со смеху. Любава, которая до сих пор с улыбкой наблюдала за шуточной ссорой, поспешила на кухню, неся перед собой беременный живот.
– Как придет в следующий раз отец Власий, отдам тебя ему! Пусть пьяницы разносолами тебя потчуют! Хочешь с пьяницами жить?
Любава с тряпкой и тазом полезла под стол. Старейшина, чтоб не мешать ей, подобрал ноги под скамью. Златка продолжала смеяться:
– Хочу!
– Вот и пойдешь. А мамка твоя, заместо тебя, нам мальца родит. Глядишь, не такой нехочуха будет.
Время шло. Любава не вылезала. Святовит, кряхтя, нагнулся под стол:
– Что ты там возишься?
Любава стояла на коленях в полумраке, и сама не могла разобраться с тем, что происходит. Несколько раз она выжала тряпку в таз, но лужа вокруг нее только росла. Юбка насквозь промокла.
Следом за мужем вниз свесилась Умила и сразу поняла:
– Воды отошли!
Вдвоем они забрались под стол, подняли под руки и отвели к семейной кровати роженицу, которая норовила провалиться в обморок. Сын Богуслав молча закончил есть и пошел растапливать баню. Скоро он вернулся.
Слушаясь Умилу, старший Родич дождался, когда пройдут первые схватки, после этого принес валенки из сеней и напялил их на выставленные с постели ноги Любавы. Той было нехорошо.
– Одна-то доведешь ее? Может, мне одеться?
– Сиди, сами управимся! – отмахивается Умила.
В сенях она помогает Любаве обуть валенки. Глава семейства провожает на пороге. Спустившись с крыльца, девушка оборачивается и вымученно улыбается ему.
Общинная баня, к которой держат путь две женщины, стоит на дальнем краю села, у реки. Дрова успели прогореть, дыма не видать и, только приглядевшись, можно заметить, что над каменной трубой еще витает, словно нечистый дух, тонкая черная дымка. Умила первой поднимается на крыльцо, вставляет ключ в скважину и всем весом вдавливает его в русский замок.
Раздевшись, они заходят из предбанника в г-образное помещение, где вдоль стен двумя ярусами тянутся полки. Печь в углу сложена без раствора из речного известняка. Свет дают такие же, как в избе Родичей, точечные светильники в потолке.
В дальней, женской, половине роженица по указанию Умилы ложится на нижний полок. Ноги раздвинуты и согнуты в коленях. Из жара Любаву бросает в озноб, а из озноба – в жар. Опять начинаются схватки. Сверху появляется лицо повитухи с острым подбородком и хищным носом крючком. Потемневшие от влаги волосы прилипли к шее. Маленькая грудь поднимается при каждом быстром вздохе.
– Тужься!
Воздух в парилке горячий и душный. У Любавы во рту – горечь. Она шарит пальцами по скользкому дереву, пока к губам не подносят кружку со студеной водой из колодца.
В этот раз все прошло быстрее, чем в прошлом году. Новорожденному младенцу Умила отсекла пуповину одним точным взмахом ножа. Мать силилась приподнять туловище и хотя бы одним глазком взглянуть на дитя, но повитуха уже с головой замотала его в полотенце, расшитое квадратами и ромбами.
С ребенком в обнимку и с ножом в руке она исчезла из виду. Плач становился всё тише. Ребенок как будто засыпал, и потом заснул.
Свет уже не слепил глаза. Дышать стало легче. С потолка Любава перевела взгляд на окно, потом на застеленную Богуславову кровать. Она попыталась, но не смогла вспомнить, как оказалась в избе. Время шло к обеду, но в доме стояла тишина. Даже Златки было не слыхать.
Молодая хозяйка стояла за столом и сжимала в руке нож – но не обычный кухонный, а древний, с ручкой из обожженной древесины и треугольным лезвием, которым Умила только что при ней орудовала в бане. На столе лежал хлеб. Она отрезала и сложила на тарелку несколько ломтей к обеду и вдруг с отвращением заметила, как что-то копошится в хлебной мякоти. Ужель черви? Ее затошнило.
Из буханки вывалилось существо с палец длиной, и она поняла, что ошиблась. Это был человек, а точней, его часть. Половинка крохотного мужичка в драной деревенской фуфайке ползла на руках по столешнице. Сзади тянулись розовые внутренности.
Второй был одет в такую же рвань, и ноги у него были отсечены ножом по колено. Он вывалился из буханки на стол, вскочил на свои обрубки и побежал к краю, оставляя за собой на дереве пунктир кровяных точек и оглашая воздух писклявыми матерными воплями.
Мякоть на разрезе стала бурой от крови. Всё новые и новые человечки появлялись из надрезанной буханки и расползались по сторонам.
Вдруг за спиной раздался глас, похожий на трубный рев:
– Любава!
Пальцы у девушки разжались, нож бесшумно выскользнул на пол.
– Любава! – повторил голос.
Она обернулась и замерла с приоткрытым ртом. Дверь была распахнута настежь, снаружи в избу лился яркий белый свет. На пороге в сияющем ореоле стоял прекрасный и статный юноша с парой белоснежных крыл за спиной. Сам он тоже был одет во всё белое.
– Любава! – благозвучно проревел в третий раз ангел.
В груди у Любавы всколыхнулось незнакомое и возвышенное чувство. Она постояла еще немного, набираясь решимости, и, набравшись ею, шагнула к свету.
IV. Апрель
Пятьдесят один, два, три, пять. Из отделения на кнопке в кошельке Алена Семенова высы́пала на ладонь последние копейки и набрала мелочью три полных рубля. Не хватало еще четырех.
– Потом занесешь, – подсказала Надька Прилуцкая. – Или батон не бери вон.
– Може, на следующей неделе, или…
– На следующей, так на следующей, – хозяйка ларька сгребла деньги с кассовой тарелки и достала с полки буханку ржаного и батон.
Алена протянула руку за хлебом:
– В собесе доплату мне посчитали.
– И чего?
Она назвала сумму и вздохнула.
– Государство. Что ты хочешь, Ален? Может, тебе обратиться куда?
– Куда?
– За помощью. Есть всякие. «Верочка» вон. Съездила бы, поговорила.
Посты «Верочки» в последнее время часто попадались Алене в ленте «ВКонтакте»: православный фонд, помогают бедным семьям с детьми. Основатель – какой-то то ли архимандрит, то ли архиерей, и директор – тоже священник, настоятель храма на Новом Завеличье: офис их —прямо там, в притворе. На раздачи вещей к себе приглашают, и сами по деревням ездят: развозят одежду, еду, по хозяйству что нужно, кому-то даже квартиру обставили за счет пожертвований.
– Да что ты, Надь! Мать в гробу перевернется. Она всю жизнь …
– Впроголодь-то с тобой? Вот-вот, их поколение всё такое.
– Ну не впроголодь… – Алена стояла перед ларьком, наклонившись к окошку, и держала в одной руке хлеб, а в другой булку в полиэтиленовом пакете. Не закончив фразы, она обернулась к улице.
По расхлябанной дороге к ларьку шлепала в калошах Любавка из Ящеров с плетеным лукошком в руке. Одета она была в простенькое бежевое пальто, на голове – серый платок.
Алена прищурилась:
– Родила, никак?
Прилуцкая высунула голову в окошко и подтвердила:
– Родила.
Когда девушка подошла, Надька натянуто улыбнулась ей:



