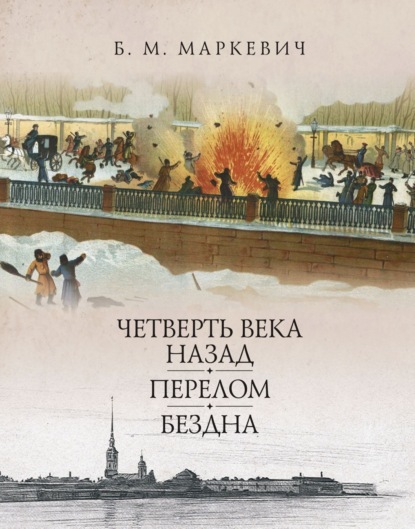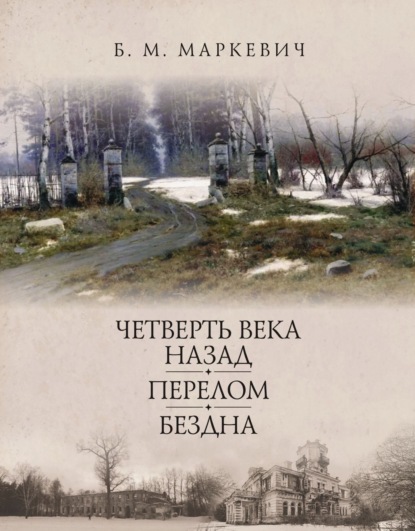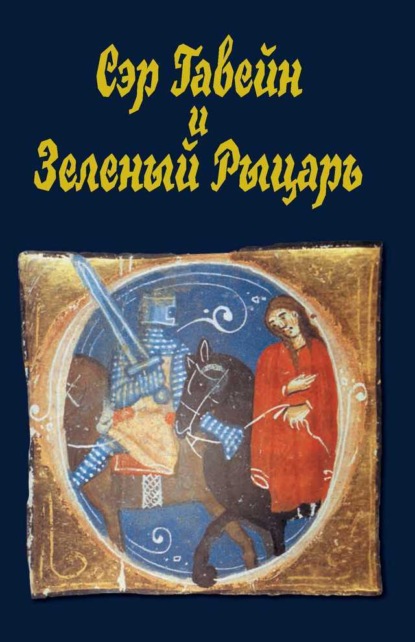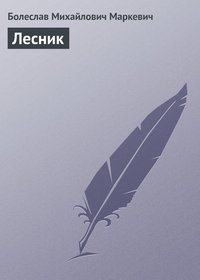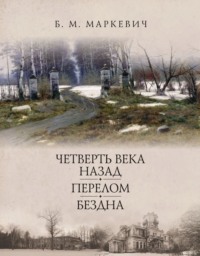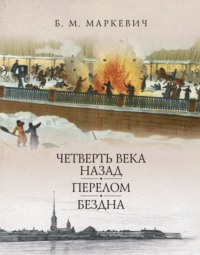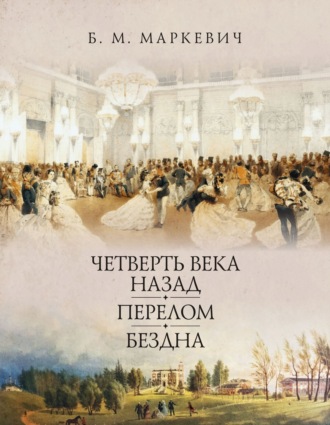
Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
– Однако, мне пора, Софья Ивановна, – сказал, подымаясь, Ашанин, – одеваться; да и вам также… Здесь, вы знаете, к обеду – как на бал!..
– У меня мое robe feuille-morte6 неизменно, – живо возразила она, – другого для beaux yeux7 Аглаи не надену!.. – Она встала проводить его.
– Сережа влюблен! – начала она опять, останавливаясь у дверей. – Признаюсь вам, я до сих пор помириться с этой мыслью не могу. С каждым молодым человеком это бывает, но при его характере… это может быть опасно… очень опасно!.. Мне даже представляется теперь, что, кажется, лучше было бы, если бы он…
– На меня походил? – договорил со смехом Ашанин. – Признайтесь, генеральша, что вы именно об этом подумали в эту минуту!
– Ну, нет, – полушутливо-полусерьезно отвечала она, – от этого Боже сохрани каждого! Очень уж вы безнравственны, мой милый! Только Бог вас знает, как это вы делаете, что на вас сердиться нельзя… Сердце-то у вас золотое, вот что! И я вам от сердца благодарна за вашу дружбу к Сереже…
– Нет, генеральша, – комически вздохнул неисправимый шалун, – я больше за добродетель мою погибаю! И тяжкие наказания за это несу, очень тяжкие!..
Софья Ивановна взглянула на него:
– Господи, да уж не напели ли вы чего гувернантке здешней? – внезапно пришла ей эта мысль.
– Вы почем знаете? – с удивлением спросил он.
– Да она тут сейчас была: Аглая ее ко мне приставила, и она меня устраивала в этой комнате… Гляжу, а на ней лица нет. – Что с вами, говорю, моя милая? Вы, кажется, чем-то расстроены? – А она – в слезы и выбежала вон…
– В слезы, непременно-с! – закивал утвердительно Ашанин. – Слез у нее много! Вот если б у меня столько же денег было!..
– Ах, вы, негодник! Да ведь она и не молода уж?
– Не молода, Софья Ивановна! – повторил он с новым вздохом.
– И даже не очень хороша?
– Даже очень нехороша, Софья Ивановна!
– Никому-то у него пощады нет, бессовестный человек! Ну, на что она вам, несчастная, нужна была?
– А у нас, видите ли, матери Гамлета не было, и некому кроме нее играть. А она уперлась как коза: не хочу, да и все тут!.. Я собою и пожертвовал!..
Софья Ивановна не на шутку рассердилась:
– Подите вы от меня с вашими гадостями! И хороша причина – «Гамлет»! Да если бы вы этого вздора здесь не затеяли, Сереже поводу не было б безумствовать!..
– Чему быть, тому не миновать, Софья Ивановна, – смиренно заметил на это Ашанин, – не здесь, так у вас в Сашине встретился бы он с княжною.
Она не нашла возражения на этот довод.
– А все же вы бесстыдник! – проговорила она еще сердито.
Шалун отвечал ей глубоким поклоном и побежал в свою комнату. Гундурова он уже не застал; по словам Федосея, он, одевшись, ушел в сад прогуляться до обеда.
XVIII
Vanity fair1!
Княгиня Аглая Константиновна с жизнью английских замков была действительно, как говорил князь Ларион, знакома; то есть, в сущности, она была однажды в Шипмоунткасле, замке лорда Динмора, в Кемберленде, куда приглашена была «на восемь дней»[16] с мужем, состоявшим тогда при лондонском посольстве, года полтора после своего замужества. Но эти восемь дней, проведенные в обществе чистокровнейших вискоунтов2 и элегантнейших marchionesses (маркиз), остались навсегда лучезарнейшим воспоминанием ее жизни, и она гордилась им более, чем всеми почестями, довлевшими ей впоследствии при том маленьком германском Дворе, при котором князь Михайло Шастунов состоял представителем России… Не на розовом ложе, сказать кстати, прошло для новобрачной Аглаи пребывание ее в Лондоне. Князь Михайло, сам воспитанный в Англии, принятый там в обществе как свой, не изменил ни своего образа жизни, ни отношений, женившись против воли на российской девице Раскаталовой; он на первых же порах предоставил ей проводить жизнь как ей заблагорассудится, а сам проводил ее у ног одной, тогда весьма известной, обаятельной умом и красотою и эксцентричной леди, – которая, упомянем мимоходом, после двухлетней с ним связи в один прекрасный Божий день улетела от него в Италию, вышла там от живого мужа за немолодого уже, но еще сладкозвучного тенора, кинула его через полгода, вступила в третий брак с одним очень красивым, но очень глупым греческим офицером, дала ему плюху на другой же день после свадьбы за то, что он ел оливки руками, бросила и его и умерла наконец от побоев четвертого супруга, шейха одного бедуинского племени, заставшего в своем кочевом шатре in criminal conversation3 с каким-то французом, путешествовавшим по аравийской степи… Дерзость и насмешки этой сумасбродной, но блестящей женщины, с которою ревнивая Аглая имела неосторожность где-то сцепиться, оскорбленное самолюбие, скука одиночества, неудовлетворенная страсть к красавцу-мужу чуть было совсем с ума не свели ее тогда. Но зато она провела «восемь дней» в Шипмоунткасле и во все эти восемь дней, в своем качестве princess[17]4, брала, по иерархическим обычаям английского peerage5, шаг к победе надо всеми тут бывшими герцогинями и маркизами, и – что в ее раскаталовских понятиях было гораздо для нее лестнее – даже над женою одного из тогдашних английских министров, – «figurez vous cela, ma chère!6» – долго еще потом удивлялась она, рассказывая об этом приятельницам своим на континенте… Политическая и культурная Англия ничего не прибавила к умственному запасу нашей princess’bi; прожив там более трех лет, она трех фраз не могла сложить по-английски; для чего, «когда есть там свой король», собираются еще люди в какой-то парламент, значение которого, когда она еще девочкой была, madame Crébillon, воспитательница ее и бонапартистка, объясняла ей такими словами: «ип parlement, ma chère amie, – ainsi nomme parce qu’on y parle et qu’on y ment7», и как этот английский король позволяет этим людям «болтать и лгать» в этом парламенте, – она до конца уяснить себе не могла. Разница между вигами и ториями8, почему лорд-мэр9 «не настоящий лорд, когда он называется лордом», что значит «Оранский дом»10, и «что такого хорошего в этом Байроне, dont parle toujours Michel11», т. е. ее муж, – все эти хитросплетенные мудрости так и остались для нее на всю жизнь не разобранными гиероглифами. Но зато в эти незабвенные восемь дней, проведенные ею в Шипмоунткасле, Аглая Константиновна постигла высшим наитием все тайны внешнего облика английской аристократической жизни, уразумела все порядки богатого английского дома, от drawing room’a (гостиной) и до конюшни, от столовой сервировки и до покроя выездных ливрей. Чинный, чопорный, важный склад этих порядков, эта широкая, преемственная, величавая обстановка существования, презрительно относящаяся ко всякой эффектности, но в которой, от старого слуги и до игорной щетки, все носит на себе характер какой-то незыблемости и почтенности (respectability), поразили ее своим глубоким противоречием с безалаберною, полутатарскою, шероховатою, всегда словно случайною и вчерашнею, русскою роскошью, – тою дикою роскошью, среди которой взросла она сама под раззолоченными карнизами своего отчаянно икавшего после обеда «папаши»… В силу каких исторических и нравственных условий все это сложилось и могло держаться там так величаво и почтенно и так бестолково и распущенно в родных палестинах, Аглая сообразить была не в состоянии, да и не думала об этом. Вся сумма ее впечатлений выразилась в одной мысли: «вот как должны жить les gens comme nous12!»… И с этой минуты, с этих блаженных «восьми дней» в Шипмоунткасле, пред нею вырос идеал: «поставить дом мой на английскую ногу». Каждому свое, сказал древний мудрец. Кто знает, как без этого идеала совладала бы Аглая с муками своей ревности, с тем «delaissement»13, как выражалась она, в каком оставлял ее муж до того дня, когда, почувствовав в груди первые признаки унесшей его два года потом болезни, он воротился, усмиренный и кающийся, к семейному очагу, – к очагу, устроенному ею «на английскую ногу»! Кто знает, от каких соблазнов спасали Аглаю глубокомысленные соображения о выборе вензеля на новый фарфоровый сервиз к столу или цвета материи для заказанного в Лондоне кэба! А сколько несказанных утешений доставляло ей изумление и тот даже некоторый террор, которые, бывши уже посланницей, внушала она пышным устройством своего дома расчетливым немцам, при которых муж ее был аккредитован, и корреспонденции из обитаемого ею города в парижские газеты, в которых говорилось: 14-«la grande existence, le luxe intelligent de monsieur le prince de Szastounof, ministre de Russie», или уже прямо о ней, о том, что было ей так близко: За tenue toute anglaise de la maison de madame la princesse de Szastounof»-14 и т. п. …
В Сицком еще до приезда приняты были ею меры для устройства жизни в то же подобие незабвенного Шипмоунткасля. Заказаны были новая каменная ограда и лев с гербом на воротах, знакомые уже нашему читателю. Многочисленная, оплывшая от бездействия в продолжение долгого отсутствия господ дворня была заранее обмыта, выбрита, острижена, облечена в безукоризненные черные и ливрейные фраки, обута в сапоги без каблуков, – «чтоб на ходу не стучали», писала княгиня своему управляющему, – и мягко выступала теперь по коврам и паркетам, внимательная, степенная и безмолвная… Из-за границы ожидались оставленные там всякие экипажи. Присланным из Москвы живописцем изготовлена была для большой гостиной копия с портрета старика князя Шастунова, так как князь Ларион не соглашался на перенесение оригинала из своих покоев, а по понятию Аглаи Константиновны 15-«dans un premier salon надо непременно un portrait d’ancêtres»-15… Monsieur Vittorio, главный исполнитель ее распоряжений и мажордом, вел бдительный надзор за порученными наемным и дворовым мастеровым всякими переделками и починками по дому и ходил каждое утро со своими книгами и доносами к княгине, которая проверяла первые до малейшей копейки, а по вторым клала собственноручные, большею частию строгие, резолюции… Распределение времени «однажды навсегда» велось по хронометру покойного князя Михаила Васильевича, который Vittorio приказано было носить в кармане жилета «в особом кожаном мешочке» и по которому поверялись через день все часы дома. Трапезы имели чисто английский характер: утром в 10 часов сервировался первый завтрак, breakfast – чай, масло, яйца, картофель и холодная говядина; в 2 часа пополудни подавали второй завтрак, luncheon, – вернее, целый обед из 4 блюд, только без супа и без сладкого. Обедали в шесть, «car ces estomacs russes ne pourraient jamais attendre plus longtemps»16, рассудила Аглая Константиновна. Между завтраками предоставлялось каждому делать из себя что угодно; от 3 часов до обеда предполагались прогулки или поездки «en commun17, любоваться на виды», – время это теперь занято было репетициями. «Для серьезных людей» подле столовой устроена была readingroom, читальня, где на большом круглом столе разложены были «Indépendance Belge» и «Journal de St. Pétersbourg»18, какие-то выписываемые по старой памяти бывшею посланницей «Hannoversnachrichten» и из русских «Северная пчела» и «Современник»19, «pour être au courant de la littérature nationale»20, покровительственно говорила владелица Сицкого…
Но английские порядки княгини Аглаи Константиновны приходились, видно, «не по зубам», как выражался исправник Акулин, большинству соотечественников, под предлогом репетиции наехавших к ней из окрестностей, в расчете на бесцеремонные обычаи стародавнего барского хлебосольства. Пораженные вестью о белых галстуках и платьях декольте к обеду, отяжелевшие помещики и распустившиеся в деревенской лени соседки поспешили убраться по домам и, трясясь в своих доморощенных бричках, долго и злобно, с высоты своего оскорбленного дворянского достоинства, обзывали бывшую посланницу «кабацкою павой» и «зазнавшимся раскаталовским отродьем», – что, впрочем, нисколько не помешало тому, что в тот же вечер, на двадцать пять верст кругом, вытаскивались из старых сундуков залежалые фраки и отставные мундиры, и всякие Аришки и Палашки кроили при свете сальной свечи разновиднейших фасонов кисейные и барежевые платья, «на случай», приказывали им господа, «соберемся как-нибудь к Шастуновым опять»… В Сицком остались обедать почти исключительно участвовавшие в спектакле. Пулярки, во избежание новой обиды их или нового скандала с их стороны, заботливо поручены были отъезжавшими мамашами ближайшему надзору и покровительству образованной окружной.
XIX
Люблю я час
Определять обедом, чаем1…
Пушкин.Обед был отличный, а сервировка его еще лучше. Хозяйка, сидевшая между Чижевским, генерал-губернаторским чиновником и Зяблиным, с самодовольною улыбкою поглядывала на свое великолепное серебро от Стора и Мортимера[18], богемское стекло и саксонские тарелки, на безупречную tenue2 своих гостей и переносилась мыслью к далекому Шипмоунткаслю: «c’est presque aussi cossu chez moi que chez les Deanmore3!», думала она свою ежедневную в эту пору думу, в то же время приклоняя ухо к сладким речам, которые нашептывал ей слева «Калабрский бригант»… Разоренный московский лев, много денег и трудов положивший в свое время на успешное, впрочем, Печоринство в московских салонах, вел с самой зимы правильную осаду миллионам княгини Аглаи Константиновны. Представленный ей вскоре после возвращения ее из-за границы, он направил было батареи свои на княжну Лину, но весьма скоро сообразив, что из этого ничего не выйдет, начал громить ими самое маменьку, и, как имел он поводы думать, небезуспешно. Сорокалетней барыне нравились его разочарованные аллюры, его молчаливые улыбки и сдержанные вздохи, сопровождаемые косыми взглядами направляемых на нее несколько воловьих глаз. И когда князь Ларион, который терпеть его не мог, спросил ее однажды: «Что, вам очень весело бывает с господином Зяблиным?», она покраснела и недовольным тоном отвечала: «Ne letouchez pas, Larion, je vous prie, c’est un être incompris4!» Князь прикусил губу, покосился на нее с тою сардоническою усмешкой, какую постоянно вызывали в нем ее трюизмы, и отрезал: «Болван и тунеядец, ищущий приданого!» С тех пор он вовсе перестал замечать «бриганта»; Зяблин уже не отставал от княгини и с каждым днем почитал себя ближе и ближе к своей цели… Он был теперь особенно в ударе, после того как она сказала ему в театре, что он будет очень хорош в костюме Клавдио, и отпускал ей нежность за нежностью.
Чижевский, высокий, рыжеватый молодой человек лет 26-ти, со смелыми карими глазами и высоко приподнятою головою, вследствие чего почитался московскими львицами за непроходимого фата, был на самом деле душа-малый, веселый и в то же время мечтательный, вечно влюбленный платонически в какую-нибудь женщину и всегда готовый выпить бутылку шампанского с хорошим приятелем. Неистощимый рассказчик, он передавал своей соседке, Софье Ивановне, один из удачнейших своих анекдотов и внутренне удивлялся, что вместо ожидаемого им громкого смеха на лице ее едва скользила снисходительная улыбка. Но Софье Ивановне было не до анекдотов. Она украдкою следила взглядом за племянником, сидевшим на конце длинного обеденного стола, и тосковала всею той тоскою, которую читала на его лице. Он сидел между Духониным и Факирским, бледный и безмолвный, не подымая ни на кого глаз и едва притрагиваясь к своей тарелке, и безучастно внимая какому-то оживленному спору, затеявшемуся, казалось, между его соседями.
Более счастливая, чем Чижевскому, доля выпала Шигареву, которого хозяйка, с тайною мыслью обеспечить за собою любезность «Калабрскаго бриганта» на все время обеда, посадила по другую сторону одной московской тридцатилетней княжны, своей приятельницы, только что перед самым столом приехавшей в Сицкое. Шигарев, слышавший о ней как об очень умной девушке, счел нужным повести с нею «серьезный» разговор. Тем для такого «серьезного» разговора было у него исключительно две: о том, во-первых, что у него «тысяча без одной», т. е. 999 душ, и конский завод в Харьковской губернии, а во-вторых, о его родном брате, который также был харьковский помещик и тоже имел тысячу душ и завод, но не конский, а мыловаренный. Шигарев был чрезвычайно братолюбив и об этом брате рассказывал с такими подробностями и так нежно, что слушателей его обыкновенно начинало в это время тошнить. Но вследствие ли того, что предварительно было им сообщено о числе владеемых им душ, или просто потому, что для тридцатилетней девицы и Шигарев – человек, только умная московская княжна внимательно глядела на него маленькими прищуренными глазками и поощрительно улыбалась. На этот раз вариация на тему брата заключалась в том, что у этого брата необыкновенно развиты были мускулы правой руки, так что «когда он протянет ее крепко, сейчас и выскочит у него на ней клубок величиною в апельсин».
– Да, я слышала, – подтвердила княжна, – это бывает… у мужчин, – словно захлебнулась она.
– Не у всех! – горячо возражал Шигарев. – У брата моего, да! Но не у всех… Вот на моем заводе у двух моих лошадей сделались такие же, как апельсин, гули у самых ноздрей… – он не выдержал и вдруг загаерничал: – Гуля, вы не знаете, это у нас так по-хохлацки… а вы думали, голубей кличут? Гули, гули, гуленьки, гули, гули, голубок… – он заходил носом, губами, изображая голубиное воркованье.
И московская княжна, закрыв уже совсем свои маленькие глазки, смеялась до упаду, восхищаясь этим милым «оригинальничаньем»…
В стороне молодежи велся иного рода разговор:
– Да-с, в Одессе вышла небольшая книжка, – говорил Факирскому маленький господин, которого звали Духониным, – он принадлежал к «соку московской умной молодежи», – поправляя золотые очки на носу, – имя совершенно неизвестное: какой-то Щербина5… Общее заглавие – просто: «Греческие стихотворения».
– Знаю! – крикнул ему через стол Свищов. – Со мною даже есть она, из Одессы получил… Хоррошо!
– Это, что мы с вами вечером вчера читали? – спросил сидевший подле Свищова толстый Елпидифор. – Первый сорт, скажу вам-с! Наизусть даже помню…
И он негромко стал декламировать:
Я всему здесь поверить готов,В сем чудесном жилище богов,Подсмотрев, как склонялись цианы,Будто смятые ножкой Дианы,Пробежавшей незримо на лов.Я всему здесь поверить готов…– Да, да, так! – закивал Духонин, до которого донеслись некоторые рифмы, не без некоторого удивления глядя на этого страстного к искусству уездного капитан-исправника.
– Каков эпикуреец? – подмигнул с своей стороны Свищов.
– Ну-с, и что же эти стихотворения? – пожелал узнать Факирский.
– А то «ну-с», – несколько обидчиво ответил благовоспитанный Духонин, – что это прелесть!
– Антология-с! – с пренебрежением сказал студент.
– Да-с, новая мысль в античной форме, то именно, чего желал Шенье6:
Sur les penseurs nouveaux faisons les vers antiques7!
– He знаю-с, – сказал студент, – только нынешнему человеку петь на античный лад не приходится.
– Это почему-с?
– Да потому… – Студент искал, как бы ему яснее выразиться, – потому что ему тогда сузить себя надо…
– Ах, сделайте милость, – засмеялся Духонин, – подите, сузьтесь до Гомера!..
– Современному человеку Жорж Санды нужны8, а не Гомеры! – со всем пылом и искренностью молодого увлечения возгласил Факирский.
– 9-Скриба ему нужно! – громко хихикнул ему на это Свищов. – И именно Скриба на музыку Обера-9!..
Студент ужасно оскорбился за своего кумира:
– Это что же-с! – проговорил он, подергивая плечами. – Ведь так, пожалуй, можно и родного отца на площади охаять!..
– Совсем нет-с, это я, напротив, в смысле вашем же говорю, – замигал ему Свищов и правым, и левым глазом, – вам известно или нет, что в Брюсселе после первого представления Фенеллы[19] толпа вышла из театра, поя хором: «amour sacré de la patrie»10, дуэт второго действия, и в ту же ночь выгнала из города голландцев?.. Вот-с они каковы, Скриб-то с Обером!..
– А вы, батенька, потише при мне, – шепнул, толкнув его слегка в бок, исправник. – Я ведь здесь в некотором роде правительственная власть!..
– Ну какая вы власть! – расхохотался Свищов, не без некоторой тревоги, впрочем, заглядывая в лицо Акулину. – Вы у нас жуир11, а не власть!..
– Нельзя, услышит, пожалуй! – объяснил толстый Елпидифор, кивнув на князя Лариона.
А князь Ларион, сидевший по другую сторону Софьи Ивановны, говорил ей тем временем:
– Не знаю, успел ли передать вам Сергей Михайлович о нашем сегодня с ним разговоре и о моем совете ему?
– Знаю, очень вам благодарна! – ответила она. Он взглянул на нее, несколько удивленный сухостью, показалось ему, ее тона.
– Очень! – повторила она, кивая головой. – Вы правы, ему здесь нечего делать! – подчеркнула она… – Особенно если вы устроите ему потом…
– Это непременно! – не дал он ей кончить. – И это мы в Москве же устроим. Не понимаю даже, для чего ваш племянник ездил в Петербург подавать свою просьбу: ваш главноуправляющий, при дружбе своей с… – князь назвал одного очень высокопоставленного в то время сановника, – все может теперь… Я через него обделаю…
Софья Ивановна наклонила голову в знак признательности.
– Я очень интересуюсь вашим племянником, – заговорил опять князь Ларион. – Мне много говорили в Москве зимою о его блестящих способностях и познаниях, и, сколько я мог сам судить за это короткое время, он действительно далеко недюжинный молодой человек. Если бы я был во власти, я бы непременно…
– Ничего для него бы не сделали! – быстро промолвила Софья Ивановна, которую уже давно подмывало сказать ему что-нибудь неприятное.
– Почему же вы так думаете? – недовольным тоном спросил он.
Она поспешила обратить слова свои в шутку:
– Я Писания держусь: не уповай ни на князя, ни на сына человеческого…
– Я не могу вам воспрепятствовать почитать меня за эгоиста, – сказал, слегка усмехаясь, князь Ларион, – попрошу вас верить только в то, что я по принципу старался бы проложить Сергею Михайловичу дорогу. Мудрое правительство должно было бы всегда, по-моему, иметь таких намеченных им, так сказать заранее, для занятия в будущем высших должностей в государстве молодых людей, которые, как ваш племянник, к счастливой случайности рождения и независимости по состоянию присоединяют еще приобретенное самими ими солидное высшее образование.
«Очень красно, только ты племянницы-то своей этому „намеченному“ дать не намерен!» – подумала Софья Ивановна, и опять неудержимо захотелось ей кольнуть чем-нибудь «старого лукавца».
– Я о правительстве не скажу, – громко проговорила она, – но у нас, по Писанию тоже, и своя своих не познаша!..
Захотел ли или нет понять князь Ларион этот намек, но он прекратил разговор справа и обратился с каким-то вопросом к сидевшей у него по левую руку образованной окружной.
Глаза еще взволнованной Софьи Ивановны обежали кругом стола и с какою-то бессознательною, но глубокою нежностью остановились на княжне Лине, с обеих сторон которой две из пулярок, чуть не повисши ей на плечи, ужасно торопясь и перерывая друг друга, передавали ей какой-то вздор. Софье Ивановне самой себе не хотелось признаться в том чувстве, которое неотразимо влекло ее к этой девушке. Давно ли, когда Сергей приехал из Сицкого, и она его исповедовала, она не только ужасалась мысли предстоявших ему недочетов, но и самый успех его, думала она, был бы, кажется, для нее тягостен… Тогда она обеими руками, не задумавшись, подписалась под разумным приговором князя Лариона: «не женятся в 23 года, не создав себе никакого положения, не сделав ничего ни для общества, ни для себя»… Теперь все соображения ее перепутывала и смущала одна упорно, неотступно набегавшая ей в голову мысль: «А что же, если и она, это милое создание, полюбит Сережу, что же тогда?..» И она, сама себе в этом не давая отчета, досадливо отгоняя этот «соблазн» каждый раз, когда представал он перед нею, страстно, с каким-то молодым биением сердца, жаждала теперь, чтоб это случилось… чтоб «это милое создание», эта синеокая, изящная, тихая девушка… так напоминающая его, отца своего, чтоб и она… да… И Софья Ивановна отуманенными глазами глядела, любуясь, на тонкий облик Лины, и в голове ее проносилось, что, если бы уж на то была воля Божья, она и не знает, кого бы из «них двух» она более любила!..
Княжна как бы почувствовала на себе проникающую струю этого взгляда: она подняла голову, встретилась глазами с Софьей Ивановной и улыбнулась. «Да, люби меня, я хорошая!» – так и говорила эта улыбка.
У Софьи Ивановны забилось в груди как в двадцать лет…
«Господи, точно я сама влюблена в нее!» – подумала она, дружески кивая ей через стол.
Княжна тихо отвела от нее глаза, вскинула их на мгновение в сторону, где сидел Гундуров, и опять, вопросительно будто, взглянула на нее: