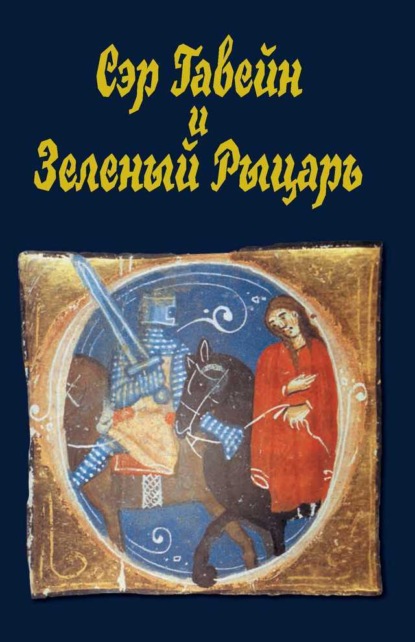Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
Известно, что ничто так скоро и коротко не сближает молодежь, как любительские спектакли. Короткости между нашими актерами содействовало еще и это их совместное житье в Сицком, в богатом, привольном доме, где каждому предоставлялось брать на свою долю настолько удовольствия, насколько хватало у него на это сил и желания. Княгиня Аглая, в подражание своим английским образцам, предоставляла гостям своим полную свободу: они целым обществом, дамы и мужчины, катались верхами, удили рыбу, ездили по вечерам в дальние прогулки, в которых не всегда принимал участие князь Ларион, а сама хозяйка никогда. Ленивая и отяжелевшая, она почти не выходила из своего будуара, где с утра до вечера пила чай в компании неизбежного Зяблина и куда, разумеется, никому не приходила охота идти ее тревожить. Только по утрам Лина являлась с «bonjour, maman», целовала ей ручку – и почти тотчас же уходила. Мать почти никогда не говорила с ней, не потому, чтобы имела какие-нибудь причины недовольства ею, а просто потому, что не находила предметов разговора с дочерью. 5-«Elle est trop sérieuse, – поверила она «бриганту», вздыхая и томно улыбаясь, – elle n’a pas d’enjouement dans le caractère, comme moi-5!» Потом приходил князек, сын ее, разодетый как на картинке, с mister Knocks’ом, который ни на каком, кроме английского, языке не говорил и которого она, и с воспитанником его, отпускала так же очень скоро, потому что никак не могла сказать ему того, что хотела, – да Ольга Елпидифоровна по нескольку раз в день забегала к ней под разными предлогами, теша ее своими жантильесами6. Смышленая барышня, отчаявшись вернуть расположение князя Лариона, – он вовсе перестал даже говорить с нею, – заискивала и юлила теперь перед княгиней более, чем когда-нибудь… В то же время она всячески набивалась в наперсницы к «другу своему, Лине», и хотя это ей очень мало удавалось, – княжна, как она ни билась, не делала ей никаких конфидансов1, — она сама от себя, из злости к «противному старикашке», употребляла всякие усилия и средства, чтобы «сближать» Лину с Гундуровым: старалась находить случаи, когда б они могли быть подолее вместе; искусно отводила тех, которые могли бы помешать их беседе, когда представлялись такие случаи; распоряжалась так, чтоб нашему герою непременно досталось место подле княжны на линейке, которая везла их в лес или на тоню8, на Оку… Княжна, по-видимому, не замечала этих услуг и даже большею частью не пользовалась теми «удобными» случаями, которые ловкая особа доставляла ей в возможном изобилии, – но не всегда же она от них уходила, не всегда же находила силу избегать их… Иногда, налету, глаза ее встречались с глазами Сергея, – с глазами, полными бесконечной мольбы, – и безвластно шла она занять подле него место в экипаже, и долго потом ехали они, молча и не смея уже более поднять глаз друг на друга. И что бы в эти минуты могли они друг другу сказать? За них говорила вся эта молодая природа, что цвела и пела вокруг них, окрапленная живительною влагой, озаренная солнцем весны: широкая даль речного разлива, сладкий шелест молодых дубов, соловей, урчавший в кусте дикой малины, мимо которого, когда на померкавшем небе загоралась первая звездочка, проезжали они на возвратном пути в усадьбу…
XXIV
Они ехали таким образом однажды рядом в большом обществе. Сидевший спиною к ним по другой стороне линейки Духонин, вдохновленный красотою вечера, читал немецкие стихи соседке своей, Надежде Федоровне:
– 1-Ich hatte einst ein shönes Vaterland.Das EichenbaumWuchs dort so hoch, die Veilhen nickten sanft, —Das war ein Traum-1. —донеслось до слуха их.
– Это из Гейне… И прелестно! – молвил Гундуров. Духонин продолжал:
– Es küsste mich auf deutsch, und sprach auf deutsch:(Man glaubt es kaumWie schön es Klang) «ich liebe dich…»Das war ein Traum!..– Здесь… в отечестве, лучше! – проговорила вдруг Лина как бы про себя, как бы отвечая на какой-то свой собственный, не выговоренный вопрос.
У Гундурова забилось сердце – он вспомнил тот первый их разговор, – это был теперь для него ответ на то, до чего еще бессознательно допытывался он тогда…
– Лучше, Елена Михайловна? – повторил он, стараясь заглянуть ей в лицо. – Лучше?..
Но она не отвечала его взгляду. Ее синие, задумчивые глаза глядели вперед на бедное селение, на которое они держали путь; хилые очертания его почерневших соломенных крыш вырисовывались уже отчетливо из-за пригорка в багровых лучах заката…
– Да, – сказала она, не оборачиваясь и откидывая вуаль, которую ветер прижимал к ее лицу, – там, в Германии, в Европе, – все так узко… Покойный папа говорил: там перегородки везде поставлены… А здесь… Здесь каким-то безбрежьем пахнет…
– У вас удивительные свои выражения, княжна! – воскликнул Гундуров.
Она опять улыбнулась, все так же продолжая не глядеть на него.
– Я знаю, я очень нехорошо говорю по-русски; я совсем еще по-писанному говорю… Но с вами – голос ее чуточку дрогнул, – я не могу говорить не по-русски…
– Вы удивительное существо, Елена Михайловна! – с юношеским восторгом заговорил Сергей. – Вы, воспитанная на Западе, в чужеземных обычаях и понятиях, вы каким-то чудным внутренним чутьем проникаете в самую глубь, в самую суть предмета… Да, в Россию надо верить2! Там все сказано, все отмерено, везде столбы и «перегородки» поставлены, и народы доживают, задыхаясь, в путах бездушной, тесной, материальной, переживающей себя цивилизации… Наше будущее «безбрежно» – как это вы прекрасно сказали! – как и наша природа. Нам, славянскому миру, суждено сказать то последнее слово вечной правды и любви, на какое уже неспособен дух гордыни и себялюбия западного человечества…
– А пока, – засмеялся вдруг Духонин, прислушивавшийся со своего места к их разговору, – а пока, любезный друг, соберемся мы сказать это слово, мы, как оказывается, и самовара-то нашего выдумать не умели, и «народы» наши (он повел при этом рукою на жалкую деревушку, мимо которой проезжали они) живут чуть ли не беспомощнее и плачевнее, чем это «западное человечество» в пору каменного века.
Гондуров досадливо обернулся к нему:
– Не среди мраморных палат царственного Рима, – молвил он с сияющими глазами, – не мудрецами, веровавшими в его вечность, найдена была та божественная истина3, что должна была спасти и обновить погибающий мир: возглашена была устами нищих рыбаков далекой страны, которую точно так же за бедность ее и невежество презирали кичившиеся богатством своим и культурою избранные счастливцы того века!
Духонин несколько опешил перед этим неожиданным, горячим доводом.
– «Блажен, кто верует, тепло ему на свете»4, – молвил он с натянутою усмешкою.
Лина, в свою очередь, обернулась к нему.
– В этом, кажется, все и есть, – промолвила она застенчиво.
– В чем это, княжна?
– В том… чтоб верить.
Он засмеялся и развел руками.
– Действительно, нам только это и остается, потому что иначе я бы мог, в pendant5 к не очень смиренному, сказать кстати, пророчествованию друга моего Гундурова о нашем великом будущем привести то, что говорят про нас на этом «погибающем и изживающем», по его мнению, Западе: «fruit pourri avant d’etre mur»6.
– Да, я это слышала, – тихо сказала Лина, между тем как Сергей опускал глаза, чтоб не выдать того чувства восторга и счастия, которыми исполняло его ее видимое единомыслие с ним, – но те, которые это про нас говорят теперь, ведь у них было тоже свое прошлое, и не всегда хорошо было в этом прошлом: были войны, и разорение, и невежество, и рабство, как у нас. Но, сколько я знаю, ни один из этих народов не отчаивался в своем будущем, а шел вперед, надеясь и веря, что со временем станет все лучше и лучше…
– Конечно, – быстро возразил Духонин, – потому что каждый из них чувствовал в себе серьезные жизненные задатки для такого будущего.
Она как бы с невольным упреком покачала головой.
– А у нас их нет? И мы в самом деле «fruit pourri», прежде чем еще созрели? Но тогда нам остается только отказаться от самих себя и отдаться в руки первому, кто захочет взять нас и переделать на свой лад…
– Отлично, Елена Михайловна, отлично! – воскликнул Гундуров. – Ну-ка, Духонин, кому будет вам угодно поднести нас: немцам, шведам, католической Польше или всем уж им разом, на дележ?
– Вывод ваш, однако, княжна; я прошу вывода! – сказал на это, засмеявшись, московский западник.
Лина заалела, заметив, что все на линейке примолкли, прислушиваясь к ее словам.
– Все то же, что я уже сказала, – промолвила она, опуская глаза, – Россия, мне кажется, может ждать великого будущего только от тех, кто будет твердо верить в нее, а не отчаиваться в ней.
– Кладу пред вами оружие, княжна, – сказал Духонин полусерьезно, полушутя, – против этого аргумента возражения сейчас не придумаешь.
Сергей ничего не сказал, но он едва удержался, чтобы не соскочить с линейки и тут же на ходу припасть к ее ногам…
Долго еще потом звенело волшебным звуком в его ухе каждое из сказанных ею слов в этом разговоре, и повторил он их с сладостным замиранием сердца.
«Она чувствует по-русски, а мыслит по-европейски», – определял он себе Лину в те редкие часы, когда сам он был в состоянии думать о ней, а не чувствовать ее, – таких еще у нас долго не будет женщин… да и не одних женщин»… Он был прав: тщательное, под руководством просвещенного отца, воспитание за границей, серьезное чтение, постоянное общение с высокообразованными умами, находившимися в близких сношениях с князем Михайлой, – все это сказывалось в ней чем-то не легко выражающимся словами, но проникавшим ее всю, как запах иных, отборных духов, чем-то невыразимо тонким, нежным, идеальным в помыслах ее, в речи, в каждом из ее движений. В ней угадывалось – именно угадывалось — присутствие той высшей культуры ума и сердца, что так мало походит на казовую русскую образованность, на русское воспитание спустя рукава, скользящие по поверхности предметов и явлений и не умеющие сладить ни с каким делом и ни с каким чувством. И именно потому, может быть, что в ней так мало было русского воспитания, чувствовала себя так русскою Лина; потому именно, что не скользила она по поверхности вещей, а привыкла смолоду вдумываться в них, ей было так «узко в Германии…», и полюбить могла она только сына этой ее бедной, темной – и с юных лет неотразимо манившей ее к себе своим «безбрежьем» – родины…
XXV
Утром 20-го числа, только что после первого завтрака, исправник Акулин, еще накануне вечером уехавший встречать графа, подскакал на взмыленной тройке к широкому крыльцу Сицкого. – Едут, едут! – прытко выкидывая из телеги свое грузное тело, кричал он сдавленным, будто только что сорвался с веревки, голосом слугам, выбежавшим в сени на топот его лошадей, – князю доложите, княгине… сейчас прибудут… вот и коляска их видна…
Из-под льва действительно выезжала и мчалась к дому четверня под коляской графа.
Предуведомленный князь Ларион вышел ему навстречу…
Тот, которого в то время коротко и многозначительно в пределах Москвы белокаменной и на всем пространстве кругом просто называли «графом», был лет шестидесяти с чем-то генерал, несколько тучноватый, безусый – по форме александровского времени, которой он не хотел изменить и в новое царствование, – и лысый, по выражению Ольги Елпидифоровны, как арбуз. Эта совершенно голая голова с тремя подвитыми вверх волосиками на самом затылке, отвислыми как рыбьи жабры щеками, небольшими глазками и выступавшею добродушно вперед нижнею губою давала ему совершенно вид старого китайца; но в общем выражении его облика было то что-то свое, самостоятельное и достойное, чем александровские люди заметно отличались от удачливых служак той эпохи, к которой относится наш рассказ. Граф был то, что называется сын своих дел: бедный армейский офицер, воспитанный, как сам любил говорить, «на медную полушку», он счастливою случайностью выдвинут был весьма рано вперед и еще в пору Отечественной войны считался дельцом. Сорока с небольшим лет от роду он был уже большой человек в служебной иерархии, богато женат, получил графский титул… Но в годы аракчеевской силы он один из весьма немногих имел мужество не кланяться временщику, в буквальном значении этого слова, – а чрез несколько лет затем с министерского поста вышел в чистую отставку вследствие того, что одно из его представлений не получило чаемого утверждения. О мелком своем происхождении и первоначальной бедности он говорил всегда с какою-то особенною гордостью, а тому, первому своему, давно умершему начальнику, который вывел его из темных рядов армии, он в любимом своем имении, под окнами своего кабинета, поставил в саду бронзовый памятник с надписью: «моему благодетелю».
Таков был человек, который, пробыв в отставке целых 18 лет, призван был снова затем на высокую должность, которою он правил теперь, – и правил, как правили в те блаженные времена, – с произволом трехбунчужного паши и с мудрою простотою Санхо-Пансы на острове Баратарии1.
Он вылез из коляски вслед за выскочившим вперед чиновником, сопровождавшим его, и принялся лобызаться с князем Ларионом.
– Здравствуй, очень рад тебя видеть, – он говорил короткими, словно остриженными фразами, с полным отсутствием всяких вводных и придаточных предложений, – нарочно заехал, потолковать надо! Места все знакомые, – он глянул кругом, – в одиннадцатом году были у твоего старика с графом Барклаем2; тогда он князем не был. Что княгиня? – спрашивал он, подымаясь на лестницу.
Все это говорилось, точно он акафист читал, подряд, безо всякого повышения иди понижения голоса, причем его китайское лицо сияло добродушнейшею и самодовольнейшею улыбкою.
– Она вас ждет, – отвечал князь, – но прежде всего вопрос: не хотите ли позавтракать?
Тот приостановился на ступеньке и приподнял обе руки ладонями кверху.
– Не хочу. Никогда не завтракаю. Что племянница?
– Слава Богу!
– Милое дитя! – тем же акафистом пропел граф.
– Cher comte, soyez le bienvenu chez moi3, – заголосила княгиня, встречая его в первой гостиной, где висел «portrait d’ancêtres» – но, вспомнив, что «cher comte» ни слова не понимал ни на каком иностранном языке, предложила ему завтракать по-русски.
Он опять поднял обе ладони кверху и опять повторил то же.
– Не хочу, никогда не завтракаю! А, милое дитя! – и он пошел навстречу входившей в гостиную княжны. – Как ваше здоровье?
Лина присела; он пожал ее тонкие руки своими обеими, пухлыми, как у попа в богатом приходе, руками.
– И шалунья тут же? – пропел он опять, узнавая Ольгу Елпидифоровну, вышедшую вслед за княжной. – Когда опять в Москву? А отцу сказали, что я поручил?
– Сказала, – прошептала барышня и тут же глянула ему в глаза своим забирающим взглядом.
Он умильно улыбнулся и погрозил ей пальцем.
– Шалунья!.. Шажков! – кликнул он через спину приехавшего с ним чиновника, – исправника!
Толстый Елпидифор стоял в ожидании в передней, крестя себя по животу и шепча от времени до времени: «Пронеси, Господи!..»
Он как бомба влетел по зову в гостиную и вытянулся в дверях, будто аршин проглотил.
– Исправник, – запел граф, – говорила тебе дочь, что я поручил?
– Точно так, ваше сиятельство! – еле слышно прошептал он сквозь засохшее от страха горло.
– Помни! Будешь играть – прогоню вон! А шалунью в Москву – петь!.. говорят, голос хорош! – Он погрозил опять бойкой барышне, стараясь как можно лукавее глянуть, в свою очередь, в ее искрившиеся глаза.
– Monsieur Акулин прекрасно на сцене играет! – отрекомендовала его княгиня Аглая, на которую исправник глядел умоляющими глазами.
– Актер? Это хорошо! Графиня (он назвал по имени жену свою), – очень любит театр. Что играете?
– «Гамлета», ваше сиятельство! – прохрипел Елпидифор.
– Не знаю! – и граф приподнял свой ладони.
– C’est sérieux! – объяснила Аглая. – Но они еще играют одно такое смешное…
– «Льва Гурыча Синичкина», ваше сиятельство!
– А! – вспомнил он и ткнул пальцем по направлению исправника. – Живокини4 еще играет?
– Точно так, ваше-с… – чуть не заржал в ответ на милостивый вопрос осчастливленный Елпидифор.
– Хороший актер! – поощрительно отозвалось его сиятельство. – Смешит меня!..
– Не пройдем ли мы ко мне? – предложил князь Ларион, все время морщившийся от этого разговора.
– Пойдем, поговорить надо!.. Шалунья! – Он еще раз погрозился пальцем барышне и отправился, сопровождаемый князем, в его покои.
Шажкова – это был особый тип московского чиновника, служащего из-за «крестишек», нечто среднее между Фамусовым и Молчалиным, крепышок на петушьих ногах и при петушьей надменности, – Шажкова увели кормить…
XXVI
– Я твое письмо отослал, как есть, – говорил граф в библиотеке, усевшись в самую спинку большого вольтеровского кресла и уложив локти по его ручкам, а ножки свои сдвинув крест-накрест; он очень походил в этом положении на индийского бога Вишну.
– И апробуете? – спросил князь Ларион.
– Что же, написал по совести – апробую!
– Я не приму никакого места, связанного с какими-либо полицейскими обязанностями… Не потому, чтобы я отрицал пользу полиции; хорошая полиция при нашем невежестве – все… или почти, и долго еще будет все, – слегка вздохнул князь, – только я на нее не способен… Слишком хорош или слишком дурен, как хотите… – Он усмехнулся.
– Без полиции нельзя! – пропел граф.
– Да, но и она мертвое орудие у них в руках… Поглядите, что делается кругом: воровство, неправосудие, отсутствие ума везде… Вот за чем смотреть, что карать, о чем печалиться!.. А они науки боятся и образованных людей преследуют!.. Припомните мое слово, – с какою-то невольною торжественностью возвысил голос князь Ларион, – здоровую мысль они теперь в подземную трубу гонят; в следующем поколении она у них оттуда или взрывом, или гнильем выйдет!..
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Стихотворение И. С. Аксакова.
2
He’s fat and scant of breath. Ast. V. Sc. II.
3
«Иголкин», драматическое представление Полевого, и 5-актная драма Кукольника «Денщик», весьма долго, как известно, держались на репертуаре Александринского театра в прошлое царствование.
4
Вонми, о небо, и реку!
Земля да слышит уст глаголы!
Как дождь я словом потеку,
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы!
5
Офелия: Для красоты, принц, не лучшая ль подруга чистота? Акт III. Сц. 1.
6
Вздор.
7
Nymph, in your orisons,
Be all my sins remember’d!
8
Под этим заглавием помещен в книге воспитательного характера, пользовавшейся в 30-х годах огромною популярностью в русских семействах, «Conseils á та fille2», соч. Bouilly3, рассказ одного эпизода из жизни творца знаменитого Малек-Аделя (в романе «Mathilde, ou les Croisades»4) и мн. др. сентиментальных героев и героинь г-жи Cottin, женщины весьма благотворительной. Г-жа Cottin носила постоянно одно и то же темное, цвета опавшего листа платье, по которому и узнаёт ее в этом рассказе тайно спасенная ею от гибели девушка.
9
Известный тогда, весьма даровитый актер Малого театра; он держал на Чистых Прудах большой костюмерный магазин.
10
Count Sussex – Суссекс, первый министр Елизаветы.
11
Dadley count of Leicester – Лейчестер, известный фаворит ее.
12
Сцена Гамлета с матерью. Действие III.
13
«Wilhelm Meisters Lehrjahre». Dreizehnte Capitel2.
14
Хомяков.
15
О, вспомни их, орел полночи,
Пошли им звонкий свой привет,
Да их утешит в мрачной ночи
Твоей свободы яркий свет.
Северный орел. Стихотв. Хомякова.
16
Такие приглашения в Англии бывают всегда на срок, по истечении которого гостившие уступают место новым приглашенным.
17
С княжеским титулом в Англии, как и вообще на Западе, всегда соединяется понятие царственного происхождения.
18
В то время особенно славившиеся лондонские фабриканты серебряных изделий.
19
La muette de Portici.
20
Главное место гулянья в Ницце.
21
Понимаете, ваши сиятельства?
22
Did my heart love till now? Act. I. Sc. III.
23
Грановский.