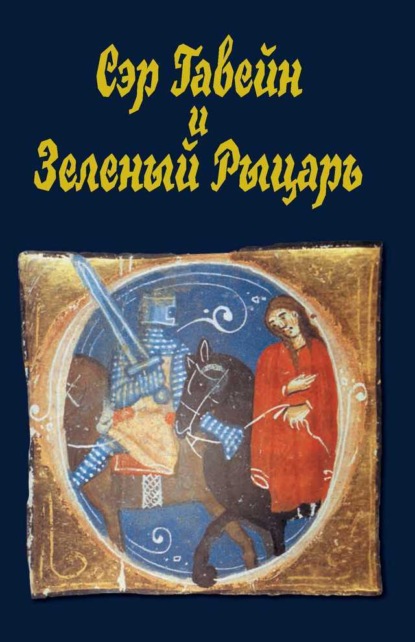Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
– То есть о племенной славянской связи, – поправил, улыбаясь, Гундуров.
– Да-с, да-с, – закивал головой Факирский, – только это у вас гораздо шире понимать следует… Я по крайней мере так понял. Тут между строк прямо выясняется ваш идеал: чтобы «народы, распри позабыв», – все народы-с, не одни славянские, – «в великую семью соединились»5. Так говорил великий Пушкин со слов великого Мицкевича, так думают в наше время и все великие мыслители на Западе… И из вашей диссертации я понял, что вы именно проводите мысль об этом братстве народов на началах свободы и равен…
– Конечно, если угодно вам так понимать… – перебил его наш герой, который в эту минуту все народы и всех мыслителей Запада отдал бы за то, чтоб от него поскорее отделаться; – но вы, кажется, звали нас на сцену?..
– Да-с, там князь и княжна просили всех участвующих в «Гамлете»… Да вот-с уже прямо, искусство, – ухватился опять студент за видимо любезную ему мысль, – вот-с уже первая и неразрывная международная связь! Шекспир, возьмемте, разве он исключительно английский, а не общечеловеческий поэт? Ведь он для немцев еще дороже и выше, чем для англичан, а для нас…
Но Гундуров уже не слушал его более и вслед за Ашаниным направился в театральную залу.
XIII
Репетиция «Синичкина» отошла. На сцене не оставалось уже никого, кроме режиссера и Вальковского, отмечавших по экземпляру «Гамлета» нужные для драмы бутафорские принадлежности. Участвовавшие в ней актеры разбирали свои роли, только что принесенные из домовой конторы. В залу зрителей набралось еще более прежнего, но смеха и говора слышно уже не было; на всех лицах ясно читалось нетерпение, с примесью какой-то торжественности, словно действительно готовилось, по выражению Ашанина, «священнодействие». Но, увы, долг правдивого повествователя заставляет нас признаться, что великий Шекспир был тут ни при чем: общее любопытство относилось не к Гамлету, а к княжне Лине, которая должна была принять в нем участие, – о чем много было тогда речей по окрестным весям и селам. Мужчины, в особенности приезжие москвичи, готовы были заранее отвечать за ее талант; провинциальные барыни и барышни, сжав губы сердечком, ожидали, в свою очередь, выхода «заграничного чуда»…
В передних креслах восседала сама хозяйка между неизбежным Зяблиным и Софьей Ивановной. Княжна, стоя перед ними со свернутою трубочкою ролью своею в руке, равнодушно улыбалась, отвечая на какие-то, очевидно любезные, речи «бриганта»…
При виде тетки Гундурова передернуло; присутствие ее его смущало. Для нее все это — «скоморошество»; он знал, он чувствовал, что она все это осуждает, что ей «совестно» за него…
– Сергей Михайлович, – обратился к нему тут же князь Ларион, сидевший у столика, спиною к сцене и перелистывавший лежавшую перед ним книгу, – согласны ли вы будете на некоторые купюры?
– На что именно? – спросил, подходя, молодой человек, на которого тотчас же и обратились глаза всей залы.
– Это требует некоторого изъяснения, – заговорил князь своим изысканно изящным тоном, – и прежде всего прошу верить в глубокое мое уважение к великому произведению, которое мы взялись теперь исполнить. Я бы не решился выкинуть из него ни йоты, если бы, во-первых, это уже не было сделано господином Полевым, – князь, слегка скривив губы, кивнул на свою книгу, – а главное, если б я не мог сослаться на другой, посильнее этого, авторитет…
– На Гёте? – улыбнулся Гундуров.
– Вы сказали! – улыбнулся и князь, слегка наклонив голову; – благодаря вашей доброй затее, я в эти два последние дня доставил себе наслаждение перечесть самого «Гамлета» и все места в «Вильгельме Мейстере»1, где о нем идет речь…
– Il est si savant, Larion2, он все знает! – прислушавшись к этим словам, сочла нужным, вздыхая, сообщить княгиня Софье Ивановне.
– Très savant3! – бровью не моргнув, отвечала ей та.
– Вы помните, – продолжал тем временем князь Ларион, – что Гёте устами своего героя говорит о тех «внешних, не вытекающих из внутренних отношений лиц и событий, мотивах» в «Гамлете», к которым он относит всю эту скучную историю Фортинбраса, посольство к его дяде, поход его в Польшу и возвращение… Вильгельм Мейстер признает все это «ошибками» Шекспира и предлагает даже целый план переделки драмы…
– Это совершенно так, – возразил Гундуров. – Но этот предлагаемый Гёте план никогда никем исполнен не был, и мне кажется…
Он заикнулся, заметив какой-то, показалось ему, неодобрительный взгляд княжны Лины; она незаметно подошла к столику, за которым сидел дядя, и внимательно слушала…
И князь Ларион заметил этот взгляд.
– Прекрасно-с, – отрывисто проговорил он, – но надо сообразоваться со средствами нашего персонала, а – главное – с публикой, – понизил голос князь, – наскучит, зевать начнут… Я предлагаю исключить Фортинбраса и все, что до него относится… Первую сцену с Тенью можно также вон; non bis in idem4: о ней подробно докладывают Гамлету Горацио с товарищами, и затем она повторяется при его участии…
Новое движение княжны остановило возражение на устах Гундурова.
– И отлично будет, – молвил, подходя, Ашанин, – начнем прямо с выхода двора… Я воображаю заранее, как вы будете величественно восседать на троне. – Он обернулся, смеясь, к Зяблину.
«Калабрский бригант» уныло усмехнулся и скромно потупил очи.
– C’est vrai, vous serez tres bien en costume5! – поощрила его княгиня Аглая, устремив на него свои круглые глаза.
– Mon Dieu6, – шепотом проговорил он, осторожно наклоняясь к ее плечу, – если бы только вы…
Он не досказал, но намерение его дошло по адресу: княгиня подарила его снова поощрительно сладким взглядом.
– А Тень-то у нас кто же играет? – чуть не злобно обратился со сцены к Ашанину Вальковский, подходя к рампе с режиссером.
– А ты нет разве?
– Известно, нет, – буркнул «фанатик», – на то у тебя и дворянская голова, чтобы ею не думать никогда!
– А нету, так мы сейчас клич кликнем, – беззаботно засмеялся красавец. – Господа, – обернулся он к креслам, – кому угодно взять на себя роль Тени отца Гамлета? Она, как известно, должна походить на свой портрет[12] и иметь, следовательно:
И Марса взор, и кудри Аполлона7…
Ему отвечали дружным хохотом.
– Как раз по вас роль! – молвила в унисон этому смеху Ольга Елпидифоровна сидевшему подле нее на кончике стула здоровому молодцу в новеньком фраке, гладко причесанные височки которого, подфабренные усы и вздрагивавшие плечи свидетельствовали с первого взгляда о его недавней принадлежности к доблестным рядам российской армии.
– Чего-с? – переспросил он, не поняв, и выпрямился на своем стуле.
– Я говорю, вам надо предложить себя на роль Тени отца Гамлета.
– Вы полагаете-с?..
– Еще бы! Кудрей у вас, правда, нет, зато настоящий «Марса взор». Марс был бог войны, вы знаете?
– Как же-с, проходили еще в корпусе!..
– Вот видите! Ну, и наружность… и самая фамилия у вас даже воинственная…
– Это действительно-с, – весело рассмеялся и он, – Ранцов – у каждого рядового, известно, ранец бывает… Что же-с, если только прикажете, я всегда… с покорностью, – примолвил он внезапно дрогнувшим голосом и робко поднял на нее так же мгновенно загоревшиеся глаза.
Отставной капитан Ранцов, еще недавно из бедного пехотного офицера неожиданно превратившийся вследствие смерти дальнего, неведомого ему родственника, в помещика одного из лучших по устройству имений в уезде, – был уже год целый страстно влюблен в быстроглазую Ольгу Елпидифоровну, жил из-за нее гораздо чаще в городе, чем в наследованном им прекрасном поместье, и находил средство вечно как из-под земли вырасти везде, где бы она ни находилась. Так и теперь, к немалому ее удивлению, очутился он в Сицком, куда, вздев с утра новый фрак, являлся «с первым визитом» в качестве «соседа». Окончательного признания бравый капитан «своему предмету» делать до сих пор не решался: бойкая барышня обращалась с ним свысока, в лицо глумилась над ним, делала из него чуть не шута. Он сносил ее насмешки и фырканья со смирением легавой собаки, ниспадал в прах пред ее «умом и образованием» и, когда оставался «один со своею мечтою», вздыхал так громко, что вдова-купчиха, у которой он нанимал квартиру в городе и до которой долетали его вздохи сквозь стену, каждый раз вздрагивала и крестилась…
– Monsieur Ашанин, – громко крикнула с места Ольга Елпидифоровна, – Владимир Петрович!..
Словно острие шпаги сверкнули по направлению бойкой особы два глаза – глаза Надежды Федоровны, одиноко сидевшей в дальнем углу, – и тревожно тут же перекинулись на красавца.
– Что прикажете? – отозвался он на кликавший его голос.
– Вот, извольте познакомиться: господин Ранцов, Никанор Ильич Ранцов! Он по скромности своей не решается сам сказать, но, как мне известно, сгорает желанием изобразить собою тень Гамлета… папеньки Гамлета то есть, – поправилась барышня с новым хохотом.
Бедный капитан вскочил на ноги и покраснел до самых бровей:
– Помилуйте-с, Ольга Елпидифоровна, – залепетал он, – как же это мне сгорать-с, когда я, может быть, и вовсе не в состоянии, а единственно из-за вашего желания.
Барышня только покатывалась.
– Так роль прикажете считать за вами? – официальным тоном спросил Ашанин.
– Ну, разумеется! – отвечала за капитана все та же барышня.
Тот поклонился в подтверждение.
– Значит, теперь все налицо! – обернулся Ашанин к сцене.
Вальковского всего даже повело от злости. Он круто повернул на каблуках и ушел за кулису, чуть не громко фыркая:
– Этаких капралов в труппу набирать… Тьфу!..
– Так можно бы теперь записать, Владимир Петрович? – спросил режиссер. – Предварительную афишечку составили бы?..
– Сделайте милость!.. Господа, участвующие в «Гамлете», позвольте легкую перекличку!
Из кресел поднялись, зашаркали… Режиссер стал читать наскоро набросанную им афишу. Актеры отвечали с места: «я» или «здесь».
– Тень отца Гамлета… Господин, господин… – запамятовал режиссер.
– Ранцов, Никанор Ильич, герой венгерский! – визгнула с места опять бойкая барышня.
– Помилуйте-с, за что конфузите! – прошептал, зардевшись еще раз, бедный капитан, – действительно получивший свой чин за отличие в прошлогоднюю Венгерскую кампанию.
Толстый исправник, безмолвно погруженный все время в чтение своей роли Полония, поднял голову и воззрился издали на дочь, как будто побить ее собирался:
– Дура! – пропустил он про себя по ее адресу и снова погрузился в Полония.
– Господа, кто участвует в первом выходе, не угодно ли на сцену! – звал Ашанин. – Клавдио, руку вашу Надежде Федоровне, Гамлет, Полоний, Лаерт, двор, – за ними. Пожалуйте!..
Проба началась.
XIV
С первого выступа Полония на сцену, вслед за королевскою четою, оказалось, что толстый Елпидифор Акулин действительно «родился актером». Он был из тех нервных исполнителей, которые сказываются с первой репетиции, которых с первой же минуты охватывает и уносит горячая волна лицедейства. Он еще не знал слова из своей роли и прищуренными глазами пробегал ее по высоко приподнятой к лицу тетрадке, но он играл уже каждым фибром этого лица, каждым движением своего громоздкого, но удивительно поворотливого туловища. Он был комичен с головы до ног, но ни тени буфонства не было в этом комизме. Старый, преданный и убежденный царедворец, взросший и искушенный в дворских обычаях и переделках, – петербургские воспоминания, очевидно, помогали отставному гвардейцу, – суетливый и осторожный, простодушно-лукавый и лукаво-простоватый, пустой болтун, глубоко верующий в непогрешимость своей дюжинной морали и придворной своей тонкости, тонкий настолько, чтобы всегда быть мнения сильного и не замечать, когда этот сильный делает из него шута, полуплут и полудобряк, – таким уже ясно, понятно для каждого, обрисовывался Полоний в исполнении Акулина. Он сразу завоевал себе «сочувствие публики»: при каждом его появлении слышался смех, возгласы одобрения… Восторгу Вальковского не было конца: он замер за кулисою, прислушиваясь и хрустя пальцами до боли, – и не выдержал наконец, кинулся к исправнику (с которым даже знаком не был), схватил его за плечи:
– Ну, черт тебя возьми, как хорош! – прохрипел он задыхающимся голосом. – И поцеловал его в самые губы…
Как это всегда бывает в подобных случаях, игра Акулина подняла всех остальных актеров. Камертон был дан. Самолюбие каждого из участвующих было возбуждено: в чаянии такого исполнения относиться к своей роли спустя рукава становилось невозможным. Оживление стало всеобщим; то, что предполагалось быть простою первою считкою, вышло настоящею репетициею; актеры становились в позы, читали с жестами, старались давать настоящий тон…
– Гляди-ко, как их всех поддувает! – говорил, потирая себе руку, «фанатик» исправнику, с которым с первого раза стал на ты.
Для таких опытных театралов-любителей, какими были он и Ашанин, успех «Гамлета» в Сицком был с этой первой репетиции обеспечен.
Один сначала Гундуров не чувствовал «приближения бога». Присутствие Софьи Ивановны леденило его. Она это понимала и старалась не глядеть на него, поддерживая разговор с словоохотливою соседкой, – но это еще более его смущало. Он читал вяло, запинаясь, – чувствовал это и бесконечно досадовал на себя, – но не был в состоянии встряхнуться. Его сбивал к тому же незнакомый ему текст Полевого, по которому он должен был говорить роль, между тем как вся она сидела у него в памяти по кронеберговскому переводу…
Так продолжалось до первого выхода Офелии. Княжна в этот день была в светлом летнем платье, и когда она об руку с Чижевским – Лаертом, выступив из темной глубины сцены, подошла к рампе, горячий свет солнца обвил, как венцом, ее золотистые волосы. Обаятельная прелесть ее лебединой красоты как бы впервые открывалась всем в это мгновение. В зале заахали; «как изящна!» – громко воскликнула образованная окружная…
Она успела уже выучить роль и отвечала наизусть на прощальные наставления Лаерта:
– А о Гамлете и его любвиЗабудь, —– говорил ей брат.
…Поверь, что это все мечта,Игрушка детская, цветок весенний,Который пропадет как тень,Не более…Не более?..– повторила Офелия, подняв глаза, и так искренно сказалось это ею, – сказалась тревога и молодая грусть, и неиссякаемое упование в эту «мечту», в этот «цветок весенний», – что ей невольным взрывом откликнулись со всех сторон рукоплескания… А полный той же грусти и тревоги взгляд княжны, скользнув по Лаерту, пробежал далее, остановился на миг на внимавшем ей в кулисе Гундурове и – потух… Сердце ходуном заходило у молодого человека. «Нет, не может быть! Этот взгляд! Это случайность, случайность одна!» – спешил он отогнать от себя обольстительный помысел… А в то же время он весь замирал от неизъяснимого блаженства и слушал – слушал, упиваясь звуками ее тихого голоса:
Он о любви мне говорил,
– печально признавалась отцу Офелия.
Но так был нежен, так почтителен и робок!..
И неотразимо лились ему в грудь эти слова… Он был Гамлет, – о нем говорила Офелия!..
Не он один внимал ей с этим трепетом, с этим замиранием. Повернувшись боком к зрителям, опершись локтем о стоявший подле него столик, безмолвно и недвижно сидел князь Ларион, прикрыв лицо свое рукою. Он видимо избегал докучных взглядов, но зоркий глаз исправника Акулина разглядел со сцены, как слегка дрожали длинные пальцы этой руки, а сквозь них пылали устремленные на княжну неотступные зрачки…
Все смущение теперь соскочило с Гундурова; сильною, верною, полною живых драматических оттенков интонациею повел он следующую затем сцену свою с Тенью, несмотря на то что эта бедная Тень устами храброго капитана Ранцова читала таким дубоватым и могильным голосом, будто не для того она являлась на землю, чтоб возбудить сына к отмщению, а затем, чтобы прочесть над ним отходную. Храбрый капитан ужасно старался и чем более старался, тем хуже выходило; он не дочитывал, пропускал целые стихи, обрывал на полуслове, кашлял и сморкался, – все это к невыразимому негодованию Вальковского и к немалой потехе бойкой барышни, помиравшей на своем диванчике, безо всякой жалости к своему пламенному обожателю. Она смеялась, впрочем, не столько потому, что ей было смешно, сколько для того, чтобы приковывать внимание Ашанина, который, в свою очередь, пожирал ее украдкою со сцены. Вся эта игра, как ни был осторожен наш Дон-Жуан, не ускользала от ревнивых взоров Надежды Федоровны. Целый ад кипел в душе бедной девы… На минуту очутились они вдвоем за кулисами:
– Скажи мне, – вскинулась она вдруг, схватывая его за руку, – скажи хотя раз в жизни правду: любишь ли ты меня, или с твоей стороны все это был обман, один обман?..
Прочь, мой друг, слова,К чему клятвы, обещанья1?– пропел он ей в ответ словами романса Глинки, глядя ей прямо в лицо и освобождая свою руку.
– Без шутовства, прошу вас! – бледнея и дрожа, заговорила она опять. – Отвечайте, вы меня затем лишь погубили, чтобы кинуть меня к ногам этой презренной девчонки?
– Прекрасный друг мой, – комически вздохнул красавец, – после пьянства запоем я не знаю порока хуже ревности!
Слезы брызнули из глаз перезрелой девицы:
– О, это ужасно! – всхлипнула она, едва сдерживая истерическое рыдание…
– Да, ужасно! – повторил внутренне Ашанин. – И черт меня дернул!..
Репетиция шла своим чередом. Пройдены были два первые акта. Гундуров сознавал себя все более и более хозяином своей роли. Монологи свои он читал наизусть, по заученному им тексту; его молодой, гибкий голос послушно передавал бесконечные извивы, переходы и противоречия, по которым, как корабль меж коралловых островов, бежит гамлетовская мысль. Ему уже жадно внимали слушатели; князь Ларион покачивал одобрительно головою; сама Софья Ивановна приосанилась и не отводила более от него глаз. Всеми чувствовалось, что он давно освоился с этою передаваемою им мыслью, с этим своеобразным языком, что он вдумался в эту скорбную иронию, прикрывающую как блестящим щитом глубокую язву внутренней немощи… Но сам он в эту минуту исполнен был ощущений, так далеко не ладивших с безысходным отчаянием датского принца!.. Княжна была тут, он чувствовал на себе взгляд ее, она внимала ему, как другие, – более чем другие, сказывалось в тайнике его души… И помимо его воли прорывались у него в голосе звенящие ноты, и не раз не тоскою безмерной, а торжествующим чувством звучала в его устах ирония Гамлета…
– Не забудьте классического определения характера, который вы изображаете, – заметил ему князь Ларион после монолога, следующего за сценой с актерами, – «в драгоценный сосуд, созданный быть вместилищем одних лишь нежных цветов, посажено дубовое дерево; корни его раздаются, – сосуд разбит»[13]. У вас слишком много силы; при такой энергии, – усмехнулся князь, – вы бы, не задумавшись, тут же зарезали господина Зяблина, если бы он имел несчастие быть вашим отчимом; а вот на это-то именно Гамлет не способен…
Гундуров только склонил голову; князь был тысячу раз прав, и сам он это знал точно так же хорошо, как князь… Но где же было ему взять бессилия, когда в глазах его еще горело отражение того взгляда тех лазоревых глаз?..
– Ne vous s’offensez pas, – успокоивала тем временем Зяблина княгиня Аглая Константиновна, – il plaisante toujours comme cela, Larion3!
– У вас сейчас, кажется, будет сцена с Офелиею, – как бы вспомнил князь Ларион, – там есть некоторые… неудобные места… Ее надо бы было предварительно почистить…
– Я хотел только что напомнить вам об этом, – сказал Гундуров и покраснел до самых ушей.
Лицо князя словно передернуло…
– Oui, oui, Larion, – залепетала, услышав, княгиня Аглая, – je vous prie qu’il n’y ait rien de scabreux-4!..
– Господа, – обратился он к сцене, – я предлагаю отложить продолжение вашей пробы до вечера. Во всяком случае до обеда недалеко, кончить не успели бы. – Пройдем ко мне, Сергей Михайлович!
Наш герой последовал за ним с Ашаниным.
XV
Was ist der langen Rede kurzer Sinn1?
Князь Ларион Васильевич занимал в Сицком бывшие покои своего покойного отца. Это был целый ряд комнат, омеблированных в начале нынешнего века, во вкусе того времени, и с того времени оставшихся нетронутыми. Длинноватые размеры и узкие очертания столов, консолей и диванов на ножках в виде львиных лап, золоченые сфинксы и орлы полукруглых кресел в подражание консульским седалищам древнего Рима, вычурные вырезки тяжелых штофных занавесей с бахромою из перебранных золотым шнурком и синелью2 продолговатых витушек, черно-бронзовые туловища, поддерживающие на головах изогнутые рукава светлых канделябр – все это невольно приводило на память поход Бонапарта в Египет, нагих гладиаторов и Ахиллесов академиста Давида3, Тальму в корнелевом Цинне4 и паром тильзитского свидания в описании Дениса Давыдова5… От всего этого веяло чем-то сухим, но важным, – поблеклым, но внушительным. Кабинетом служила огромная библиотека в два света, в которой собрана была ценная наследственная движимость Шастуновых, доставшаяся лично князю Лариону по разделу с братом. Тут, между старинными резными багетами и шкафами черного дуба, полными редких, дорогих изданий, висел большой портрет старого князя на боевом коне, в генерал-аншефском мундире, со шпагою в руке и Андреевскою лентой6, волнующейся по белому камзолу. Рядом с ним глядели из почернелых рам товарищи его по Ларге и Италианской кампании: Румянцев, Суворов, Кутузов, Багратион7… Мраморный Потемкин, красивый и надменный, стоял на высоком цоколе из черного дерева, на котором в венке из серебряных лавров читались начертанные такими же серебряными буквами два известных стиха Державина:
Се ты ли счастья, славы сын,Великолепный князь Тавриды8?а на противоположной стене – сама «Великая жена», в фижмах, на высоких каблуках, с брильянтовым орденом на левом плече, писанная Лампи9, улыбалась с полотна своего очаровательною улыбкой… Несколько картин мифологического содержания опускались над карнизами библиотеки. Копия с «Психеи» Кановы10, деланная им самим, отражалась в зеркале на яшмовом камине. На глянцевых досках столов тончайшей флорентийской мозаики расставлена была целая коллекция фамильных женских портретов – прелестные акварели на кости работы Изабея и Петито11, темноокие красавицы в высоких пудреных прическах à la jardinière12 или с рассыпанными, à la Récamier13, кудрями по обнаженной груди и плечам…
Глаза Ашанина так и разбежались на роскошных нимф и Киприд14, словно возрадовавшихся ему со стен, как своему человеку, едва вошли они вслед за хозяином в его покои…
– Ваше сиятельство, – засмеялся он, – это, наверное, вам писал Пушкин:
15-Книгохранилище, кумиры и картины…
– И прочее тут все, – прибавил от себя Ашанин, обводя кругом рукою. —
Свидетельствуют мне,Что благосклонствуешь ты музам в тишине-15!– К сожалению, не мне, – улыбнулся и князь, – а музам, не скрываю, служил и я когда-то… Время наше было таково, – я старый Арзамасец16!.. Где бы нам удобнее усесться, господа? – спросил он, окидывая взглядом кругом.
– Да не прикажете ли вот тут? – указал Ашанин на большой, покрытый до полу сукном рабочий стол князя, приставленный к одному из окон и уложенный портфелями и кипами всякого печатного и писанного материала, – там, кажется, все, что нам нужно, карандаши, бумага…
Он не договорил: и в синей бархатной раме большой, очевидно женский, акварельный портрет, – на который ужасно манило его взглянуть поближе.
– Пожалуй! – с видимою неохотою согласился князь, направляясь к столу.
– Княжна! – воскликнул Ашанин, подойдя. – Как хорош, и какое удивительное сходство! Это верно в Риме делано?
Гундуров не смел поднять глаз…
– В Риме! – отвечал князь Ларион тоном, явно не допускавшим продолжения разговора об этом… Он уселся на свое прелестное кресло перед столом. – Итак, господа…
Они принялись «очищать „Гамлета“ – ad usum Delphini17», – с не совсем искреннею насмешливостью говорил князь. Но Гундуров оказался здесь еще более строгим, чем он сам: он урезал в своей роли все слова, все намеки, которыми Гамлет в унылом разочаровании оскорбляет чистоту Офелии. В первом разговоре его с нею выкинуты были двусмысленные его речи о несовместимости женской красоты с «добродетелью» (слово – неправильно передающее в русских переводах английское honesty). В сцене театра герой наш безжалостно пожертвовал традиционною, со времен Гаррика18, и эффектнейшею для актера позою Гамлета, который слушает представление, откинувшись затылком на колени Офелии. Положено было, что вместо слов: «могу ли прикоснуться к вашим коленям?» Гамлет скажет: «позволите ли прилечь к вашим ногам», и, вслед за ее согласием, тотчас же перейдет к реплике: «и какое наслаждение покоиться у ног прелестной девушки!» и усядется, как указано в драме, у ее ног, но не прямо перед нею, а несколько сбоку, – так, как он представлен на соответствующем рисунке в известном «Гамлетовском альбоме Ретча19». Таким порядком, употребляя выражение образованной окружной, «и ситуация была соблюдена, и конвенансы спасены»… Князь Ларион, знакомый с «Гамлетом» только по английскому тексту, напомнил было о песне про Валентинов день, которую поет в безумии своем Офелия, – но выходило, что в переделке Полевого из песни этой изъят был тот «скабрезный» смысл, какой она имеет у Шекспира, и, благодаря хорошенькой музыке Варламова20, она пелась в то время российскими девицами во всех углах государства: