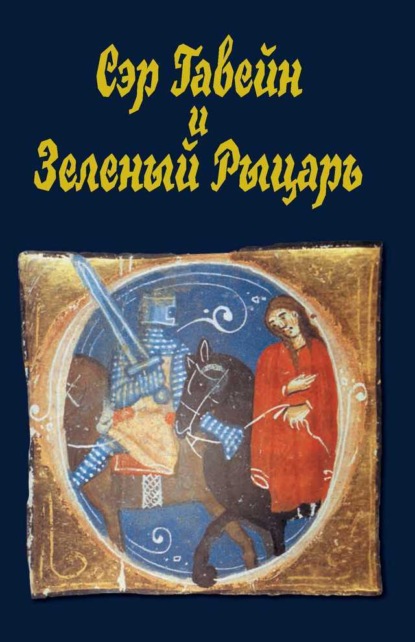Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
Покончив с этим, – Ашанин отмечал на режиссерском экземпляре урезанные ими места, – собеседники на миг замолкли. Князь слегка откатил свое плетеное кресло от стола и повернулся всем лицом к Гундурову:
– К делу от безделья, – начал он неожиданно, очевидно, наладив свои уста на улыбку, – что вы думаете из себя делать теперь, Сергей Михайлович?
Как потоком холодной воды обдало Гундурова. Из мира золотых снов его сразу опрокидывало в самую неприглядную действительность. Он остался без ответа.
– Смею надеяться, – продолжал князь Ларион с тою же деланною улыбкой, – что вы не почтете мой вопрос за нескромное любопытство. Я знал еще вашего покойного батюшку – и очень ценил его… Старые отношения наших семей… наконец мои годы – я вам чуть не дедом мог бы быть – все это если не дает мне прав, то в некоторой мере может служить мне извинением. К тому же сегодня из нескольких слов, которыми я успел обменяться с Софьей Ивановной, я мог предположить, что она очень о вас беспокоится.
Он приостановился. Гундуров сосредоточенно внимал ему… Еще внимательнее слушал Ашанин.
– Я сам не знаю, что мне предпринять! – сжав брови, проговорил наконец герой.
– Я думал о вас эти дни, – заговорил снова князь. – Когда я в тот раз имел удовольствие беседовать с вами, я вам говорил: терпение и душевная бодрость!.. Сегодня повторяю вам то же. Теперешнее… – он искал слово, – теперешнее… течение должно наконец измениться… так или инако… Ненормальные положения долго не длятся, – словно проглотил он. – Но не в этом дело. Прося о заграничном паспорте в той форме, в каковой вы это сделали, вы поступили как неопытный юноша, обратили на себя внимание, когда теперь у нас только тому и жить можно, кто проходит незамеченным. Дело вашей профессуры может от этого пострадать, я от вас не скрою… Все это, однако, дело поправимое. Мне не нужно вам говорить, что я и… отношения мои в Петербурге к вашим услугам с этой же минуты… Но я прямо вам говорю, что ранее года возобновить дело о вашей поездке за границу и думать нельзя…
– Если бы еще через год! – воскликнул Гундуров.
– Вы имеете для этого, по-моему, в руках верное средство.
– Я? какое? – с изумлением спросил тот.
– Отправляйтесь, не медля, путешествовать по России!
Ашанин закусил себе губы до боли. Приятель его растерянно поглядел на князя:
– По России? – мог только повторить он.
– Точно так-с! Формально повинуясь резолюции, воспоследовавшей на вашей просьбе; там – как бишь было сказано: «изучать славянский быт можно от Москвы и до Камчатки?..» До Камчатки доезжать вам, разумеется, не для чего, – усмехнулся князь Ларион, – а побывать на Урале, в Оренбургском крае и на Кавказе, уверяю вас, принесло бы вам столько же удовольствия, сколько и пользы. А через год – я берусь за это – о вас будет сделано представление, в котором пропишется, что вот вы, с покорностью приемля сделанное вам указание, совершили этнографическую поездку по России, а теперь проситесь для той же цели в славянские земли… И поверьте моей старой опытности – это будет очень хорошо принято, и вас не только отпустят, но будут иметь в виду как молодого человека благонадежного…
– Конечно, это может быть, – бормотал Гундуров, не успев еще собрать свои мысли, – но ехать так, без определенной цели… У меня есть специальность…
– Специальность ваша остается при вас, – возразил ему князь, и еще раз деланная улыбка зазмеилась вдоль его длинных губ, – но позвольте одно замечание: вам двадцать три года, вы носите старинную фамилию, у вас хорошее состояние; думаете ли вы отдать всю вашу жизнь этой вашей специальности?
– Почему же нет?
– Просто потому, что это, я полагаю, вас удовлетворить не может, – да еще потому, что не таков еще у нас общий уровень просвещения, чтобы вообще наука могла быть у нас для человека тем, что называют карьерой. И в Германии Савиньи и Бунзены21 меняли свои кафедры на министерские кресла; а в России подавно для молодых людей, как вы, кафедра может быть только ступенью…
– Я не честолюбив, – сказал сухо Гундуров, – и на министерское кресло не претендую.
– Прекрасно-с, – и губы князя словно судорожно повело, – вы не честолюбивы, вы единственно желаете быть профессором; но профессуры вам пока не дают, и вы можете получить ее лишь при известной расстановке шашек, которую я имел сейчас честь представить вам, но пользу которой, как кажется, вы не совсем признаете. Затем, любезнейший Сергей Михайлович, – примолвил он, видимо сдерживаясь, – я позволю себе спросить вас: что же предстоит вам теперь в Москве, какая деятельность, какие живые интересы? Ваши книги, «специальность» ваша, как вы говорите, – чудесно! Специальность эта, кстати заметить, имеет, так сказать, два фаса: с одной стороны, то, что у вас называется «славянская наука», с другой – политического рода стремления, которые разумеются теперь под именем славянского вопроса. Там, где все это имеет положительное, разумное значение, – в славянских землях, в Праге, – на первом плане стоит, разумеется, последнее, а не первое. Сама эта «славянская наука» – последствие пробудившегося там национального самосознания, а не наоборот… Вы русский, имеющий корни в русской земле, а не на берегах Валдавы… То, что там – живая действительность, для вас – насилованная фантазия и дилетантизм!.. И мечтаете-то вы все здесь по этому поводу вовсе не о том, о чем они там мечтают!..
Он говорил спешно, отрывисто, несколько желчно, и только изредка взглядывая на своего собеседника:
– Стихи Алексея Степановича[14]22 прелестны, и сам он замечательно умный человек, с которым я имел случай довольно часто беседовать нынешнею зимой… Но ведь все это – одна поэзия, к несчастию!.. Славянское единство! Кто его хочет в действительности?.. Как у нас на это глядят сверху, лучшим ответом может вам послужить резолюция на вашем прошении… А они там, я полагаю, «на яркий свет» нашей «свободы»[15] не согласятся променять свои, даже австрийские, порядки! – снова точно проглотил князь и, нахмурясь, отвернулся к окну, как бы недовольный собою…
– Я не могу с вами согласиться, – начал было возражать Гундуров, – славянское единство – это все будущее наше!..
– Виноват-с, – прервал его князь, – об этом мы когда-нибудь с вами в другой раз… Я совершенно напрасно уклонился в сторону… Мы говорили о вас, о том, что вас ожидает. Я хотел только сказать, что для вас, как для русского, отпадает самая интересная, живая сторона вашей «специальности». Остаются вам, следовательно, – не совсем естественно засмеялся князь Ларион, – «Любушин Суд» и исторические памятники Святого Вячеслава23… Воля ваша, этим нельзя наполнить всю жизнь в ваши лета. Что же-с затем, в теперешнем положении вашем, даст вам Москва? Что вы будете делать? Изнывать в бесполезных сетованиях в тесном кружке друзей, слушать каждый вечер все ту же болтовню московских умниц, играть в детской в Английском клубе?.. Не думаете же вы, я полагаю, – с новым смехом примолвил он, – обзавестись своим домком от скуки, жениться, как женятся в Москве, в 23 года от роду, не создав себе положения, ничего еще не сделав ни для общества, ни для самого себя?..
И старый дипломат времен Венского конгресса24 – словно только и ждал он этой минуты – остановил теперь на молодом человеке долгий, пристальный взгляд.
– Вот он, «длинной речи краткий смысл!» – проговорил внутренно Ашанин и, в свою очередь, с беспокойством воззрился в лицо приятелю.
Но ни он, ни князь не прочли на нем того, чего ожидали. Гундуров не понял; пойми он, его молодое самолюбие разразилось бы, вероятно, каким-нибудь горячим, неосторожным ответом… Но разве он думал о «женитьбе», разве у него были какие-нибудь планы, какая-нибудь определенная мысль? «Ловкий подход» князя, как говорил себе в эту минуту Ашанин, прошел мимо, даже незамеченный нашим героем. В прослушанных им речах для Гундурова звучало лишь отражение мнений и доводов его тетки, с которою, надо быть, объяснял он себе, князь говорил о нем, пока они с Ашаниным курили в саду… Никаких личных намерений он со стороны князя не предполагал, – да и что он мог предполагать? Князь говорил дело, – кроме разве о «славянском вопросе», который он «разумел по-Меттерниховски25», на что у Гундурова и были готовы возражения «на будущий раз». А затем то, как предлагал князь «расставить шашки», чтобы устроить на будущий год его поездку за границу, даже очень понравилось Гундурову… Только «не теперь, не теперь, и поскорее кончить с этим разговором!» – внутренне восклицал он…
– Князь, – сказал он громко, – я поставлен теперь в такое положение, что мне действительно, кажется, ничего более не остается, как последовать вашему совету. Я переговорю с тетушкою, и она, вероятно, ничего не будет иметь против такого моего путешествия… А на будущий год позвольте уж мне серьезно рассчитывать на ваше содействие…
Морщины разом сгладились с чела князя Лариона. Он встал и протянул руку Гундурову.
– Я вам от души добра желаю, Сергей Михайлович, знайте это! – искренно, почти горячо проговорил он.
Молодой человек был тронут – и с безмолвным поклоном пожал поданную руку…
В это время по всему дому раздался трескучий звон китайского гонга.
– Одеваться! – весело и насмешливо объяснил князь. – Я должен предварить вас, Сергей Михайлович, что княгиня Аглая Константиновна бывала в английских замках и их обычаи перенесла теперь в Сицкое: к обеду у нее являются не иначе, как во фраке и белом галстуке. Звон этого гонга обозначает: к туалету; через час позвонят на дворе – к обеду. Соображайтесь…
Приятели наши поклонились и вышли.
Князь Ларион прошел за ними несколько шагов, медленно оборотился и, когда они исчезли в соседней комнате, вернулся к своему рабочему столу, сел против портрета племянницы и, подперев голову обеими руками, погрузился в глубокую, сладкую и мучительную старческую думу…
XVI
– Каково, ядовит старик-то этот? – заговорил Ашанин, как только сошли они с лестницы на двор, по пути к своим комнатам.
Гундуров с изумлением поднял голову.
– Да что ты, лицемер или простофиля? – даже рассердился его приятель. – Ты в самом деле не разобрал, к чему он вел речь?
– К чему? – рассеянно повторил наш герой. – Он советовал мне ехать по всей России…
– Боже мой, как бестолков этот ученый народ, – воскликнул Ашанин, – да ведь это ж он тебе в рот положил! Весь этот разговор об его участии к тебе, о старых связях, о славянофилах, о твоей карьере, и чего он тут ни наплел… – неужто ж он даром стал бы кидать свои слова?.. Ведь все же это подведено было к тому, чтобы как можно любезнее предварить тебя заранее, что «княжну не выдадут за 23-летнего человека», который «не создал себе еще никакого положения» – и чтоб ты, значит, отложив всякое попечение, отправился «не медля» путешествовать по киргизским степям!.. Или ты пропустил мимо ушей его слова?..
Гневом, стыдом и страданием исказилось все лицо Гундурова.
– К чему ты мне это говоришь? – обернулся он на приятеля с побледневшими губами.
– Как к чему, Сережа?..
– Да, к чему? Ведь ты знаешь… что я никаких намерений… княжен сватать не… имею, – едва находил он силу выговаривать.
– Я знаю, Сережа, но…
– Ты… ты привез меня сюда, играть… играть, а не… Ты… или этот князь… вы… Что вы хотите от меня наконец! – почти взвизгнул Гундуров.
– Да ничего же от тебя не хотят… Сумасшедший!
– А не хотите, так оставьте вы меня все в покое!.. – И, махнув отчаянно рукою, он побежал к флигелю, на крыльце которого давно его ждал Федосей.
Чернокудрый приятель его остановился посреди двора, не зная, идти ли за ним, или дать простыть его первому пылу.
– Однако, – говорил он себе мысленно, – как он врезался, бедняга!.. И это с двух… чего? – с одного разу! Вот эти девственные, загорятся сразу, как копна горят!.. И отвести его теперь поздно… Станет он теперь мучиться, безумствовать, – и я ведь знаю его, он на все способен; я помню, как в пансионе он из второго этажа выскочить хотел, когда его вздумал высечь инспектор… Весь вопрос теперь в том, что она, разделяет ли?.. Сегодня она меня что-то очень подробно расспрашивала о нем… С другой стороны, эта нотация князя… Так или иначе, жар-птицу, по-моему, добыть легче!.. Эх, Сережа, мой бедный, надо же… И это они называют жизнью? Нет! – И в подвижном воображении Ашанина закопошились тут же обычные представления, – нет; вот эту быстроглазую Акулину, например, «к груди прижать во тьме ночной» – дело будет другое!.. А все же так этого оставить нельзя! Раз Сережа избегает даже говорить со мной, надо предварить его тетушку.
И Ашанин вернулся в дом – отыскивать г-жу Переверзину.
В это же время в одной из садовых беседок, куда по выходе из театральной залы исправник Акулин увел свою дочь, происходил между ними следующий разговор:
– Потрудитесь объяснить мне, сударыня, – говорил родитель, отдуваясь от спешной ходьбы, – на что тебе нужно Ранцова пред всем обществом шутом выставлять, – а?
– А вам-то что до этого? – отвечала на это дочка. – И для этого только вы меня сюда и увели? Я даже понять не могла, что за смех такой!..
– А что я тебе скажу, – возразил исправник, – что он, видя твое грубиянство, плюнет и откланяется тебе!..
– Во-первых, не говорите «плюнет», потому что это в высшей степени mauvais genre1, и вы, как сами служили в гвардии, должны знать это! Во-вторых, мой капиташка откажется от меня только, когда я сама этого захочу. В-третьих, ну, он откажется: что ж за беда такая?
– А такая, что после кощея этого, Тарусова, что ему четвероюродным каким-то приходился, досталось ему нежданно-негаданно богатейшее имение, да тысяч сто на старые ассигнации денег, что он любую княжну в Москве за себя может взять, – вот что! А у нас с тобой жаворонки в небе поют, да и все тут!..
Бойкая барышня вспыхнула, как пион:
– Что ж, это вы мне никого лучше найти не могли, как армейского, необразованного Ваше благородие? Разве я на то воспитывалась в институте, чтоб капитаншею быть? Разве…
– И, матушка! – перебил ее, махая руками толстый Елпидифор. – Вас там что цыплят у ярославского курятника, штук шестьсот зараз воспитывается; так на всех-то на вас, пожалуй, Ваших светлостей и не хватит.
– Да разве я была как все, как все шестьсот? Когда вы меня брали, вы не помните разве, что вам сказала maman? – назвала она институтским языком начальницу заведения. – «Notre cher rossignol2», – сказала она вам про меня; она чуть не плакала, что вы меня взяли до выпуска… Я на виду бывала! Меня все знали, баловали, все из grand monde’a3, кто ни приезжал… Сама государыня сколько раз заставляла петь!.. Если бы вы не взяли меня тогда, я могла с шифром выйти, я из первых училась, – могла бы ко Двору попасть за голос, как фрейлина Бартенева; grande dame4 была бы теперь!.. И после этого я должна, по-вашему, отставною капитаншею сделаться?
Она чуть не рыдала; но вдруг вспомнила, оборвала – и, подступая ближе к отцу:
– Да что вам вздумалось мне теперь про него говорить, – спросила она, – когда вы знаете, кого я имею в предмете?
– Вот то-то, матушка, – вздохнул на это исправник, – когда б ты не так пылка была, да не закидывала меня твоими гранд-дамами, так у нас, пожалуй, лад бы вышел иной. – Ты с чего взяла, во-первых, что он к тебе склонность имеет?
– Я же говорила вам – когда я сюда приехала гостить, в первый же день старуха (увы, что сказала бы княгиня Аглая Константиновна, если бы знала, как ее обзывала барышня!) заставила меня петь, и я спела: «Я помню чудное мгновенье5». Он был вне себя от восторга, подошел, несколько раз жал мне руку, даже поцеловал один раз, кажется, и потом каждый вечер заставлял петь, – все опять «Я помню», шутил, любезен был… Ну, известно, как когда человек занят женщиною… Вы тогда приехали, и я вам рассказала… И вы тогда сами мне сказали: «Гляди, Оля, умна будешь, большого осетра можно выловить!» Ведь говорили вы?
– Говорить говорил, не отказываюсь, – Елпидифор Павлыч почесал себе за ухом, – говорил потому, что эту шастуновскую породу знаю, – слышал! Покойный князь Михайло Васильевич в свое время пропадал из-за женщин… Этот опять, когда товарищем министра был, – я в лейб-уланском полку еще служил, – в Петергофе по летам жила его тогдашний предмет, замужняя, одного доктора жена, красавица!.. Я всю эту историю знал… Муж ни за что разводной ей дать не хотел, а то бы он на ней непременно женился. Всем пренебрег, имя свое, место, в фаворе каковом был тогда, – все это ему было нипочем! Всем жертвовать был готов ей… Только она вскорости тут умерла; так его сам Государь, говорят, после этого за границу послал, а то мало с ума не сошел от горя… Так вот, зная, раз, какие они люди страстные; во-вторых, что под старость еще сильнее бывает эта слабость, – что ж, думаю, попытка не пытка; авось и с нашей удочки клюнет!.. Ты же у меня родилась такая, что у тебя на мужчину в каждом глазу по семи чертей сидит…
– Я вас и послушалась, – молвила Ольга Елпидифоровна, невольно усмехнувшись такому неожиданному определению ее средств очарования, – и все повела, как следует…
– Ну и…? – крякнул, подмигнув, исправник.
– Что «ну?..»
– Ни с места?..
– Да, действительно, – сжав в раздумьи брови, созналась барышня, – я в эти последние дни стала замечать…
– То-то!.. И, по-твоему, как это понимать надо?
– Стар… выдохся! – Она презрительно повела плечом.
– Ан и ошиблась!.. И я ошибся, – повинился достойный родитель.
– Что же по-вашему? – Она остановила на нем расширенные зрачки.
– И не выдохся, и даже очень пылает… да только не про нас!..
– Что-о? – протянула Ольга Елпидифоровна, – он влюблен… в другую?..
– А сама-то и не заметила! – Он закачал головою. – Эх вы! Прозорливы, только пока самолюбием глаза вам не застелет!..
– Да в кого же, в кого же, говорите? – И она нетерпеливо задергала отца за рукав.
Толстый Елпидифор поднялся со скамьи, обошел кругом беседки, заглянул в соседние кусты, сел опять, привлек к себе за руку дочь и шепнул ей на ухо:
– В княжну!
– В племянницу? – вскрикнула барышня. – Не может быть!..
Исправник зажмурил глаза и повел головою сверху вниз:
– Есть! – прошептал он. – По полицейской части не даром двенадцатый год служу, с меня одного взгляда довольно!..
– Ах он противный! – еще раз вскрикнула Ольга Елпидифоровна.
– Ссс!.. Halt's Maul6! – говорят немцы. И Боже тебя сохрани хотя видом показать, что ты об этом почуяла!.. Ты там себе, матушка, гранддамствуй сколько тебе угодно, только помни одно, что отец у тебя, – горшок глиняный; так чугунные-то ему, только притронься, все бока протычут… А брюхо у меня объемное, сама видишь, есть много просит…
Барышня примолкла и опустила голову. И у нее теперь, как у лафонтеновской Перреты7, лежала в ногах разбитая молочная кринка, на которой строила она свое воздушное княжество…
– Как же быть теперь? – проговорила она озабоченно.
– Как быть? – повторил толстяк. – Очень просто! я тебе сейчас…
– Нет! – перебила она и топнула ногою. – Вы мне про Ранцова и говорить не смейте!.. Хоть бы сами подумали: ну, что я из него могла бы сделать?.. Нет, я уж лучше за Мауса пошла бы!..
– За стряпчего-то? – исправник скорчил гримасу.
– Он не стряпчий просто – он правовед! На тридцать первом году он будет статский советник, он мне сам на бумажке высчитал. Я все чины знаю и производство – выходило верно!.. И у отца его большая практика, и он один сын…
– Как знаешь! – пожал плечами Акулин. – Только вот что, Оля, – примолвил он, как-то странно помаргивая своими заплывшими глазками, – ты уж Ранцова не срами!.. Для меня хоть!..
Она глянула ему прямо в лицо:
– Опять профершпилились8?
– Такое чертовское несчастье! – вскрикнул он, ударяя себя что мочи по боку. – Третьего дня у Волжинского пять талий сряду, – в лоск!.. Последние десять целкашей, сюда едучи, отдал… То-есть, à la lettre9, ни гроша!..
– Вы капитану сколько уж должны? – спросила барышня.
– Семьсот… кажется! – неуверенно пробормотал он.
– А теперь сколько вам надо?
– Да если б… полтысячки дал…
– Хорошо, я ему скажу.
– Ах ты мой министр финансов! – восторженно возгласил толстый Елпидифор, схватил обеими руками дочь за голову и звучно чмокнул ее в лоб.
– То-то министр! – досадливо промолвила она, поправляя прическу. – А вы-то… – Она не договорила и ушла из беседки…
– А ты все же погоди, старикашка противный, – утешала она себя по пути, – я тебе отомщу!..
Как она ему отомстит, она, разумеется, не знала…
XVII
Ашанин стоял перед Софьей Ивановной в комнате, которую она занимала в большом доме, со шляпою в руке, готовый уйти. Он только что успел передать ей разговор их с князем, «припадок» Сергея и свои опасения за него…
На умном лице Софьи Ивановны читалось заботливое раздумье – она обсуждала и соображала:
– Что он (то есть князь Ларион), – говорила она, – сказал это в том намерении, вы не ошибаетесь, и я даже не могу на него за это сердиться… Предварил заранее – дело сделал!.. хотя я опять-таки не пойму, из-за чего он так заранее обеспокоился!.. Ведь не мог же Сережа дать ему повода… Я его знаю, – что бы ни происходило у него теперь на душе, он слишком благовоспитан, чтобы показать…
– Он ничем и не показывал, – заверил Ашанин, – и ни бровью не моргнул; мы же все время вместе на сцене были… а вы из залы видели…
– Так с чего же вздумал этот старый мудрец?.. – размышляла Софья Ивановна.
– Я начинаю подозревать… не заметил ли он чего-нибудь со стороны…
– Со стороны княжны! – договорила она, быстро вскинув глазами на молодого человека. – Едва ли!.. Она так сдержанна!.. Да и много ли они видались-то с Сережей?.. А мила-то она, уж как мила! – вздохнула, помолчав, тетка Гундурова. – Нет, это он так, с большой хитрости… Каподистрию вспомнил! – засмеялась она привычным своим коротким, обрывистым смехом.
Ашанин положил шляпу, пододвинул стул и сел подле нее:
– Софья Ивановна, – начал он шепотком, – а что же… если бы княжна действительно… отчего же бы?..
– И, милый мой, – махнула она рукой, – разве об этом возможно думать? Разве они такие люди? Эта Аглая — ну, само собою!.. А то, вы видите, и он… боярин опальный, – и он туда же!..
– Я все это очень хорошо знаю и понял с первого раза, – молвил красавец, – но ведь если посмотреть поближе, с фанабериею этой можно же и сладить. Ведь ничего же существенного они против Сережи сказать не могут. «Положение»? Да какое там «положение» бывает в наши года?.. А если только княжна захочет, чем же Сережа ей…
– А тем, – не дав ему договорить, с сердцем возразила Софья Ивановна, – что такая уж у нас безобразная страна вышла, что Гундуров — а Гундуровы-то, вы знаете, все одно, что Всеволожские да Татищевы, только титла не носят, а те же Рюриковичи, – Гундуров не партия для княжны Шастуновой; а вот какой-нибудь Фитюлькин в аксельбантах – тот жених и аристократ, потому что повезет жену на бал в Концертную залу!..
– На то он и Фитюлькин, – засмеялся Ашанин, – у нас, известно, «чем новее, тем знатней1!»
– «Тем знатней», – машинально повторила Софья Ивановна, – кто бишь это сказал?
– Пушкин.
– Да, да!.. Прекрасно сказано… Очень уж их любят там, этих новых!.. Они надежнее, видите ли, вернее старых родов… Мы, видите ли, революционеры!..
Софья Ивановна пожала плечами и торопливо нюхнула табаку из крошечной золотой табакерки, которую носила под перчаткой; перчатки же, по старой привычке, – и не иные, как шведские, – никогда не снимала, когда была в гостях.
– И чутьем чую, – продолжала она, – да и вскользь слышала даже от кого-то в Москве, не помню, что какого-либо такого да непременно уж имеют они в предмете для княжны… Эта Аглая, то есть! – поправилась Софья Ивановна. Она хоть и сердилась на князя Лариона и в душе чувствовала себя очень оскорбленною им за племянника, но все ж он был для нее не «эта Аглая…»
– А мы с Фитюлькиным прю заведем2! – сказал, смеясь, Ашанин, почитывавший иногда издававшийся в те годы покойным Погодиным «Москвитянин»3.
Софья Ивановна невесело закачала головой:
– Бедный мой Сережа!.. Вы говорите, он и не догадался?.. Чист и прост, – коротко засмеялась она, – как голубь!.. И совет о путешествии принял с благодарностью? Что же? Это хорошо, очень хорошо! Только скорее бы, скорее его отправить!.. Знаете, мой милый, я, чем более думаю… я даже очень рада, что князь Ларион прочел ему эту, как вы говорите, «нотацию». И вы очень хорошо сделали, что ему объяснили… Только уж теперь ни слова более! На него наседать не надо! Он горд и самолюбив до крайности… вы уж оставьте его со всем с этим, пусть он сам… И я сегодня же, сейчас после обеда уезжаю к себе в Сашино – мне к тому же эта Аглая не по силам… Это важничанье, глупость!.. Предоставим его себе, его собственному рассудку, вот как Mentor, когда он оставил Телемака на острове Калипсо4, – улыбнулась милая женщина, – я так думаю, что с ним произойдет… как это говорится? – une réaction5. Ах, если б этот не ваш дурацкий спектакль, я бы его, кажется, завтра же в дорогу снарядила!..