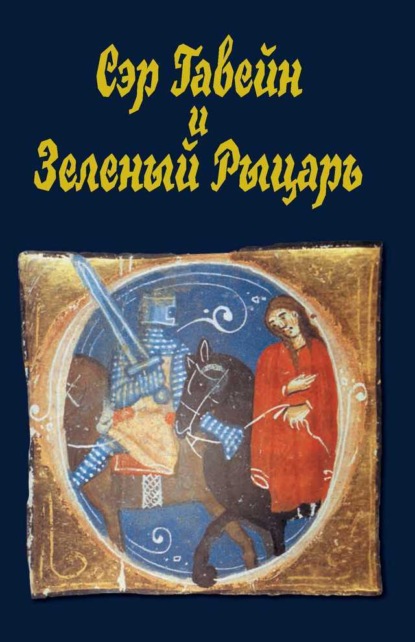Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
Ашанину только того и нужно было.
Он медленно привстал, отыскал глазами Ольгу Елпидифоровну – она стояла, опершись о перила балкона, и болтала с Eulampe, самою решительною из пулярок, – подошел к ней и, уставившись ей прямо в глаза:
– Прошу вас сейчас же громко рассмеяться! – сказал он.
– Это что такое? – чуть не привскочила барышня.
– Смейтесь, – повторил он торжественно, – от смеха вашего зависит счастье мое и самая жизнь!
Она, а за нею Eulampe расхохотались не в шутку.
Он избока глянул на чайный стол: Надежда Федоровна доверчиво смеялась тоже этому доносившемуся до нее смеху.
– Жизнь мою вы спасли, – продолжал Ашанин; – теперь вопрос о счастии: который из двух?
И он кивнул с балкона вниз, где на ступеньках спускавшейся с него лестницы в числе других молодых людей дымили папиросками на благородном расстоянии друг от друга Ранцов – лавр и Маус – олива.
Она тотчас же поняла:
– Евлаша, душечка, – обернулась она к ней, – мне холодно в кисейном; сбегай, ангел мой, в столовую: там бурнус мой лежит, ты знаешь…
Пулярка слегка поморщилась – Ашанин казался ой очень «интересен», – однако побежала за бурнусом, неуклюже перебирая ступнями, и с развальцем на ходу…
– К чему ваш вопрос? – спросила тогда Ольга Елпидифоровна.
– К тому, – молвил Дон-Жуан, сопровождая слова свои комическим жестом, – чтобы убить того, который…
– Что за вздор! – засмеялась она. – Я вам в тот раз еще говорила: ведь вы на мне не женитесь?
– Не смею… Страшно! – засмеялся он.
– И не нужно! – промолвила она с невольной вспышкою досады.
– Верно! – подтвердил он.
– Что-о?
– И я говорю: не нужно! – подчеркнул Ашанин. Она опять рассмеялась:
– Вы с ума сошли!..
– Совершенно так изволили сказать!
И он принялся вполголоса петь из какого-то водевиля, подражая обрывистой манере и хриплому голосу бывшего тогда на московской сцене на ролях комических любовников актера Востокова:
Э-ти глаз-ки, как хо-ти-те,Хоть ко-го с у-ма све-дут!..– Знаете что, – сказала она, помолчав, – я такого, как вы, еще и не встречала!
– И я такой, как вы, не встречал! – вздохнул Ашанин. – Шутовство в сторону, – он не мог смотреть на нее равнодушно.
– Чего же вы от меня хотите? – спросила Ольга, закусывая алую губу.
– Это я вам предоставляю угадать!..
Она повела глазами в сторону Надежды Федоровны:
– А там же что?..
– Там – неволя; здесь – магометов рай! – ответил он, не смущаясь.
– Какая неволя?
– Она все, что делается в доме, передает княгине, – бессовестно сочинил Ашанин, – я ее боюсь и потому задобриваю и вам то же советую делать…
– Вы все лжете, я вижу! – молвила со смехом быстроглазая девица.
– Кроме того, что вы внушаете мне!..
Eulampe запыхавшись бежала к ним с бурнусом.
– А теперь довольно! – сказала Ашанину Ольга.
– Когда это вы мне скажете: еще? – отвечал он ей на это долгим, говорящим взглядом и отправился назад к Надежде Федоровне.
– Ну что, сказали? – спросила та, передавая ему чашку кофе.
– Сказал.
– Что же она?
– А она говорит: «Это, верно, не вы сочинили, – а эта злющая Травкина?»
– Как глупа! – И она презрительно повела плечами.
– И я то же заметил! – подтвердил Ашанин, преспокойно пошевеливая ложечкой в своем кофе. – С нею прескучно!..
Только после того как он отошел от нее, сообразила ясно быстроглазая Ольга прямой смысл тех речей, которые он держал ей, и когда вернувшаяся Eulampe с жадным любопытством в глазах спросила ее:
– Скажи, душка, что он говорил тебе?
– Он дерзкий! – отвечала она и покраснела.
– Все мужчины – дерзкие! – заметила на это опытная, как видно, пулярка.
Они обе громко рассмеялись…
Посреди гостиной, выходившей на балкон тремя большими настежь открытыми дверями, ставили ломберный стол. Княгиня, со времени приезда своего в Россию пристрастившаяся к преферансу, собиралась играть. Софья Ивановна, которой она предложила карту, отказалась было, говоря, что она до ночи хочет вернуться домой, но потом уступила. Княжна ее окончательно очаровывала и, словно сознавая это, не отходила от нее. Когда она села за партию с хозяйкой, московской княжной и неизбежным «бригантом», Лина уместилась подле нее и, глядя ей в карты, очень смешила ее, давая ей советы вкривь и вкось.
Через несколько минут она поднялась с места… Софья Ивановна бессознательно подняла глаза по направлению открытых против нее дверей и отгадала скорей, чем различила, унылую фигуру проходившего мимо племянника. Княжна его также увидала, Софья Ивановна не сомневалась…
– Господи, что изо всего этого выйдет! – с новым взрывом тревоги промолвила она мысленно, беспощадно покрывая тузом короля, вистовавшего вместе с нею против княгини Зяблина… Тот только очи к небу воздел.
Княжна прошла на балкон.
Там было людно и шумно. Курившая молодежь вернулась из саду. Сидели кружками… Слышался звонкий голос анекдотиста Чижевского и провинциальные взвизги потешаемых им барышень. В углу Факирский и Духонин продолжали горячо препираться об искусстве и о Жорж Санд. Исправник тихо совещался со Свищовым; оба они были записные игроки, и оба в эту минуту без гроша: речь между ними шла о том, как бы им отыграться у Волжинского, постоянно обиравшего их в пух и которого оба они знали за отъявленного шулера… Гундуров один сидел ото всех поодаль и, обернувшись к саду, рассеянно глядел на видневшуюся с балкона реку, по которой, крадучись из-под тучи, бежал золотою полосой сверкавший луч солнца… Он был угрюм до злости и до сих пор не мог справиться с тем подавляющим впечатлением, какое произвели на него слова Ашанина в объяснение речей князя Лариона. И чувство его, и самолюбие были задеты за живое. «Он разгорячился, наговорил вздору приятелю, открывшему ему глаза. Чем же тот виноват, что он ребенок до сих пор, что сам он не понял, дал повод прочесть ему это наставление, не понял, что… Да разве я подавал в самом деле повод? – вскипало у него снова на душе, требовал ли чего-нибудь, просил, надеялся? Разве и смотреть уж на нее нельзя?.. Ведь вот это вечное солнце, оно светит и мне, и вот этой чайке, что взвилась сейчас там, над рекою, и последнему червяку в луже… И, наконец, если бы я даже… Скорее уехать из этих мест, сказывалось у него внезапными взрывами, и приезжать совсем не нужно было! Я не хотел, все Ашанин… Привез, а теперь сам… Кину я все это, скажу, что нездоров, Бог с ним и с Гамлетом! Видно не судьба!.. И нужно было тетушке сесть за карты – так бы сейчас и уехали в Сашино!»…
Лина прошла прямо к нему:
– Сергей Михайлович!
Он вздрогнул от неосторожного звука этого голоса, обернулся, поднялся с места!..
Она села… Он с тревогой в сердце опустился снова на стул.
– Вы не здоровы! – заговорила она, участливо глядя ему в лицо.
– Я?.. Нет… Я здоров… совершенно здоров…
– Что с вами, Сергей Михайлович, скажите! – настойчиво начала она опять, продолжая смотреть ему в лицо.
– Ничего, княжна, уверяю вас, я не знаю…
– Вы на репетиции… совсем другой были! Потом вы ушли с дядей, да?
– Точно так.
– К нему наверх?
– К нему.
– И что же вы делали у него?
– Мы условливались насчет урезок…
– Да, я знаю… И больше ничего? – спросила Лина.
– Нет, мы еще… беседовали, – через силу проговорил Гундуров, у которого при этом воспоминании вся кровь кинулась в голову.
Она примолкла.
– И вы такой сделались после этой… беседы! – начала она после довольно долгого молчания.
Он не находил ответа…
– Он очень добрый, дядя Ларион, – заговорила опять княжна, – только слова его могут иногда показаться…
– Нет, напротив, я ему должен быть очень благодарен за совет, – примолвил с невольною ироническою улыбкою Гундуров.
– Какой совет? – Она с необычною ей живостью подняла на него вопрошающие глаза.
– Он обещал выхлопотать мне паспорт за границу на будущий год, а для этого советовал мне теперь ехать путешествовать по России.
– По России, – медленно повторила Лина, – скоро?..
– Он говорил: «не медля».
– И вы поедете? – еще тише спросила она.
– Да, – отвечал Гундуров твердым голосом и избегая в то же время ее глаз, – поеду!
– А наш «Гамлет»? – промолвила она с каким-то особым ударением.
– После… – Он не договорил.
Она опять замолкла и опустила голову.
– Что же, – подняла она ее опять и тихо улыбнулась, – по крайней мере «Гамлета» отыграем!..
– Это миг один! – вырвалось у молодого человека.
– Все в жизни – миг… И сама она – миг один! – зазвенел какою-то еще неслыханною им нотою голос Лины.
Он недоумело поглядел на нее:
– Да, но тогда жить не стоит?..
– Следует! – тоном глубокого убеждения молвила она. – Нести надо!..
– Бороться надо! – сказалось у него как-то невольно опять.
– Да, и бороться! – раздумчиво закивала она золотистою головкой… И вдруг переменила разговор:
– Это должно быть очень интересно – путешествие по России… Как бы я была рада, если б сама могла…
– Да, – сквозь зубы промолвил Гундуров, – в этнографическом отношении интересно…
Она не поняла, что он хотел сказать:
– Мне кажется… кто только любит свое… отечество…
Глаза Гундурова заморгали:
– Именно тот… В других странах любовь к родине – гордость; у нас она – мука, княжна! – досказал он свою мысль.
Она, в свою очередь, удивленно остановила на нем взгляд, пораженная горечью его тона.
Он понял, что она требовала объяснения.
– 2-Куда бы вы ни направили путь, – заговорил он с возрастающим оживлением, – все то же зрелище представит вам русская земля. От моря до моря, от Немана и до Урала, все тот же позор рабства и тягота неволи!..
Голос его теперь был почти груб, но он глубоко проникал в душу девушки; в нем звучали теперь, она чувствовала, лучшие струны этой молодой мужской души, и на них откликалось все лучшее в ее существе…
– Ах, как часто, – почти вскрикнула она, – как часто с тех пор, как я живу в России, приходили мне эти мысли в голову!.. И скажите, неужели вот только вы… и я – краска на миг вспыхнула в ее лице: в другую минуту она не прибавила бы этого «я», – думаем об этом?.. Мне никогда не случалось слышать ни от кого… будто это совсем не нужно… Я раз говорила об этом с дядей, он мне ответил что-то, что, я помню, меня не удовлетворило… Он как-то говорил, что «разом нельзя; что надо готовить ис… исподволь», – произнесла с некоторым усилием Лина необычное ей слово.
– Железная рука Петра, – сказал на это Гундуров, – оторвала нас от народа. Мы, высшее, так называемое образованное, сословие, мы давно перестали быть русскими!.. Мы давно стали немы на его вековой стон, глухи к его вековым страданиям… Мы сыты от голода его… Что же вас удивляет это общее кругом вас равнодушие к нему, княжна?..
– Но ведь тогда он сам, – сказала она, – сам может потребовать наконец…
– Как на Западе? – возразил молодой славист. – Нет. – Он закачал головою. – Нет народа в мире, который был бы так чуток к своему историческому предопределению. В нем лежит инстинкт своего великого будущего. Он верит в него, верит в исконную связь свою со своим законным, земским Царем, – подчеркнул Гундуров, – и ждет… Он перетерпел удельную усобицу, татарскую неволю, перетерпел петровский разгром. Он перетерпит со своим святым смирением и нынешнее неразумие, нынешнюю постыдную близорукость…
– Вот видите, смирение! – произнесла неожиданно княжна. – Покойный папа всегда говорил: «смирение – сила…»
Она как бы уличила его в противоречии его личного, бунтующего при первой неудаче, чувства с этим вековым «святым смирением» народа… Гундуров так понял это, по крайней мере, и несколько смутился.
– Да, – сказал он, не совсем справясь с собою, – а между тем эта бедная… великая и бедная родина наша, – повторил он, – вся она изнемогла под гнетом крепостного права, вся она кругом изъязвлена неправдою, насилием… до мозга костей ее уже проникла и пожирает ее эта проказа рабства-2… А годы летят, крылья связаны, и знаешь, ничем, ничем не в силах послужить ей, ничем, даже в виду отдаленного, лучшего будущего. Ведь вот что ужасно, чего нет иногда сил вынести, княжна!..
– Знаете, – Лина тихо улыбнулась, – я верю в предчувствия; мне что-то говорит, что не всегда будут у вас… у всех… крылья связаны, как вы говорите. Вы так молоды, вы еще можете увидеть это «лучшее время»…
Оковы рухнут, и свободаВас встретит радостно у входа3,– пронеслась в памяти Гундурова запрещенная пушкинская строфа…
– О, если бы вашими устами да мед пить, Елена Михайловна? – воскликнул он с мимолетной улыбкой. – Вот дядюшка ваш, он государственный все-таки человек, говорит также, что это «течение должно измениться…» О, если бы суждено мне было когда-нибудь послужить освобождению моего народа!.. Но когда, когда вздумается этому «течению измениться»? Князь Ларион Васильевич сегодня показался мне удивленным, когда я сказал ему, что я не честолюбив. Но, скажите сами, какое же честолюбие достойно честного человека, – я говорю о людях моего поколения и понятий, – когда оно должно идти вразрез с тем, что дороже, что должно быть дороже ему всего на свете?.. У меня было свое, скромное дело, но все же, хотя побочным, не близким путем, оно могло служить… Я надеялся, многое могло быть разъяснено, дойти, перейти в общее сознание… И то вырвали из рук!.. Поневоле теперь, – закончил он, тяжело вздохнув, – приходится стиснуть зубы и искать забвения в Гамлете!
– Бедный Гамлет! – робким как бы упреком послышалось ему в голосе Лины…
У Гундурова ёкнуло в груди…
Но княжна как будто не хотела дать ему случая к ответу. Она заговорила о своей роли Офелии. Роль эта ей очень нравилась.
– Во всем Шекспире, кажется, нет более поэтического женского характера… Да, Корделия! – вспомнила она.
– А Джульета? – сказал Гундуров.
– Нет, – она покачала головой, – они там оба с ним такие… – она искала слова и не находила его, – такие безумные! – и она засмеялась. – Можно ли представить себе их стариками? Оттого Шекспир, может быть, и заставляет их умереть так рано…
– Отчего же, – возразил он, – и у стариков может так же горячо биться кровь…
Она вдруг задумалась.
– Да, это правда!.. Только все же мне больше нравится Офелия… Какой поэт этот Шекспир! Как умирает она у него чудесно! – молвила она, устремив безотчетно глаза вперед, в тот угол, где препирались Духонин, Факирский и подсевший к ним Свищов.
А из того угла, не прерывая разговора, жадными глазами следил за каждым ее движением студент:
– Читали вы ее последний роман? – спрашивал он у Духонина.
– Какой?
– «Le compagnon du tour de France»4, – проговорил он заглавие коверканным французским произношением.
– Нет, не читал. Он, кажется, запрещен?
– У нас, известно, все хорошие вещи запрещают! Я его все-таки имею!..
– Здесь?
– Да. Желаете прочесть?
– Одолжите, если можно.
– С моим удовольствием… Эта вещь тем замечательна, – пояснил Факирский, – что кроме обычных качеств этого великого передового таланта, на значение которого так горячо указывал незабвенный Виссарион Белинский…
– Ну! – скорчил гримасу Духонин.
– Что-с? Вы не уважаете Белинского? – воскликнул студент.
– Уважаю ль? – повторил тот. – Ничего, человек был хороший… горячий… Только, в сущности, одно то у него и было – горячность!.. Остальное ведь все с чужого голоса: Станкевич раз, Боткин два, Герцен три!.. Кто последнее сказал, с трубы того и трубил5! Вспомните, что он писал в «Молве»6 и до чего договорился в Петербурге?
– Учи-тель-с! – внушительно протянул на это Факирский. – Ведь только и есть у нас, что он да Тимофей Николаевич[23], и тому теперь рот зажали… Так вот-с я начал говорить про компаньен дю тур де-Франс. Тем-с эта вещь замечательна, что показывает нам, как далеко успело уйти образованное французское общество на пути новых социальных идей.
– Рассказывайте! – скорчил опять гримасу неугомонный Духонин, поправляя очки на носу. – Но я по этому поводу не желаю спорить… Вы начали о романе. Итак…
– Итак, – подхватил на лету студент, метнув новым взглядом по направлению княжны, – два такие компаньона, то есть странствующие ремесленники, Пьер и приятель его, приглашаются работать, – они мастерством столяры, – в замок одного богатейшего старого графа… У этого старого, вдового графа – внучка, Изельта, – произнес по-своему факирский французское имя Изё (кейк), – и эта девушка, героиня романа, влюбляется в Пьера.
– Как! – воскликнул Свищов. – Так-таки графиня в простого рабочего, столяра?
– Да-с, именно, и что же вы находите в этом удивительного? – закипятился вдруг пылкий поклонник Жорж Санд, – этот столяр, это французский увриер7, человек, может быть, сто раз образованнее какого-нибудь нашего губернатора!..
– Ну уж как вам угодно, а только он непременно должен был клеем вонять, ваш увриер, – расхохотался во всю мочь Свищов.
Студент рассердился не на шутку:
– С вами говорить нельзя-с! Вы все прекрасное и высокое готовы из легкомыслия закидать грязью… Так нельзя-с… нельзя так-с!.. – едва мог он выговорить от волнения.
Свищов принялся унимать его:
– Ну, полно, душечка, полно, ну, пошутил… А вы плюньте. Плюньте и продолжайте!
Факирский передохнул и еще не успокоенным голосом:
– Изельта, – заговорил он снова, – выражает собою тот идеал, до которого додумываются теперь благороднейшие умы Запада. Богатая, она презирает свое богатство; аристократка, она хочет равенства, да-с!.. Девственная, она первая решается сказать Пьеру, что она его любит и хочет за него идти замуж, потому что он «из народа», и «я, говорит она ему, хочу быть народом», – понимаете-с?
– А столяр, – поддразнил его Духонин, – соглашается жениться на ней и, в свою очередь, из «народа» делается графом?
– Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь! Тут-то и сказывается вся сила Жорж Санд и вся мощь изображаемых ею характеров! Пьер любит Изельту страстно, бесконечно, всею душой и всею мыслию своей, но он отказывается от нее. «Пока мне неведомо, – говорит он, – действительно ли богатство – право, а бедность – долг, я хочу оставаться бедным»… И он жертвует всем, любовью своею, счастием, – слезы слышались почти в голосе студента, – во имя своей бедности, своей святой бедности!
– Удивительное дело-с, – беспощадно возразил на это Духонин, – как эти все герои «из народа», алчущие «равенства», не ищут себе героинь между своей сестрой – швеями и корсетницами, а все облюбливают графинь каких-то да маркиз!..
– Что же-с, – запнулся Факирский, – это несомненно, что пока… аристократическое, так сказать, воспитание дает это… эту прелесть внешней формы… манеры, – и глаза его невольно опять устремились на княжну, – а это не может не ценить всякий… всякий эстетически развитый человек…
Свищов подмигнул Духонину, как бы приглашая его ко вниманию.
– «Несомненно» во всяком случае то, – сказал он, – что очень было бы приятно быть – как бишь вы называете столяра вашего? – глянул он в глаза Факирскому, – да, Пьер, – очень было бы приятно быть Пьером княжны здешней, например, – как вы полагаете?..
Бедный юноша не выдержал: он сорвался с места, словно готовясь кинуться на зубоскала, но сдержался и, красный как рак:
– Я с вами говорить не хочу-с! – вскрикнул он и побежал вон с балкона.
– Эко молодо-зелено! – расхохотался ему вслед Свищов.
– И охота же вам! – недовольным тоном промолвил Духонин.
– Ничего-с, осторожнее будет! Ведь туда же, о княжнах мечтает!.. Довольно с нее и этого педанта! – кивнул он в сторону Гундурова. – Эх, вот до кого бы добраться! – неожиданно вырвалось у него…
Духонин с удивлением глянул на него из-под очков.
– А что он вам сделал? – спросил он.
– Ничего, – нагло оскалил зубы тот, – а учинять пакость ближнему никогда не мешает.
– Гм! – промычал Духонин, встал и пошел к кружку ликовавших от анекдотов Чижевского пулярок.
– Ну и убирайся! – проговорил себе под нос Свищов, продолжая наблюдать из своего угла за Гундуровым и княжной и становясь все злее, по мере того как все очевиднее делалось ему, что она находит удовольствие в беседе с нашим героем.
Свищов его ненавидел. За что? Между ними не было ничего общего: нечего им было делить, не о чем соперничать. Но Свищов принадлежал к числу тех безалаберных Яго, которых так много на Руси: он ненавидел людей «здорово живешь», за то, что есть у этих людей и чего ему самому вовсе не нужно было, а, следовательно, чему, казалось бы, он не имел никакой причины завидовать. Сам он, например, смахивал наружностью на короткошейного, грудастого испанского быка и очень гордился этим выражением силы в своей наружности; но Гундуров был тонок, строен и несколько тщедушен с виду, и Свищов его ненавидел за это. Гундуров готовился на кафедру, а Свищов, кроме карт и московского балета, ни о чем знать не хотел и за это ненавидел Гундурова… В настоящую минуту он несказанно злился на него за то, что вот он беседует с княжной Шастуновой и она слушает его с видимым вниманием, а ему, Свищову, никогда в голову не приходило вступить с нею в беседу, и в Сицкое-то он приехал, привезенный Акулиным, в качестве любителя-актера, единственно потому, что был в эту минуту без гроша и не на что было ему вернуться в Москву…
Он отправился изливать свою желчь пред приятелем своим Елпидифором.
– Поглядите-ка, батенька, – начал было Свищов, как в эту минуту подошла к отцу бойкая барышня:
– Можете получить! – коротко сказала она ему.
– Что? – не понял сразу отяжелевший после обеда исправник.
– Ступайте к капитану!..
– Дает? – он радостно вскочил со стула.
– Еще бы смел не дать! – отвечали приподнявшиеся плечи Ольги.
– Ах, ты моя разумница!.. Сейчас?..
– Идите, говорю вам…
Он поспешно заковылял на своих коротеньких ножках. Она за ним…
– Ольга Елпидифоровна! – остановил ее Свищов.
– Чего вам? – спросила она его через плечо: она его терпеть не могла.
– Спектакль сей изволили видеть? – и он осторожно повел глазами по адресу княжны и Гундурова.
– Какой же тут спектакль?
– Воркуют-то как! – хихикнул он.
– А вам до этого что?
– А мне ничего; как другим, а мне даже приятно, – нагло посмеивался Свищов, – даже поучительно: вот оно, значит, иностранное воспитание…
– А у вас язык слишком длинен, – отрезала ему на это Ольга, – Лина – мой друг, и вы не смейте!.. А то я расскажу княгине, что вы ее дочь браните, и вас попросят отсюда вон… Можете к вашему Волжинскому отправляться!..
Она повернула ему спину и ушла.
– А черт бы их побрал всех! – решил после такой неудачи Свищов. – Хоть бы с кем-нибудь по маленькой в пикетец сразиться…
Но замечание его не прошло мимо ушей смышленой особы. Она пристально, на ходу, воззрилась на забывавшего весь мир в эту минуту Гундурова, на «друга своего Лину», и довольная улыбка пробежала по ее губам:
– Вот оно, чем тебя допечь, противный старикашка! – послала она мысленно по адресу князя Лариона.
XXII
А голос самого князя послышался в это время в дверях гостиной.
– Господин Акулин? Елпидифор Павлыч?
– Здесь! – отвечал исправник, торопливо засовывая под мундир деньги, только что полученные им от «капиташки».
Князь Ларион отдал ему написанное им к графу письмо. Исправник тотчас же собрался ехать и, откланявшись княгине, вышел из гостиной.
Свищов побежал за ним.
– Что, батенька, не заедем ли по пути? – подмигнул он ему, разумея усадьбу Волжинского, в которой с утра до вечера велась игра.
– Что вы, что вы, – толстый Елпидифор отмахнулся от него обеими руками; – и вас с собою не возьму… от соблазна подальше! Тысячу делов, граф, Полония учить надо, а он с чем подъехал!.. Сидите, сударик, здесь, да рольку проглядите, а я завтра сюда на репетиции… Ранее полудня, полагаю, не начнется…
И он поспешно спустился с лестницы.
– Вот поди-на! – подумал Свищов, – хапуга ведь завзятый, а тоже себя артистом мнит… И артист, действительно, черт его возьми! – злобно хихикнул он в заключение.
За отъездом Акулина продолжение репетиции «Гамлета», предполагавшееся в тот же вечер, отложено было на завтра. Кроме Вальковского, который, услыхав о таком решении, воспылал негодованием и ушел со злости пить чай в пустой театр, захватив с собою туда приятеля своего, режиссера, никто из молодежи на это не роптал…