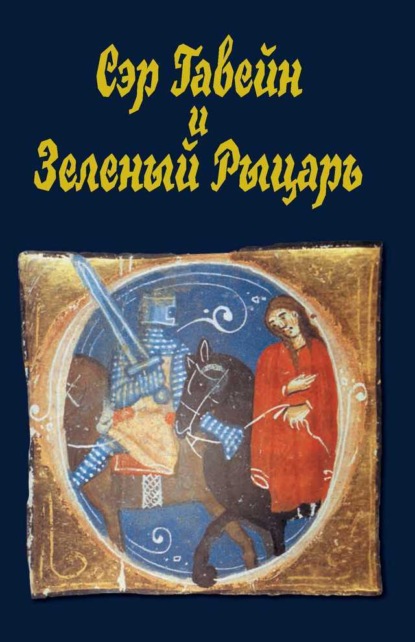Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
«О чем он тоскует?» – прочла в них ясно Софья Ивановна…
Старый официант с седыми бакенбардами и строгою физиономией, наклонясь тем временем к уху исправника, передавал ему на тарелке продолговатый конверт под казенною печатью и шептал ему таинственно и внушительно:
– Сею минутою из города к вам рассыльный; наказывал-с, что очень нужное…
Исправник торопливо вскрыл на коленях конверт, вынул из него бумагу и какое-то вложенное в нее письмо, прочел надписанный на нем адрес и, так же торопливо обернувшись к слуге:
– Князю Лариону Васильевичу сейчас! – передал он ему письмо и, слегка дрожавшими руками развернув под столом полученную им бумагу, принялся читать ее.
Слуга с тем же таинственным видом и молча поднес письмо по назначению.
Князь с некоторым удивлением взглянул на него, узнал почерк на адресе, тотчас же взял его с тарелки и спросил:
– Кем доставлено?
– Господин капитан-исправник приказали вашему сиятельству вручить-с, – отчетливо, певуче и протяжно доложил старый дворовый, от преизбытка почтительности совсем уж неестественно приподымая седые брови.
– Вам с нарочным прислано? – громко обратился через стол князь к Акулину.
– Точно так-с, – приподымаясь наполовину со своего стула, отвечал толстый Елпидифор, – получил сейчас в пакете, с извещением, что их сиятельство изволят проследовать через наш уезд в соседнюю губернию, – в имение свое, в Нарцесово, надо полагать, ехать изволят. Отъезд из Москвы назначен по маршруту в пятницу, 19-го числа, а в субботу утром они намереваются быть здесь, в Сицком-с…
– Le comte12? К нам? – вопросительно протянула княгиня Аглая Константиновна, скрывая причиняемое ей этой вестью удовольствие под равнодушной улыбкой.
– Они, ваше сиятельство, – поспешил подтвердить исправник.
– Официальности, официальности-то на себя что напустил! – хихикнул вполголоса Свищов, подмигивая через стол Духонину, – эпикуреец, а?
– Отстаньте, служба! – таким же, но сердитым шепотом осадил его Акулин.
– Я его знаю – графа! – громко возгласила Ольга Елпидифоровна, которая сидела между двумя обожателями своими, Ранцовым и Маусом, и в продолжение всего обеда занималась тем, что дразнила и натравливала их друг на друга. – Когда я была на бале в Благородном собрании с генеральшей Дьябловой, она меня познакомила… Он очень добрый старик и смешной такой: голова точно арбуз, лысая вся кругом. Он мне руку дал, любезный очень был и сказал мне, чтобы я чаще приезжала в Москву, – домолвила самодовольно барышня, – причем почтенного родителя ее так и повело, так как граф (чего не сказала вслух Ольга), приглашая ее чаще бывать в Москве, прибавил к этому: «А отцу скажите, чтобы в карты меньше играл!..»
– А мне придется отсюда скрыться куда-нибудь на время, – засмеялся Чижевский, – я у него насилу выпросился на 28 дней, родных повидать, – и вдруг он меня найдет здесь на сцене… Беда какого даст нагоняя!..
– 13-Ne craignez pas, я ему скажу et il ne vous fera rien-13! – обнадежила его с высоты своего величия княгиня.
Князь Ларион читал тем временем письмо от графа. Оно писано было крупными растянутыми буквами, как пишут начинающие дети и грамотные лавочники, и занимало все четыре страницы большого почтового листа. Содержание его, по-видимому, представляло значительный интерес, потому что князь то хмурился, то разжимал брови и сосредоточенно вникал, казалось, в смысл каждой строки. Он добрался до конца, сложил письмо.
– Извините за мою неучтивость, – своим любезным и повеселевшим тоном проговорил он, обводя легким поклоном своих соседок, – я так бесцеремонно занялся чтением… Вот и ближайший случай обделать дела Сергея Михайловича, – шепнул он тут же Софье Ивановне. И, подняв голову:
– Нарочный ваш еще здесь? – спросил он опять громко у исправника.
– Здесь еще, ваше сиятельство!..
– И может подождать несколько?
– Сколько прикажете-с!
– Так я после обеда напишу и попрошу вас письмо мое распорядиться доставить скорее на почту…
– Я сам, если дозволите, ваше сиятельство, доставлю его в город сегодня же, – отвечал Акулин, – и для большей скорости не прикажете ли отправить его с эстафетою?
– Очень хорошо-с!..
– А Полония что ж, побоку, значит? – раздался вдруг как из бочки, к общему смеху, встревоженный и раздраженный голос, – голос «фанатика», безмолвно до сих пор лишь отваливавшего себе огромные куски с блюд, которые пожирал с алчностью, достойною гомеровского Полифема14.
– Я вернусь завтра же к полудню, – сказал смеючись исправник, – а на сегодня уж извините: служба прежде всего-с…
– Дороги не в исправности? – шутливо спросил князь Ларион.
– На этот счет смею просить извинения вашего сиятельства, – возразил почтительно-обиженным тоном толстый Елпидифор, – по губернии, смело могу сказать-с, нет дорог исправнее моих! А паром на реке Наре осмотреть нужно. С торгов отдается, изволите знать; возят, не жалуются… Только под проезд их сиятельства, чтоб не задержали как-нибудь, заранее приказание отдать, чтобы к 19-му числу народ нагнать на реку на всякий случай…
Князь Ларион усмехнулся с тем полупрезрительным, полускучающим видом человека, которому из долголетней практики службы в высших чинах до тошноты ведома вся эта история начальнических поездок по только что закиданным колеям отечественных дорог, с бешено скачущим впереди на тройке исправником и «нагнанным» народом на переправах, – но который из той же практики давно убедился, что ничего с этим не поделаешь и что этими порядками стояла и будет стоять Святая Русь до скончания веков…
XX
Любви все возрасты покорны1…
Пушкин.Тотчас же после обеда князь ушел к себе, попросив прислать кофе к нему наверх. Это значило, что он не скоро намерен вернуться к обществу… То, что имел он ответить на полученное им письмо, требовало размышления. Граф – с которым он был в дружеских связях еще со времен Отечественной войны, когда юношею, прямо со скамьи Лейпцигского университета он поступил дипломатическим чиновником в походную канцелярию князя Кутузова, – писал ему о предложениях, имеющих быть ему сделанными из Петербурга и о которых он, т. е. граф, передаст ему подробнее при личном свидании в Сицком, – но что его, графа, просят заранее узнать: согласен ли будет вообще князь снова вступить в службу, «потому», говорилось в письме, – «если вообще переменить своего покоя не хочешь, – то нечего тебе и предлагать. А потому отпиши сейчас, чтоб и я мог немедля про тебя что просют отвечать…» Князь знал, кто просит об этом его ответе его почтенного, хотя и не очень грамотного старого друга: он знал, что оттуда могли идти лишь веские по своему источнику предложения… Он мог опять попасть во власть – и невольно проносились у него в голове знакомые имена облеченных в высшие должности государства… «Кого же думают там заменить мною?» – спрашивал он себя с безотчетным любопытством, медленными шагами подымаясь по лестнице в свои покои… Он еще далеко не знал, какого рода ответ он даст графу. Власть?.. Он сознательно, потому что признавал долгом своей совести, отказался от нее два года тому назад… Ему было тяжело тогда: этот мир власти, в котором с юных лет было предназначено ему место, в котором он так долго был своим, – он был ему дорог… Но он отказался от нее и уехал в Италию… В воспоминании князя мелькали подробности этого отъезда: скверный октябрьский петербургский вечер с пронзительным ветром и дождем, полуосвещенное зало в здании почтовых карет в Большой Морской, два, исполненные гражданского мужества, бывшие его чиновника, пришедшие проводить его, охрипшая труба кондуктора… Затем опять дождь, свинцовое небо, нескончаемый путь до Таурогена, бессонные ночи в тесном экипаже, упреки и сожаления незасыпавшего честолюбия и на границе равнодушный голос таможенного чиновника, проверявшего паспорты, – голос, словно и теперь звеневший в его ухе и показавшийся ему тогда таким дерзким: – «князь Шастунов, отставной тайный советник, не угодно ли получить!..»
Он проезжал через Германию – Германию, почти ему родную во времена Тугендбунда и песней Кёрнера… Она вся теперь, от Одера до Майна и Дуная, горела огнем междоусобия. «От наших пергаменов Священного союза2 вскоре, может быть, не останется ни клочка, – думал князь Ларион… – Но что же до этого нам? Разве мы свою, русскую, политику преследовали там, на Венском конгрессе, удивляя мир нашим великодушием?..» Родина необъятным исполином вставала перед ним… «Colosse aux pieds d’argile?» – вспомнил он слово Mauguin’a3… «Нет, у нас одна задача – просвещение, один опасный враг – невежество, и мы его же теперь призываем в помощь себе на борьбу с тем, что, в ребяческом перепуге мним мы, грозит нам отсюда!..» И снова закипели на душе его недавние волнения, пробегали в памяти живые образы его петербургских врагов, и точно слышались ему звуки пререканий их с ним в советах и гостиных в те дни, когда все темнее и темнее набегали тучи бессмысленного страха, и над бедным русским образованием висел неминуемый удар…
Да, тяжело ему было тогда… И вот он достиг цели своего пути – приехал в Ниццу и велел вести себя в Hôtel Victoria, где, он знал по письмам, стояла семья его недавно умершего брата. Vittorio, которого он помнил курьером у князя Михайлы, встретился с ним на лестнице, узнал и побежал доложить… Дверь отворилась, он вошел… «Larion!» – вскрикнула княгиня Аглая – и за нею высокая девушка, в черном с головы до ног, с глухим рыданием упала ему головой на плечо…
Как живо теперь припоминал он это мгновение?.. Он не видал ее лет шесть. Как мало походило на тогдашнюю впалогрудую, длинную девочку это стройное создание, бледное и прекрасное в своей немой печали, как мрамор Ниобеи4, с тихим пламенем мысли в васильковых глазах!.. Она его прежде всего поразила сходством своим с его братом, с которым он всегда был очень дружен и который всегда с глубокою любовью говорил о ней в своих письмах к нему. Тот же неулыбавшийся взгляд, то же изящное спокойствие внешнего облика, под которым у князя Михайлы скрывалась в молодости неудержимая страстность… «А дальше? – спрашивал себя в первые дни налаженный на сомнения князь Ларион. – Насколько тут к той чистой крови примеси от грубой натуры ее матери?..»
Недолго задавал он себе подобные вопросы… Их сблизила прежде всего эта дорогая им обоим память о князе Михайле. Они каждый день говорили о нем… Он умирал, медленно угасая, в полном сознании своего состояния, переписывался с пастором Навилем в Женеве и в то же время с одним старым итальянским аббатом, бывшим духовником его матери, о будущей жизни, читал каждый день Евангелие и молился по целым часам. «Он был чрезвычайно ласков и покорен maman, но никогда ничего не говорил ей о себе, чтобы не испугать ее, – объясняла Лина, – только когда мы оставались с ним вдвоем, он не таился, и будто легче бывало ему оттого…» Князь Ларион договаривал себе то, чего не поняла или не хотела сказать ему Лина: «покоряясь», его бедный брат до последней минуты не мог победить того чувства, которое в продолжение всей его жизни удаляло его от этой женщины, связанной с ним невольными узами. Он томился ею до конца и в набожном настроении своем тем мучительнее тосковал и каялся в винах своих перед нею. В полубреду предсмертных часов он, уцепившись костеневшими пальцами за поледеневшую от ужаса руку Лины, говорил ей: «Мать… не огорчай… Искупи… искупи меня, грешного!..» Он не ведал, умирая, на что обрекал этим ее молодую жизнь!..
А князь Ларион был вскоре весь охвачен благоуханием этой расцветающей жизни. Чем-то невыразимо чистым, светлым, примиряющим веяло от нее на его наболевшую и возмущенную душу. Он уже не рассуждал, он отдавался этому обаянию… Идти об руку с племянницей к морскому берегу, куда-нибудь подалее от promenade des Anglais[20] и, усевшись на камне у самого прибоя, глядеть по целым часам на паруса, скользившие вдали по голубому простору средиземных волн, читать с нею по вечерам Уордсворда и Уланда5, а по утрам учиться вместе итальянскому языку у старого, смешного учителя, на длинных, дрябленьких ножках, который при каждом объяснении лукаво моргал глазами и таинственно спрашивал их: «Sentiano, Eccelenze?[21], – такова была идиллия, которую переживал теперь, на склоне лет, этот поседевший в тревогах и разочарованиях деловой жизни человек. И то, что теперь заменяло, в силу чего забывал он все свое прежнее, недавнее былое, казалось ему то тихое, святое отцовское чувство, которого он, одинокий самолюбец, не знавал всю жизнь и которое зато исполняло его теперь какою-то никогда им еще не испытанною, беспредельно захватившею его нежностью… Да, говорил он себе, он любил ее как родную дочь и не мог бы желать, не мог бы создать в воображении лучшей себе дочери: ничего, ничего Аглаиного, а вся грация, изящество, тонкость воспринимания и вдумчивая сдержанность избранных натур… Как глубоко она чувствует и как гордо-стыдливо хоронит от чужого взгляда заветный клад чувств своих и мысли! «Счастливец тот, кому…»
Князь Ларион не договаривал и все чаще задумывался о ней… и о том «счастливце…» И что-то еще темное, но уже мучительное все сильней примешивалось к этим помыслам, вливало какую-то тайную горечь в ту чашу чистого счастья, к которой в первые дни приникал он неотступными устами…
А время бежало, траур по его брату приходил уже к концу; княгиня Аглая заговорила о «devoirs de société»6, о необходимых выездах, о России… На князя Лариона это произвело впечатление нежданного и сокрушительного удара; в уносившем его течении он как бы никогда не думал о том, что эта блаженная, одинокая, почти вдвоем с Линой, жизнь его в Ницце должна была измениться не сегодня, так завтра; ему как бы в голову не приходило, что ее могут отнять у него… А теперь – завеса падала с его глаз, – а теперь отдать ее значило для него вырвать у себя сердце!..
В первую минуту он не поверил себе, он хотел верить в право свое на то, что жгучим огнем палило теперь его душу. Он спрашивал себя: не то ли же самое испытал бы князь Михайло на его месте, не тою ли же тревогой исполнился бы он, если бы его тесным, нежным, счастливым отношениям к дочери грозило чье-либо мертвящее вмешательство?.. Увы, внутренний голос отвечал ему, что отцовская нежность не ведала бы подобных опасений, что это чувство все дает и ничего не требует, что ему не грозно никакое соперничество, потому что соперников у этого чувства быть не может… А он, – он весь исполнен был тоски и страдания, и под устремленными на нее горячечно пылавшими его глазами Лина однажды, вся заалев и опустив веки, почти испуганно спросила его: «Что с вами, дядя, зачем смотрите вы на меня так?..»
Он ужаснулся, дрогнул… «Бежать, бежать скорее!» – было его первою мыслью…
– Нам, вероятно, скоро придется расстаться, – сказал он ей, перемогая себя и потухая взором, – твоя мать желает ехать в Россию, а мне… мне там нечего делать – я уеду в Рим…
Она с новым испугом подняла теперь голову:
– Дядя, что же мы без вас делать будем?..
Он понял: что ей было бы делать одной с матерью, которой она с таким смирением покорялась и с которой у нее было так мало общего?..
Князь Ларион ожил… Он «был нужен ей, он был необходимый ингредиент в ее жизни, он был для нее преемником всего того высшего, сочувственного, просветительного, что представлялось Лине в ее покойном отце, что связывало ее с ним духовными неразрывными узами и без чего ей жить нельзя…» Он жадно уцепился за эту мысль: да, он ей нужен и «не имеет поэтому права ее оставить; он будет, он должен оберегать это нежное растение от грубых, невежественных прикосновений, будет ревниво охранять тот священный огонь, возженный братом его в душе дочери; он по праву единственный ее покровитель; он же один и в состоянии понять, чего стоит эта душа…» А ему – что ему нужно? Чего просит он от судьбы? Продолжить, по возможности, на несколько месяцев, на несколько недель, эту блаженную, одинокую жизнь под итальянским небом, на берегах сияющего моря, где заслушивался он ее тихих речей об отце, о Боге, о дальней, холодной родине, которую едва помнила Лина и о которой не позволяла она никогда «говорить дурно» дяде, – и забывать весь мир, внимая этим речам, погружаясь украдкой в эти глаза, глубокие и лазурные, как глубь и лазурь того моря, того неба…
Он остался – и весь старый свой дипломатический опыт употребил он теперь в дело, чтобы отсрочить отъезд их из Италии, чтобы не дать разыграться воскресавшим светским вожделениям своей невестки. Он пугал ее русскими холодами, петербургскою сыростью, опасными для ее детей, взросших под умеренным небом Германии; племяннице он говорил о тщете светской жизни, о бессмысленном тщеславии Петербурга; индифферент, он поощрял замеченную им в ней религиозную восторженность; он растравлял горечь и без того живучих сожалений ее о страстно любимом отце: на этой почве, он знал, у него не могло быть соперников…
Он достиг своей цели – еще год оттянул он у Аглаи Константиновны. Вместо России он увез ее с детьми в Рим… Как наслаждался он там сосредоточенными восторгами Лины пред чудесами Святого Петра и Ватикана! Как сама она своим чистым и задумчивым обликом подходила в его глазах к этому миру католического искусства, которое единственно было ей понятно и влекло ее в Рим!.. Но зато среди тех чудес ее красота была как бы еще заметнее – жадные молодые взоры чаще останавливались на ней, чем среди больного населения Ниццы… «Ее отымут от меня!» – все мучительнее отдавалось в сердце князя Лариона…
А светская жизнь уже забирала свои права. Княгиня Аглая завела много знакомств, между прочим с одною графинею Анисьевой, петербургскою дамой, жившею в Риме для своего здоровья. Князь Ларион очень не жаловал ее и чуял в ней «интриганку». Аглае Константиновне она, напротив, пришлась очень по вкусу – они беспрестанно видались и вечно о чем-то шушукались. Лину графиня не звала иначе, как «mon idole»7, и томно вздыхала, глядючи на нее, в изъявление своего восхищения ею. Все это коробило князя Лариона… А княгиня в то же время все настоятельнее приставала к нему вернуться в Россию. «Ее дела… et puis Line va avoir dixhuit ans»8, – многозначительно намекала она, – и ее сын, Basile… «он должен получить une education russe…» Под «education russe»9 она разумела Пажеский корпус, а под «Россиею» Петербург – и ужасно поражена была, когда «Larion» наотрез объявил ей, что в Петербург он не поедет. Без него, она понимала, «се n’est plus du tout la même chose там…»10 Много было по этому поводу у нее интимных совещаний с графинею Анисьевой, результатом которых было то, что она, тяжело при этом вздыхая, предложила князю ехать на зиму «s’ établir à Moscou…»11 Он мог бы еще на время отдалить, отсрочить, но сама она, Лина, всей душою рвалась в Россию…
Он согласился с сокрушенным сердцем…
Они приехали, стали принимать. Княжну повезли на первый бал к графу… О, как сказать, что почувствовал князь Ларион, когда в первый раз рукав гвардейского офицера обвил девственный стан Лины и сам он с казенною улыбкой под форменными усами помчал ее с собою по зале!.. Древний жрец с таким мучительным ужасом не глядел бы на поругание своего кумира!.. «Да, вот оно, настоящее, – вот ma via dolorosa», скорбный путь, по которому суждено было ему брести отныне до той минуты – вся внутренность переворачивалась у него, думая об этом, – когда ее, Héléne, совсем, совсем отымут… вырвут у него, кинут в объятия… предадут поцелуям молодого, заранее ненавистного ему «счастливца…» Что же с ним, с ним что тогда будет!.. Сердечных бурь не избежал в свое время князь Ларион – у него было несколько связей, две-три привязанности, которым он тогда готов был пожертвовать всем дорогим в жизни… Но теперь он спрашивал себя, как шекспировский Ромео: «Любило ль сердце мое до сих пор?»[22] – и ничего в евоем прошедшем не находил он подобного пламени и мукам этой последней, безумной, чуть не преступной страсти…
Догадывалась ли о ней Лина? Он боялся этого пуще грома небесного. Одно необдуманное слово, невольный взгляд могли замутить тот чистый мир родственных, доверчивых отношений, в котором единственно возможно было для него близкое общение с нею… И так уже, казалось ему иногда, она не прежним, ясным взглядом глядела ему в лицо, – говоря с ним, улыбалась еще сдержаннее, на его ласковые речи… Нет, он был обречен на одинокое, безмолвное, нескончаемое страдание…
И вот неожиданно извещают его о каких-то предложениях… зовут его опять к делу, к власти, от которой он ушел тому два года… Не спасение ли это? В том омуте забот, интриг и треволнений он может отдохнуть, забыться от этой теперешней, неустанно гложущей его муки; под тяжестью делового труда уляжется поневоле его эта бунтующая не по летам кровь; он найдет силу смириться перед неизбежным… Да, но как понимать этот призыв его обратно. Переменилось ли «течение», как он выражался, или думают там, что он, получив урок, подчинится теперь безусловно тому, что порицал он тогда? «В этом случае – нет, он не пойдет, – рассуждал с собою князь Ларион, – он верный слуга, а не раб немой; в саду хозяина он не станет косить там, где очевидно следует насаждать!..» Он невольно усмехнулся, вспомнив, что эти именно слова, сказанные им в одной гостиной в Петербурге, были главною причиной неудовольствия на него и, вследствие того, выхода его в отставку. «Каким был, таким он и умрет, – Шастуновы не податливы!.. За то Бирон и отсек им целым троим головы»12, – еще раз усмехнулся он, вспомнив опять…
Но, так или инако, ответа от него ждут – и надо дать его!..
Что же он напишет?
Он снова сел за свой письменный стол, перед портретом племянницы, и, опершись головой об руку, снова задумался крепкою и невеселою думою.
XXI
Общество после обеда перешло пить кофе на балкон, обращенный в сад. В Шипмоунткасле леди Динмор всегда готовила кофе сама после обеда и готовила по-арабски – с гущею, как научил ее это делать муж, долго странствовавший по востоку. Поэтому и у княгини Аглаи Константиновны кофе не подавался готовый, а готовился при всех и разливался в великолепные севрские чашки с гербом Шастуновых на неизбежном голубом фоне, но только без гущи, в уважение все тех же «estomacs russes», не разумеющих таких гастрономических квинтэссенций; готовить же его, вследствие прирожденной лени и неуклюжести своей, княгиня предоставляла «à cette bonne1 Надежда Федоровна», которая и вообще заведывала всем маленьким хозяйством дома.
Надежда Федоровна принялась за свое дело с особенным оживлением. Розы цвели у нее на душе: подле нее за обедом сидел Ашанин и, после нескольких успокоительных уверений, проливших сладостный елей в ее взволнованную грудь, все время затем, к довершению ее благополучия, нещадно глумился над бойкой барышней и сидевшими по бокам ее обожателями, сравнивал ее с московским гербом «на грудях двуглавого орла», с господином, сидящим на двух стульях, и тому подобным вздором. Смеялся он так искренно и просто, что задней мысли бедная влюбленная в него дева – а «кто любит, хочет верить», сказано давно, – предположить в нем была не в состоянии и простодушно рассудила, что она действительно, должно быть, ошиблась и что такая «пустая девчонка, как эта исправникова дочь», не может серьезно нравиться такому умному человеку, как «ее Владимир». А между тем ее Владимир руководился при этом двумя побуждениями: прежде всего, ввиду дальнейших соображений, надо было ему отдалить подозрения и усыпить ее ревность; во-вторых, он действительно злобствовал на барышню за то, что она так возбудительно глядела в глаза своим соседям, так весело сверкала своими блестящими зубами, так откровенно шевелила свои пышные плечи… А злобствовал он потому, что никогда еще так, как в эту минуту, не нравилась она ему, – а нравилась она ему так вследствие того, что у самого его были в эту минуту крылья связаны, и занималась она другими, а не им. Соперники и препятствия – это давало ей двойную цену в его глазах.
Он продолжал, усевшись за столом, за которым готовили кофе, потешать на ту же тему свою перезрелую жертву.
– Мне очень хочется спросить эту девицу, – заговорил он ей, – под каким венком желает она, чтоб ей воздвигло статую благодарное потомство: под лавровым или под оливковым?
– Она не поймет, что это значит? – с высоты своей начитанности улыбнулась Надежда Федоровна, раскладывая сахар в чашки.
– Я ей объясню: Ранцов, воин, – это лавр; Маус, судейский, – олива! И затем спрошу: что вы, сударыня, предпочитаете: оливковое масло или лавровый лист?
Та рассмеялась до того, что уронила щипцы на поднос…
– Подите, подите, спросите! – попавшись в ловушку, послала она его сама к своей сопернице.