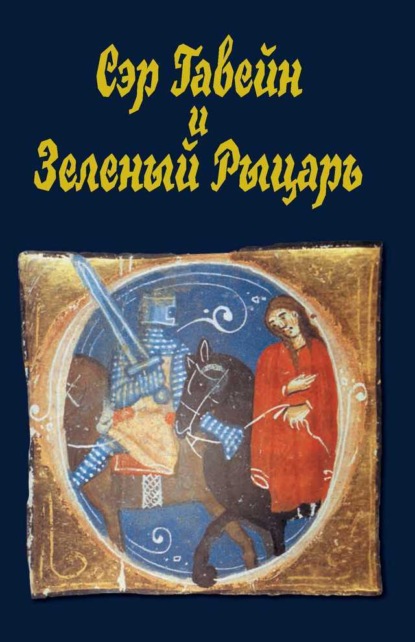Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
Рука в обшлаге машинально спустилась с высоты лица извозчика. Господин Акулин обернулся. Обернулся и молодой человек, сидевший в тарантасе.
– А, Гундуров, здорово!
– Гнев, о поэт, ты воспой Елпидифора Павлова сына! – крикнул он, закатываясь оглушительным хихиканьем и кивая на исправника.
– Это кто? – нахмурясь, спросила племянника Софья Ивановна.
– Свищов, юрист бывший… Нахал! – промолвил он сквозь зубы.
– Это видно…
Господин Акулин тем временем ковылял к фаэтону на своих коротеньких ножках.
– Ваше превосходительство, Софья Ивановна… – Она не дала ему договорить.
– Драться, может быть, и очень приятно, – отрезала она ему прямо, – только это нисколько делу не помогает…
– Pardon, madame, – несколько обиженно и слегка сконфузясь отвечал он, – я образованный человек… mais ces canailles5, эти сиволапые бестии…
Она прервала его еще раз:
– Все это прекрасно, только вы видите, что этот «сиволапый» засел в колею, и пока он там будет сидеть, ни вашему, ни нашему экипажу проехать нет никакой возможности. Следовательно, прежде всего вытащить его телегу надо, а затем, может быть, и бить его не окажется нужным.
– Федосей, пойдем, поможем! – молвил Гундуров, выскакивая из фаэтона. Он едва сдерживался…
Исправник, надув губы, быстро отковылял к своему тарантасу. Спутник его присоединился к Гундурову и его слуге. Они вчетвером с кучером Акулина долго бились, пытаясь сдвинуть задние колеса тяжело нагруженной телеги, между тем как извозчик, усердно уськая и подхлестывая под брюхо свою скользившую в вязкой глине лошадь, то отчаянно тянул ее справа за узду, то, перебежав налево, наваливался всем телом на оглоблю… Кончилось тем, что бедный конь, рванувшись вбок последним усилием, вывез телегу, – и тут же свалился с нею на край дороги, споткнувшись о какой-то корень. Миски и кадушки покатились под ноги исправниковой тройки.
– Ну, теперь проедем; садитесь, Николай Игнатьевич – звал Акулин Свищова. – За урон получи! – величественно крикнул он.
Смятая им в ком красненькая бумажка завертелась в воздухе и опустилась к ногам растерянного извозчика.
– Алкантара-Калатрава6, гранд испанский! – расхохотался на весь лес Свищов, подсаживаясь к Акулину в тарантас и подмигивая оттуда на него Гундурову. – Ты также в Сицкое? – тут же спросил он его.
Гундуров не без удивления поднял глаза: он никогда не был на ты со Свищовым.
– Ну, так до свидания! – преспокойно кивнул ему тот, не дождавшись ответа.
Тройка покатила, гремя бубенцами наборной сбруи…
– Извольте и ваша милость проезжать! – обернулся к нашему герою извозчик, успевший тем временем с помощью Федосея отпустить дугу и поднять свою лошадь.
– А как же с кладью-то твоею быть, свалилась ведь она вся?
– Ничего, батюшка, ваше сиятельство, спасибо вашей милости, сам управлюсь. Живо справлю… – на радостях-то, – примолвил он, улыбнувшись во весь рот.
– Грозён, небось, на вашего брата, неисправного, исправник-то? – сострил, в свою очередь, Федосей.
– Беда, – извозчик тряхнул головой, – как сорвет этто он с меня шапку… Одначе, дай им Бог здоровья, не обидели!..
XI
На балконе Сицкого, охватывавшем весь фасад дома со стороны двора и соединявшемся с боковыми висячими галереями, которыми, в свою очередь, соединялись с главным корпусом флигеля его, можно было отличить еще издалека присутствие целого общества. У Гундурова так и заходило в груди. Тут ли княжна? – сгорал он мучительным нетерпением, так же мучительно стараясь не дать это заметить сидевшей с ним рядом тетке и в то же время с глубоким смущением чувствуя, что тетка «видит его насквозь»…
Ни княжны, ни матери ее и дяди тут не было, и общество, разгуливавшее по балкону – всякие соседи обоего пола, – было едва знакомо Софье Ивановне и ее племяннику. Только Надежда Федоровна, узнав их, побежала на лестницу встречать «генеральшу» (Софью Ивановну иначе не звали в уезде) и тотчас же привела их в собственный апартамент хозяйки, куда допускались только «порядочные гости» (к мелкой сошке – «le menu fretin»1, как выражалась она в интимите2, – сиятельная Аглая выходила сама большим выходом перед завтраком и обедом) и где она теперь сидела вдвоем с «Калабрским бригантом».
Рассыпавшись в разных любезностях и изъявлениях пред Софьей Ивановной, импонировавшей ей своим спокойным достоинством, а главное тем, что «она когда-то с Императрицей Марией Феодоровной в переписке была», княгиня усадила ее в самое мягкое кресло своего щегольского с иголочки ситцевого кабинета, а «monsieur Serge’a» любезно отослала «к молодым».
– Вас давно ждут, – обратилась она к нему, – репетиции начались, и все они теперь в театре avec Larion. Вам гораздо веселее там будет qu’avec une vieille femme comme moi3. Monsieur Зяблин, и вы… Ступайте, ступайте! Я вас не удерживаю…
Зяблин вздохнул, повел на нее телячьим взглядом, как бы говоря: «жестокая!» – и не тронулся с места.
«Восхитительная женщина», – думал Гундуров тем временем, чуть не со слезами умиления чмокая жирную руку с целым арсеналом колец на коротких пальцах княгини, которую протянула она ему при сем не без некоторого покровительственного оттенка, – и вышел из кабинета сдержанно и спокойно.
Зато с лестницы он чуть не скатился кубарем…
В театре действительно шла та невообразимая неурядица, что у актеров-любителей называется «первая репетиция». Суетня была страшная, всякого ненужного народу множество; на сцене бегали, толкались, искали чего-то; смех, писк, горячие слова спора неслись, звуча каким-то пронзающим звуком, под высокий свод залы. Успевший уже охрипнуть режиссер вызывал то и дело, по кличке роли, то одного, то другого из действующих лиц «Льва Гурыча Синичкина» (шла проба этого водевиля).
– Раиса Минишна, Борзиков! Катя! Надя! Маша! Варя! – перекликал он имевших выходить в эту минуту актеров.
Слышались возгласы:
– Разве мне выходить?
– Конечно, вам!..
– Ах, виноват, я не дослышал…
– Варя! Варя! Кто Варя, mesdames?..
– Нет ее!..
– Как нет? А ты?
– Я Надя.
– Неправда – я Надя…
– Ах, Боже мой, я твою роль захватила! А где же моя?.. Не видал ли кто моей роли?
– Шш… ради Бога, господа, ничего решительно не слышно…
– Ни за что, ни за что я этого не скажу! – звенел голос Ольги Елпидифоровны, – надо это вычеркнуть!..
– А куда ж я реплику-то мою дену? – гудел Вальковский.
Все были так заняты, что никто не заметил, как вошел Гундуров.
– Четвертое действие… Сударыни, куплет! – хрипел выписанный из Москвы режиссер Малого театра, – ансамбль: граф Зефиров и девицы… Пожалуйте!
– Я не знаю этой музыки…
– И я не знаю…
– Ха, ха, ха… А вчера целый вечер за фортепьяном повторяли!
– Позвольте, музыкант сейчас вам подыграет. – Одинокая скрипка запиликала мотив вальса.
– Граф Зефиров, вам!..
Шигарев, занимавший сцену с какими-то четырьмя барышнями, на которых он карикатурно выпучил глаза, запел, подражая разбитому старческому голосу:
А! это вы, мои пулярки!..
Хохот отвечал ему изо всех углов.
– Извольте, вам-с! – Сейчас же за графом все вместе:
Спешила каждая из нас…
– кричал барышням режиссер, хлопая себя в такт по ладони рукописью пьесы.
Барышни сбились все в одну кучку и, выглядывая из-за спины одна другой, открыли рты, собираясь петь…
– Позвольте, позвольте-с! – кинулся между них несчастный распорядитель. – Так невозможно! Вы должны кружком стоять около графа!..
– И даже «приседать с грациозностью», сказано у Ленского! – кричал им снизу Свищов, бывший тут же и что-то очень суетившийся.
– Хи, хи, как смешно, хи, хи! – заголосили ему в лад барышни, которых успели кое-как расстановить кругом Шигарева.
– Извольте же сначала!
А, это вы, мои пулярки!А это что у вас? подарки?– запел опять Шигарев.
Спешила каждая из насС днем ангела поздравить вас…– немилосердно запищали хором Катя, Маша, Варя и Надя.
Ли, ай, ай, ай, как режут нас!
– запищал, в подражение им, Свищов, затыкая себе пальцами уши.
Хохот в зале раздался пуще прежнего…
Одна из пулярок сильно разобиделась:
– Что же это? Просят, а потом смеются!.. Я не буду играть!..
– И я!.. И я! О-ох! О-о-ох!..
– Ни… за что… не бу-у-дем! – принялись они хныкать уже все вчетвером.
Режиссер растерянно поглядел на зрителей.
Из первого ряда кресел отделилась высокая, полная барыня, жена окружного начальника государственных имуществ, игравшая роль Раисы Минишны, самая «образованная дама» в уезде, и побежала к сцене:
– Феничка, Eulampe, finissez, quelle honte! Je vous ai donc amenées ici4! (Две из пулярок были ее племянницы)…
Но Eulampe, – Евлампия то ж – и Феничка оставались глухи на ее внушения:
– Потому что мы не светские… не графини!.. – всхлипывали они.
Вальковский, стоявший все время в кулисе, весь поглощенный, по-видимому, чтением своей роли Синичкина, одним прыжком очутился у рампы:
– Вон! Пошел вон! – с расширившимися не в меру зрачками и дрожавшею губою вскинулся он на Свищова, главного виновника этих слез, который, со свойственным ему нахальным спокойствием лица, глядел, ухмыляясь, на разобиженных барышень.
– Ты с ума сошел! – вскликнул он, подняв, бледнея, на Вальковского свою коротко à la malcontent5 остриженную голову.
– Ты расстраивать, ты только расстраивать! – бешено кричал на него тот.
Все переполошилось в зале…
– Господин Вальковский! – раздался вдруг резким и отчетливым звуком голос князя Лариона Васильевича, – вы в доме княгини Шастуновой!..
«Фанатика» точно чем-то приплюснуло; он покосился на угол, откуда донесся до него этот голос, повернулся на длинных ногах и, без слов, опустив голову, как перепуганный волк, отправился назад в свою кулису.
Гундуров воспользовался смятением, чтобы незамеченно пододвинуться ближе к диванчику у окна, на котором сидела княжна, рядом с Ашаниным. Оба они, показалось нашему герою, так увлечены были своею беседою, что ничего того, что происходило вокруг, не достигало ни до слуха их, ни до зрения. Подойти прямо к Лине, – «а это была его прямая обязанность, как к хозяйке», говорил он себе, – мешало ему овладевшее им вдруг чувство какой-то неодолимой робости. Ему было невыразимо досадно на Ашанина за то, что он так всецело поглощает ее внимание, – и в то же время он каким-то необъяснимым чутьем отгадывал, был уверен, что Ашанин говорил о нем, Сергее Гундурове, и что у Ашанина с нею никакого серьезного разговора и быть не может, кроме как о нем, Гундурове…
– Да вот и он, легок на помине! – как бы в явное подтверждение его догадок, обернувшись и увидав его, кивнул на него княжне Ашанин.
Она поклонилась ему с места своим милым долгим поклоном сверху вниз.
Гундуров подошел.
– Здравствуйте! – сказала она, улыбаясь, как всегда, одними губами и не подавая ему руки (он заметил, что она никому не подавала руки, и это ему очень нравилось в ней: «Женщина, – рассуждал он, – никогда ни с кем не должна быть фамильярна»).
– Ты только что приехал? – спросил, обнимаясь с ним, его приятель.
– Да, с полчаса… с тетушкою…
– А, и ваша тетушка здесь? – молвила Лина с каким-то оживлением и прибавила. – Вы теперь совсем сюда… играть!..
– У нас все устроилось, и если бы ты сам не явился, я сегодня должен был ехать за тобою, – спешил передать ему новости Ашанин. – В воскресенье, после того как ты уехал, прибыло сюда много народу: Чижевский, Духонин из Москвы, соседи здешние… Вот эта крупная дама, – он кивнул на жену окружного, – очень хорошая актриса, оказывается… Мы с Вальковским воспользовались этим и, с разрешения и при помощи княгини и княжны Елены Михайловны, набрали полную труппу и на драму, и на водевиль. Это все, что, видишь, сидит в креслах, – родственницы и родственники, близкие и дальние, актеров наших и актрис, съехались на репетицию посмотреть.
– И maman, вы знаете, согласилась на «Гамлета», с теми только пропусками, какие нужными сочтет сделать дядя, – сообщила, в свою очередь, княжна, – я почти уже всю роль свою знаю.
– И Гертруда будет? – спросил Гундуров Ашанина.
– Есть – Надежда Федоровна… Но чего это мне стоило! – быстрым шепотом проговорил ему тот на ухо, – только для приятеля можно это сделать!..
В это время к княжне, расшаркиваясь и крутя усом, с ловкостью бывалого и прожженного гусара, прошмыгнул мимо толпившихся у сцены толстый исправник Елпидифор Акулин.
– Позвольте пожелать вам доброго утра, princesse, – заговорил он сладким, искательным голосом, раздувая свои отвислые щеки, – и вместе с тем, как человеку прежде всего откровенному и страшному, – засмеялся он вдруг, – прямо обратиться к вам с просьбой: позвольте мне посоперничать с моею Ольгой, пользующейся, к чести ее, а моему неизреченному счастию, благорасположением княгини-матушки вашей и, осмеливаюсь думать, и вашим собственным…
– Что такое? – слегка смешавшись и не понимая, взглянула на него Лина.
– Рольки прошу-с, самую крошечную ролечку! Что делать, страсть-с, с детства… неодолимая! Родился актером… а насмешница-судьба вот чем повелела быть!..
И господин Акулин негодующим движением вытянул вперед красные обшлага своего полицейского мундира.
– Ваша артистическая слава здесь известна, – поспешил ответить за княжну находчивый Ашанин, любезно улыбаясь исправнику, между тем как Гундуров морщил лоб, вспоминая свежую сцену в лесу, – и вы с самого начала имелись у нас в виду на роль Полония в Гамлете… если только вы не предпочитаете водевильные роли…
– Да как же это можно-с! – с искренним увлечением воскликнул на это исправник. – Шекспир!.. Да это мой бог, моя единственная религия!
Брови у княжны как-то болезненно сжались вдруг, – она отвернулась…
– Искренно, душевно благодарю вас! Осчастливили, можно сказать, – вскликнул, схватив руку Ашанина и принимаясь горячо мять ее в толстых пальцах своих, Акулин, – а Полония я вам выражу-с, смею думать, в настоящем виде…
– Я хочу вашу тетушку повидать, – сказала, вставая с места, княжна Гундурову и вышла из залы.
Молодой человек чуть не с ненавистью глянул на отдувшиеся ланиты господина Акулина. «Это он заставил ее уйти», – не мог он простить ему…
Исправник сам заметил неприятное впечатление, произведенное им на девушку, хотя еще менее, чем Гундуров, способен был объяснить себе, чем именно.
Он отошел от наших друзей и проковылял прежним путем на противоположный конец залы, где рядом с князем Ларионом сидела его дочь и щебетала не умолкая, заглядывая ему в самые зрачки своими вызывающими глазами.
Остановившись от них в нескольких шагах, господин Акулин принялся исподтишка следить за всей этой проделкой с наслаждением настоящего артиста, – каким он на самом деле и был.
– Лиза! Где Лиза? – раздалось со сцены.
– Я? – отозвалась, вскакивая с места, Ольга Елпидифоровна, – увидала отца и направилась в его сторону.
– Ну что, клюет? – кинул он ей вполголоса.
– Да вот, подите, попробуйте! – И она прошла мимо, досадливо дернув плечом.
– А ты не плошай! – наставлял ее достойный родитель.
– Нам сейчас выходить будет! – объявил, подбегая к барышне, Маус, – он играл в «Синичкине» роль Борзикова, – следивший со сцены ревнивыми глазами за нею во все продолжение ее разговора с князем.
– Иду!..
Взбунтовавшихся пулярок успели тем временем укротить. Они стояли опять на сцене в позиции, окружая Шигарева и хихикая вперегонку фиглярничаньям, которые выделывал он теперь с сугубым усердием, ради вящего поощрения их.
Я вам связала ко-ше-лечек,
– шептала «говорком» по совету Вальковского, и все-таки заикаясь от робости, Надя.
Спасибо, миленький дружочек,
– пел в ответ ей Шигарев, семеня ножками и подбегая к ней петушком.
Вам пецышко связала я,
– завизжала тоном выше скрипки картавая Варя, приподымая чуть не к самым волосам огромные черные брови.
Спасибо, косецька моя!
– сюсюкнул ей в ответ граф Зефиров и обнял ее за талию.
– Ах, ах, что это, как вы смеете! – взвизгнула она уже совсем неестественно.
– Я по пьесе, я должен вас целовать; и вас, и вас, и вас, всех должен перецеловать!..
– Неправда, неправда, мы не позволим! – заголосили они опять все.
– Это точно-с, в пьесе! – заявил, кидаясь к ним с тетрадью, режиссер.
– Нет, нет, ни за что! Мы лучше совсем петь не будем.
Новый, чреватый грозами бунт целомудренных пулярок усмирен был на этот раз мудростью «образованной» окружной: она согласила их на том, что Зефиров-Шигарев «должен только faire semblant6 их целовать», и что таким образом «и ситуация будет соблюдена, и конвенансы1 спасены».
– А на представлении я все же вас по-настоящему чмокну, – обещал им вполголоса Шигарев.
– А я вас за это тогда тресну! – обещала ему, в свою очередь, Eulampe, самая решительная из пулярок…
– Пойдем в сад покурить, – сказал Гундурову Ашанин, – князь здесь, при дамах, не позволяет. Они сейчас кончат «Синичкина», а затем наша репетиция: хорошо, что ты приехал, а то мы хотели уж без тебя считку сделать; время дорого…
– Но княжна ушла… – с некоторым усилием проговорил Гундуров.
– Придет! – коротко ответил красавец, направляясь к дверям.
Они вышли в сад.
XII
Гундуров втайне надеялся, что приятель его непременно начнет с того, что перескажет ему свой разговор о нем с княжною. Но тот, к его удивлению, не только не начал с этого, но как будто старался даже обходить все, что касалось княжны в том перечне театральных новостей, который он торопился теперь досказать ему. Нашему герою показалось даже, что Ашанин как бы избегал смотреть ему в лицо и что его обычный смех не звучал прежнею его искренностью. Что-то кольнуло в сердце Гундурова. «Уж не сам ли он?» – зашевелилось – и не досказалось в его встревоженной мысли. И он беспокойными глазами ловил эти, казалось ему, избегавшие их глаза Ашанина.
А тот, действительно торопясь, как бы с намерением не давать Гундурову времени заговорить о чем-то другом, подробно передавал ему о костюмах для «Гамлета», за которыми с письмом от него и от Вальковского к Петру Степанову[9]1 послан был накануне нарочный от княгини в Москву.
– Прошлой зимой, когда Двор был в Москве, – объяснял Ашанин, – на ряженом балу у графа (тогдашнего главного начальника столицы) была Россия в костюмах и Двор Елизаветы из вальтерскоттовского Кенильворта2. Я вспомнил, что английские костюмы почти все теперь перешли к Степанову; я ему так и написал, чтобы прислал все, какие только у него есть. Он по дружбе даст их напрокат нам за самую сходную цену; как раз что нам нужно, – костюмы шекспировского времени, именно такие, в каких, по всей вероятности, играли в «Гамлете» он и его товарищи, – свежие, всего два раза надеванные. Там как раз для тебя костюм есть старика Суссекса[10]3, весь черный, бархат и атлас. А я возьму костюм Четвертинского, – он Лейчестера[11]4 изображал, – пунцовый с белым. Прелесть!.. У Чижевского его синий с золотом остался от бала, он не продавал его… Одеты все мы будем великолепно! Только вот не знаю, туша эта исправник, которому я сейчас Полония отдал, найдется ли для него что-нибудь по мерке? В трико-то он уж, наверное, ни в чье не влезет…
– Да роли все ли распределены? – спрашивал Гундуров, все продолжая ловить нырявшие по сторонам глаза Ашанина.
– Все, все… придется, может быть, какого-нибудь Волтиманда или Франческо похерить, да и то найдутся и на них. Вальковский в восторге – я ему Розенкранца дал, молодую роль!.. Могильщики будут у нас превосходные, одного играет Посников – землемер тут есть один, – он мне вчера роль читал – талант, настоящий талант! Другого – студент при князьке, Факирский по фамилии, неглупый малый и рьяный жорж-сандист…
– Это тот, – неловко улыбаясь, промолвил Гундуров, – что из-за занавески княжну высматривает?
– Может быть… И кто же ему может помешать! – как-то нетерпеливо повел плечами его приятель. – Однако, – словно спохватился он, кидая свою папироску, – мне надо в контору за ролями, актерам раздать…
– И только? – так и вырвалось у Гундурова.
– Что только? – спросил тот, останавливаясь на ходу.
– Отзвонил – и с колокольни долой!.. Тебе… тебе нечего более передать мне? – робко договорил он.
– Ах, да! – засмеялся красавец, возвращаясь. – Я тебе говорил про Гертруду, чего мне стоило…
– Ну?
– Я ведь опять вляпался, Сережа!..
– Как так?
– Да так что… Ну, не хочет женщина, ни за что не соглашается играть! А я чую, вижу, что лучшей Гертруды нам не сыскать!.. Я ей и посвятил два дня, два целых дня посвятил ей исключительно… Вот вчера это вечером случилось, – вздохнул Ашанин, – ночь была такая чудесная, вышел я после ужина сюда, в сад погулять… Сел на скамью, соловьи так и заливаются, воздух нежит. Только слышу, чьи-то шаги скрипят по песку. Она, моя Надежда Федоровна, идет, прогуливает свои обветшалые красы… «Ах, ах, это вы?» – Ах, ах, это я! – отвечаю ей в тон… Гляжу, она и дрожит, и улыбается… Взял я ее под руку – пошли. Я опять про Гертруду, внушительные речи ей держу: «что за ночь, за луна, когда друга я жду», и так далее… А тут, на беду, беседка, – зашли, сели… Вот она слушала меня, слушала, да вдруг голову мне на плечо, и так и залилась… А я, ты знаешь, женских слез видеть не могу… Ну и…
– Господи! – даже вскрикнул Гундуров. Московский Дон-Жуан комически вздохнул опять:
– Должно быть на роду ей уже так написано; любила она, говорит, впервой какого-то учителя; обещал он ей жениться – надул, подлец! Она возьми да и отравись!.. Да, самым настоящим манером отравилась, – мышьяку хватила… «Пятнадцать лет, – говорит, – замаливала я этот грех… А теперь, – говорит, – я не снесу! Если ты, говорит, меня обманешь, для меня все кончено!..» Помилуйте-скажите, – вдруг разгневанно воскликнул Ашанин, – да ведь я же ее непременно обману, да ведь я же ни одной еще женщине в мире не оставался верным! Помилуйте, да ведь это хуже, чем с моею покойницей!..
– Ты ее с толку сбил, несчастную, и на нее же сердишься! – строго и озабоченно говорил Гундуров. – Что ты будешь делать теперь?
– Что буду делать? – повторил тот. – Ярмо надела она на меня, пока не отбудем спектакль, – вот беда! Такие натуры не шутят: пожалуй, в самом деле, сдуру в воду кинется… Поневоле оглядываться приходиться!.. А тут как на смех эта черноокая Акулина… Заметил ты ее глаза, а? Ведь мертвого поднять способны!.. И как подумаю, что влез я в эту штуку единственно из-за того, чтобы «Гамлет» наш не расстроился… между тем как…
И Ашанин, с таким только что легкомыслием относившийся к судьбе бедной перезрелой девы, имевшей несчастие полюбить его, воззрился вдруг теперь на приятеля с выражением какой-то глубокой тревоги о нем в больших, говоривших глазах…
А Гундуров, в свою очередь, с тою болезненною чуткостью, что рядом со слепотою дана в удел влюбленным, тотчас же понял, что говорили эти глаза, и также испугался теперь, чтобы Ашанин не произнес имени княжны, как за минуту пред тем страстно желал услышать из уст его это имя.
– Что же наша считка, – поспешно заговорил он, – ты говорил, надо роли раздать?..
– Господа, вас просят на сцену! – в то же время раздался за ними чей-то голос.
Это был тот студент, «жорж-сандист», юноша лет двадцати, в котором чуял себе соперника Гундуров. Скажем здесь кстати, что он смотрел прямым московским студентом тех времен: что-то зараз открытое и вдумчивое, серьезное и мягкое в пошибе, чертах, во взгляде больших карих глаз, неряшливо падавшие на лоб волосы и потертый уже на швах рукавов новый сюртук с синим воротником и форменными с орлами пуговицами…
Он, с своей стороны, не чуял, видимо, ничего похожего на нерасположение к себе в нашем герое:
– Позвольте вам себя представить, – Факирский, – молвил он ему, подходя и кланяясь, – кланяясь даже с некоторым оттенком почтительности, – я также был филолог, теперь на юридический перешел, но вы меня, вероятно, не помните; я был на первом курсе, когда вы кончали… Только я вас очень уважаю! – скороговоркой добавил он, как-то неловко отворачиваясь и в то же время протягивая свою руку Гундурову.
– Я вам очень благодарен, – сказал тот, пожимая ее, – но не знаю, чем заслужил…
– Я вашу кандидатскую диссертацию имел случай прочесть, – пояснил студент, – превосходная вещь-с! Хотя я и не славист, а истинное наслаждение мне доставила. Ученость ученостью, а прием у вас такой… теплый… Там, где вы это о братстве народов по поводу славян развиваете…