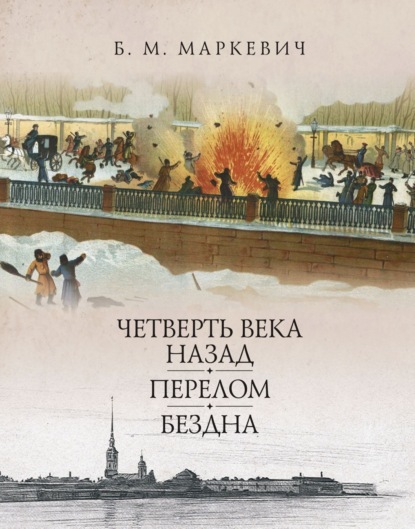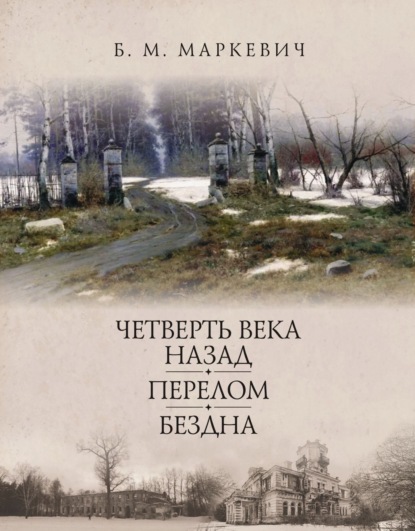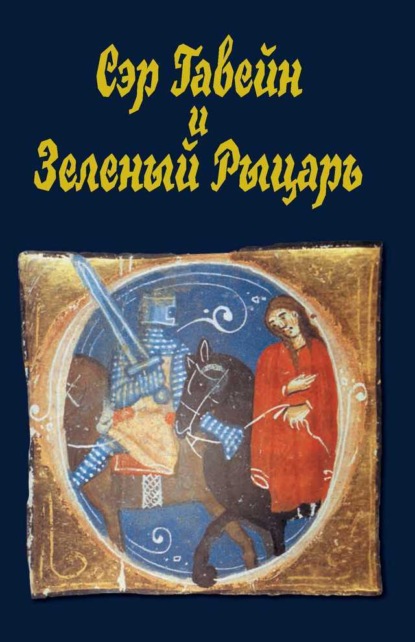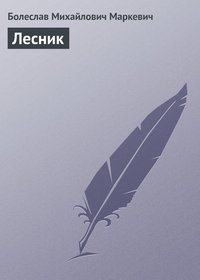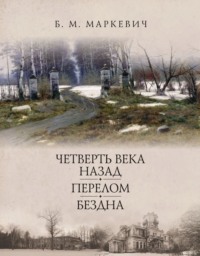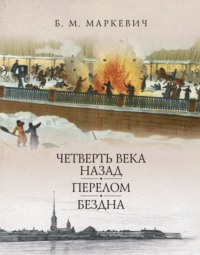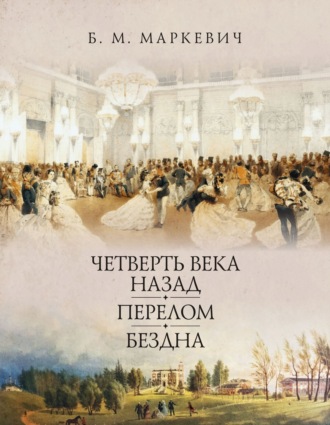
Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
Она любила племянника со всем пылом горячей, всю себя сосредоточившей на одном предмете души; она гордилась им, его здоровой головой, его чистым, гордым сердцем. Его успехи, карьера, им избранная, были ее делом, – делом, неуклонно веденным с самых юных его лет. С тех пор еще из деревенской глуши своей Софья Ивановна верным и зорким взглядом следила за событиями. 1825-й год был недалек и памятен ей; роковые последствия его для русского общества были для нее очевидны. Запуганная мысль пряталась по углам; на свет Божий выступало казарменное, тупое безмолвие… Не раз просиживала по целым часам Софья Ивановна над кроватью заснувшего Сережи, задумавшись над вопросом: «Как воспитать в этом ребенке человека и тем самым в то же время не приготовить ему гибели в будущем?» По мере того как рос Сережа – мальчик оказывался даровитым и прилежным, – возрастала и тревога ее за него, за это его будущее… Случайный разговор разрешил ее недоумение. Приехав однажды навестить больного старика Шастунова, – к которому сохраняла она доброе чувство со времен войны своей с опекуном-гусаром, – она застала у него сына его, князя Михайлу, прискакавшего из-за границы по первому извещению о болезни отца, с тем, чтобы отвезти его в Карлсбад, куда старик ездил каждый год и где вскоре за тем он и умер… Молодой тогда еще дипломат и Софья Ивановна, видевшая его в тот день в первый раз, проговорили вдвоем целый вечер. Он был недавно женат, занимал уже видное место при посольстве в Лондоне, но из-за его небрежно-насмешливых речей просвечивала какая-то глубокая внутренняя тоска и недовольство своим положением. «Если бы мне теперь приходилось начинать жизнь сначала, – говорил он между прочим, невесело смеясь, – я бы непременно сделал из себя какого-нибудь ученого геолога и кристаллографа. Во-первых, это благонамереннейшая изо всех специальностей, – и я еще не знаю ни одного примера, чтобы такой господин попал в Сибирь иначе, как по собственной охоте, науки ради; а во-вторых, – и это главное, – человек поглощается весь интересами абстрактного содержания, которые… которые не дают ему времени додуматься до отчаяния», – глухо, как бы про себя, примолвил князь Михайло… Софья Ивановна вернулась к себе в этот вечер, как озаренная. «Помоги мне Бог, – рассуждала она, – направить Сережу к ученой карьере; наука спасет его и от отчаяния, и от холопства!..» И с этой минуты все помыслы ее, все силы были устремлены к достижению этой цели. Постоянно стараясь вызывать любознательность ребенка, она с лихорадочным вниманием наблюдала за тем, куда клонились его природные дары, к какой области ведения тянули они его. Скоро должна она была убедиться, и не без сожаления, что к точным наукам у Сережи было мало расположения и что едва ли могла она надеяться увидеть его когда-либо «благонамеренным кристаллографом», как выражался князь Михайло. Мальчик зато оказывал самые решительные лингвистические способности. «Что же, – подумала Софья Ивановна, – и это дело, и это может сделаться интересною поглощающеюся специальностью!» Надежды ее с этой стороны осуществились вполне – и новым счастливым днем в ее жизни был тот день, когда Сережа, с горделивым румянцем на щеках, пришел объявить ей, что университет имеет его в виду для занятия кафедры по славянской истории…
Громовым ударом для этой сердечной и мыслившей женщины была весть, полученная ею из Петербурга от племянника, об отказе ему в заграничном паспорте. Она огорчена и поражена была этим гораздо более, чем сам Гундуров, – она была испугана. Все ее упования, все это здание, которое она с такою любовью, с такою заботою воздвигала в продолжение стольких лет, – все это разлеталось в прах от одного почерка пера!.. «Что он будет делать теперь? – спрашивала она себя с мучительною тревогою. – Чем наполнит жизнь?..» Не знать, «чем наполнить жизнь», чему «отдать душу», – она, вечно деятельная и мыслящая, – ничего ужаснее она себе представить не могла. Отсутствие живых интересов, серьезной задачи и эта душевная пустота и уныние, которые замечала она в лучших людях, с какими случалось ей встречаться, – что бы ни доводило их до того, – ничего, в ее понятиях, не существовало более позорного и печального… Боже мой и неужели это же должно ждать Сережу, ее питомца, ее надежду, жизнь ее?!
Извещение его о том, что он, по совету ее брата, вступил на службу в Петербурге, не успокоило ее, – напротив! Она лучше, чем он сам себя, знала его, знала, что это для него не спасение, не исход, а еще ближе путь к тому унынию, которому она, со своею энергическою натурой, придавала буквально весь тот ужасающий смысл смертного греха, в каком его понимает христианская Церковь… Но следовало ли ей мешать ему искать этот исход, отзывать его из Петербурга? Нет!.. У нее еще в первый раз в жизни опускались руки, – нет, «как Богу будет угодно!», решила она…
И с каким-то двойным ощущением радости и тревоги ждала она его теперь, в Сашине, в этом спасенном и воссозданном ею гнезде его, после того как получила она от него наконец известие, что чиновником он решительно быть не в силах, что он возвращается к ней, к своим книгам, к своим занятиям, что он «положил терпеливо ожидать лучших времен…»
Она сидела на своем обычном месте, в своей прохладной и просторной спальне, у окна, выходившего в старый, тенистый липовый сад, и проверяла какие-то счеты. Ручная канарейка весело попрыгивала по ее столику, взлетала ей на плечо и, поглядывая избока ей в лицо своими блестящими глазками, усиленно чирикала, будто спрашивала: отчего ты мною так мало занимаешься?.. Был час двенадцатый. В цветнике, под окном, на пышно распускавшиеся шары пунцовых пионов падал отвесно горячий свет солнца…
Софья Ивановна вдруг приподняла голову, насторожила ухо… Какой-то далекий гул донесся до нее из-за сада…
Она не знала, когда именно должен приехать племянник, не знала даже о прибытии его в Москву. Но это был он, – сердце ее так сильно не забилось бы, если бы это был не он!..
Она поднялась с места, перекрестилась широким крестом и пошла было к дверям, но не могла. Дрожавшие ноги отказывались двигаться… Она опустилась снова в свое кресло, нажимая обеими руками до боли трепетавшую грудь…
Послышались в доме крики, возгласы, возня… В спальню ворвалась горничная Софьи Ивановны. «Барин, Сергей Михайлович!» – визжала она как под ножом… Под крыльцом уже грохотала подъезжавшая его коляска…
Еще мгновение – и он стоял на коленях на скамеечке у ее кресла и горячо целовал ее руки…
IX
Ее точно что-то кольнуло, когда узнала она, что он прямо от Шастуновых.
– Как ты попал туда? – спрашивала она, изумляясь. Он начал рассказывать подробно – слишком уж подробно.
Театр, Ашанин, князь Ларион, – все это странно звучало в ее ушах. Она никак не ожидала, что первым предметом беседы ее с Сережей будет это. В этом было на ее глаза что-то легкомысленное и необычное ему.
«Он знает, что меня тревожит, и нарочно отдаляет разговор, чтобы не навести на меня тоску на первых же порах», – объяснила она себе это.
Но она никогда не отступала перед тем, от чего ей бывало тяжело и больно.
– Что же ты будешь теперь делать, Сережа? – поставила она прямо вопрос, о котором она денно и нощно думала полгода сряду.
– Я вам писал, тетя… – отвечал он каким-то рассеянным тоном, очень удивившим ее.
– Что ж ты писал, – я тебя спрашиваю теперь, – сказала она, с недоумением глядя на него, – неужели же для тебя все надежды на профессорство кончены?
– Нет, – молвил Гундуров, как бы цепляясь за убегавшую от него мысль, – я познакомился с одним… я встретился в последнее время случайно… с одним влиятельным человеком в министерстве…
– Что же этот влиятельный человек? – нетерпеливо подгоняла его Софья Ивановна.
– Он говорил мне, что если университет вступится… то есть, если он войдет с решительным ходатайством обо мне, то тогда…
– Фу, как ты нескладно рассказываешь! – прервала его она. – Что ж, ты виделся теперь, в Москве, с каким-нибудь из университетских?
– Ни с кем, тетя, – я к вам спешил…
– И просидел все утро у Шастуновых! – упрекнула она его с полуулыбкой. – А я виделась, говорила… Университет ходатайствовать за тебя едва ли решится: кафедра занята, без адъюнкта можно и обойтись, а к тому, мне говорили наверное, есть какое-то предписание университетам, чтоб за границу, впредь до нового повеления, никого из молодых людей не посылать…
Гундуров пожал плечами.
– И ты так легко миришься с этим? – пылко воскликнула за этим движением Софья Ивановна.
– Что же мне делать! – усмехнулся он слегка. – Против рожна не прать! Все, что от меня зависело, я сделал, специальности своей я не кину, – я и в Петербурге проводил полжизни в Публичной библиотеке за разбором славянских рукописей, – к тому, что я знаю, много, очень много еще могу я добавить и в Москве… А там… «Не все ж на небе будет дождь», тетя, – вспомнил он слова князя Лариона, – «авось и солнышко проглянет!..»
Она глядела на него, ушам своим не веря… Так вот как философски относился он теперь к этой несбывшейся поездке в славянские земли, к которой он готовился, о которой мечтал с таким восторгом, без которой, писал он ей еще из Петербурга, все, что мог бы еще приобрести «из книг», было бы только одним бесполезным «ученым хламом», безжизненным материалом, лишенным всякого плодотворного и оплодотворяющего духа. Откуда же вдруг это равнодушие, это поверхностное отношение к тому, что было, что должно быть ему так дорого?.. Неужели Петербург успел его так скоро испортить?..
Но относительно самого факта он был прав и не заслуживал никакого упрека. Действительно, им было сделано «все, что от него зависело», и оставалось единственно ждать, когда «на небе опять проглянет солнышко». Тем не менее на душе у Софьи Ивановны не было покойно: она боялась уныния, а тут он вернулся вдруг весь сияющий, «сияющий какою-то непонятною фривольностью», говорила себе она…
Она внимательно следила за ним из-под опущенных век, между тем как он, поднявшись с места, принялся ходить по спальне, останавливаясь перед шкафами и этажерками, заглядываясь на ее саксонские куколки, на фарфоровые горшки с месячными розами, расставленными по окнам, на обвитый вечной зеленью плюща портрет Императрицы Марии Феодоровны в золоченой рамке под стеклом, – самый драгоценный для Софьи Ивановны предмет в ее комнате, – и улыбался какою-то умиленною и радостною улыбкою…
«Он счастлив, что вернулся домой, и ни о чем другом не может думать в эту минуту», – объяснила себе Софья Ивановна с успокоенным чувством – и улыбнулась тоже.
– Позвони, Сережа, – сказала она, – ты мне пыли нанес в комнату, ужас!
Вошедшему слуге она приказала отереть пыль с сапогов Сергея Михайловича и подмести пол.
– Вы не изменились, милая тетя, – весело рассмеялся Гундуров, – все та же у вас мономания чистоты!..
– Вот ты надо мною трунишь, – так же весело отвечала она, – а я от твоей княгини Шастуновой аппробацию за это получила, когда была она здесь… И все охала она, – громко рассмеялась Софья Ивановна, – и ахала, удивляясь, как это я, несмотря на «провербиальную1 грязь» русской прислуги, как я успеваю «obtenir ces effets la2», то есть попросту, как достигаю держать дом в опрятности. Уморил меня князь Ларион; «а это» пресерьезно объясняет он ей за меня эти мои «effets», «это иначе не достигается», говорит, «как посредством геометрии; советую», говорит, «вам учителя взять»… А она слушает его и ничего не понимает…
– Он удивительно что иногда позволяет себе отпускать ей, – сказал Гундуров, – образ княжны как живой промелькнул перед ним в эту минуту, и он передал Софье Ивановне эпизод с князьком за завтраком.
– Да, он умный человек, но… терпкий, – молвила она, выслушав, своим обычным, серьезным тоном и как бы отыскивая подходящее выражение…
– Князь-Михайлу он детям его собою не заменит! – примолвила Софья Ивановна, помолчав, и вздохнула.
– И как это чувствительно для княжны Лины! – вырвалось у Гундурова.
В звуке его голоса было что-то, что опять так и кольнуло Софью Ивановну. Она уставилась на него:
– А ты почему думаешь? – спросила она, стараясь произнести эти слова как можно спокойнее.
Но он стоял к ней спиною и глядел в сад: она не могла видеть его лица…
– Княжна в разговоре, – отвечал он не сейчас на вопрос тетки, – сказала несколько слов про отца, и из них я мог заключить…
– Что ей дорога его память, – договорила Софья Ивановна, не дождавшись конца фразы племянника, – это ей приносит честь!.. Он стоил этого!..
– Вы его любили, тетя? – сказал Гундуров, обращаясь к ней.
Странное дело, – эти слова как бы смутили Софью Ивановну. Она несколько времени не находила ответа… Кто изведает изгибы женского сердца? Быть может, в эту минуту совсем в ином значении представлялся для нее бесхитростный вопрос племянника, и в душевной глубине своей старалась разобрать она, какое в действительности чувство внушал ей этот человек, с которым она встречалась на несколько часов в длинные интервалы трех, четырех лет, не разумея его никогда иначе, как за умного и приятного собеседника, но которого каждое слово в эти редкие их встречи хранила ее память до сих пор, а смерть глубоко и долго щемила ей сердце…
– Он такой же был, как князь Ларион, – промолвила она наконец, – образованный и блестящий, – они оба очень хорошо учились, сначала в Англии, потом в немецких университетах, но более теплоты в нем было, сердца… Счастием в жизни он похвалиться не мог! Эта его женитьба… Они совсем было разорились; у отца их были счеты со стариком Раскаталовым, – он в один прекрасный день выписал князь-Михайлу из-за границы и женил его без церемонии… на этой Аглае… Тяжела, говорят, была ему жизнь с нею, очень тяжела… да и он, по правде, муж-то был не образцовый… В службе тоже, – начал великолепно, а кончил ничем. Немецкое начальство давило его всю жизнь, боялось его острого ума и русской души… Под конец уж, года за три до смерти, попал он посланником к ничтожному немецкому двору. – «Я похороненный человек, – говорил он мне, мы тогда перед его отъездом туда виделись с ним… ты был тогда в пансионе, – я похороненный человек – и могу теперь говорить о себе, как о мертвом и чужом. У меня были способности, а – главное – горячее желание служить отечеству, служить настоящим, русским пользам. Был случай – во время войны греков за независимость, – я имел возможность сказать свое положительное слово. На меня было обращено внимание. Но с тех пор за то я был, по-видимому, записан в число опасных, и к делу уже меня больше не допускали… Таких, как я, много у нас, – говорил он по этому случаю, – такова, должно быть, судьба России, что еще долго должны томиться под спудом и материальные, и духовные ее силы!..» Никогда не видала я его таким печальным, как в этот – в последний – раз… – домолвила Софья Ивановна, помолчав опять. – «У меня, – говорил он, – осталась одна радость – дочь! Дай Бог мне дожить…»
– Да, тетя, – перебил ее неожиданно Гундуров, – она необыкновенная девушка!
– Необыкновенная… – повторила бессознательно Софья Ивановна – и так и обмерла…
Эти сверкавшие глаза, зазвеневший как натянутая струна голос, – у нее не оставалось сомнений… Это был пожар, всего его разом охвативший в эти два, три часа, проведенные в Сицком, и с которым – она сейчас это почуяла – приходилось серьезно считаться.
Открытие это застигло ее совершенно врасплох. Умная женщина была Софья Ивановна, но, как это часто случается с умными людьми, она в своих соображениях позабывала о случайностях, вечным игралищем которых бывает наша бедная человеческая жизнь. Она в неустанной заботе своей о судьбе племянника, казалось ей, все предвидела, все, кроме этого!..
– Сережа! – испуганно воскликнула она под первым впечатлением, но тут же сдержала себя, – не даром была умна… – Она тебе очень понравилась? – примолвила, улыбаясь ему через силу, Софья Ивановна.
Но он был настороже. Он знал тетку так же, как и она его знала. Вырвавшееся у нее восклицание и теперь эта натянутая улыбка, – он понял и сжался, как цветок под холодным ветром.
– Д-да, – проговорил он почти равнодушно, – она действительно замечательная… я, по крайней мере, такой еще не встречал, с таким здоровым и благородным образом мыслей… Мне большое удовольствие доставило беседовать с нею…
– Она мне самой очень понравилась, – тотчас же впадая в его тон, молвила Софья Ивановна, – такая красивая и порядочная!..
– И вы, тетя, – почел не бесполезным сообщить ей Сергей, – произвели на нее самое лучшее впечатление!..
– Да? Что же, я очень рада!.. Она очень похожа на отца этим своим изящным спокойствием… Ты говоришь, она его поминает?
– Да…
– Она успела тебе говорить о нем?
– Что же «успела»? – вдруг заволновался Гундуров. – У нее вырвалось невольно… И не мне одному, она бы, вероятно, всякому сказала… только я ближе к ней сидел… Когда князь-Ларион отпустил эту колкость ее матери, она сказала, что, если б отец ее был жив, этого бы не было!..
– Она права!..
Софья Ивановна одобрительно кивнула – и тяжко задумалась. Чем достойнее ее сочувствий могла оказываться эта княжна, тем страшнее была она для нее!..
Прошло довольно долгое молчание. Гундуров опять заходил по комнате.
– Что же, ты думаешь скоро опять в Сицкое? – спросила его наконец тетка.
Он остановился:
– Мне говорила княжна, что она ждет меня с вами, тетя, – проговорил он чуть не умоляющим голосом.
– А тебе скоро надо? – подчеркнула она.
– Да, я там играю… Гамлета, – глухо добавил он, – он себе почему-то показался в эту минуту очень мелким и смешным.
– И она… княжна, – тоже играет?
– Да, Офелию…
– И ты, – улыбнулась Софья Ивановна, – будешь просить ее… как бишь там: «Сударыня», или «прекрасная девица, помолитесь о моих грехах?»
О, нимфо! помяниМои грехи в твоих святых молитвах![7]– процитировал он.
– Странно как-то, и только у Шекспира можно встретить, – заметила она, – святая молитва и нимфа!..
– Да, но прелестно! – воскликнул Гундуров.
– Не спорю, – улыбнулась она опять. – А не хочешь ли ты отдохнуть, – спросила она его, – после дороги… и этого визита? Мы, как всегда, будем обедать в три часа.
– Если позволите, тетя, – поспешно ответил он, – я действительно немного устал…
Она долго, сжав руки, глядела ему вслед. Глубокая морщина сложилась между ее бровями, и нижняя губа слегка шевелилась, будто шептала она что-то про себя… Да, она это не предвидела, – и глубоко упрекала себя за то… Но чем могла бы отвести она от него это?.. Она уберегала его до сих пор от всех соблазнов молодости. Чистая и строгая жизнь его не знала до сих пор тех увлечений, которым отдается обыкновенно юность в его годы… Уж не ошибка ли была это с ее стороны? – спрашивала себя теперь в тревоге Софья Ивановна; то, что так легко удавалось ей сдерживать в нем, прорвалось и польется теперь кипящим, неудержимым потоком… Она предвидела: он весь теперь там будет, он отдастся ей всем этим девственным сердцем своим!.. И что сказать, как упрекнуть его за то? Он прав; к несчастию, прав, – она, эта девушка, она прелестна; она ее, старуху, очаровала с первого раза; она похожа на отца своего, который… Они стоят друг друга с Сережей… Но ведь это невозможно, – достаточно только раз взглянуть на эту Аглаю, на это детище разбогатевшего кабатчика: можно ли допустить, чтобы она дочь свою, княжну, согласилась когда-нибудь отдать за профессора! Она к тому же порешила судьбу своей дочери, – Софья Ивановна имела основание предполагать это… Горе, унижения, одно мучительное горе принесет ему эта любовь… И нечем теперь оторвать, некуда увезти, услать его от неотразимого соблазна! Как же спасти его, спасти от ожидающего его отчаяния? Неужели нет средства?..
Она судорожно хрустнула сжатыми пальцами, обернулась на образа под наплывом какой-то смертельной тоски – и прошептала:
– Владычица Небесная, осени его Твоим Покровом!..
X
Долее трех дней не в силах была Софья Ивановна удержать племянника в Сашине. Он видимо томился, скучал, избегал разговоров, уходил с утра в дальние поля, опаздывал к обеду… «Он весь там, он уже весь ее, нам с тобою уже ничего не осталось от него, Биби», – отвечала она, подавляя слезы, на вопросительное чириканье своей канарейки, сидя с ней по целым часам одна в уютной свежей комнате, в которой он – тут, рядом с ее постелью, за этими старыми лаковыми китайскими ширмами, – спал до девятилетнего возраста в своей маленькой кроватке, где каждый угол напоминал ей его детство, его первый лепет и первые ласки… Но не в характере Софьи Ивановны было тосковать и плакать. «Волку прямо в глаза гляди!» – любила говорить она в трудные минуты жизни, – и прямо шла на него, на этого волка. И в этот раз поступила точно так же: встрепенулась разом, отерла слезы, надела свое праздничное шелковое не то табачного, не то горохового цвета платье, которое называлось у нее поэтому «la robe feuille morte de Madame Cottin»[8]1, – велела заложить фаэтон и послала горничную сказать Сергею Михайловичу, что она собирается в Сицкое…
Он тотчас же прибежал и без слов кинулся обнимать ее. Глядя на его молодое, радостно сиявшее лицо, Софья Ивановна вдруг упрекнула себя в эгоизме. «В сущности, – молвила она внутренне, – я во всем этом более о себе, чем о нем, думала и вследствие этого преувеличивала, может быть, препятствия, которые ожидают его там… Неодолимы ли они в самом деле? Или это только мне кажется так потому, что тогда я лишусь его, лишусь совсем… Но разве эта минута не должна была прийти для меня рано или поздно, разве я давно не готовилась к ней?.. Нет, тут дело идет не о моем, а о его счастии, надо действовать!.. А там – посмотрим!..»
Через час тетка и племянник выехали вдвоем в новеньком, легком фаэтоне, запряженном четверкою молодых, выхоленных караковых лошадок в щегольской сбруе, и Гундуров с каким-то еще не испытанным им доселе чувством ребяческого тщеславия подумал, что «вот они как парадно подкатят под широкое крыльцо Сицкого», – и тотчас же, слегка покраснев, сказал себе: «Как мелко бывает однако на душе человека, даже в лучшие его минуты». Он как-то очень ясно сознавал, что для него пришли эти «лучшие минуты».
Добрые лошадки домчали их без передышки до самого казенного леса, уже знакомого нашему читателю, за которым начинались владения Шастуновых. Там, по узкой и изрытой подсыхавшими колеями дороге, приходилось поневоле плестись шажком.
Громкий крик понесся им навстречу, едва въехали они в лес. Чей – то надрывающийся голос лился перекатами по лесному пространству, еще не внятный, но несомненно грозный… Кто-то гневался против кого-то очень сильно.
– Что там такое? – привстал невольно Гундуров.
– Левизор, стало быть, действует; насчет порубки, стало быть, – объяснил с козел Федосей. Кучер дернул вожжами, четверня прибавила шагу…
Послышались уже явственно слова:
– Не видишь, распротоканалья ты эдакая, не видишь? А вот я тебе покажу! – звенел, словно надтреснутая труба, разъяренный начальственный баритон.
– Батюшка, ваше благородие… помилуйте!.. Куда ж свернуть прикажете? – раздался подначальный перепуганный фальцет. – Кладь свалишь!..
– И вали, сто ершей тебе в глотку, вали, сиволапый черт! – слышалось все яснее и звончей.
За ближним уклоном дороги открылось следующее зрелище.
Посередь самого проезда, меж тесно сходившимися здесь с обеих сторон стенами леса, стояли друг против друга тройка в тарантасе и застрявшая колесами в глубокой колее извозчичья телега. Высоко нагроможденные на нее деревянные жбаны, миски и кадушки неуклюже торчали и кренили на бок из-под дырявой рогожи и плохо увязанных кругом веревок. Хозяин без шапки – явно только что сброшенной с его головы, – прижавшись к своей клади, стоял с приподнятыми к лицу, растопыренными ладонями в ограждение его от чаемого немедленно удара подступавшей к нему руки в красном обшлаге… Рука принадлежала господину в форменном сюртуке и фуражке, необыкновенно быстрому и зоркому в своих движениях, хотя живот начинался у него от самого горла и коротенькие ножки с трудом, казалось, могли поддерживать груз наседавшего на них объемистого туловища. Он, видимо, только что выскочил для кратчайшей расправы из своего экипажа, в котором сидел спутник его, плотный молодой человек в сером плаще и белой волосяной фуражке.
– Исправник, – доложил, оборачиваясь к барину, Федосей.
– Я его знаю! – проговорила спешно Софья Ивановна, которую всю коробило от этой сцены. – Господин Акулин, господин Акулин! – крикнула она громко, между тем как экипаж их остановился за тарантасом исправника.