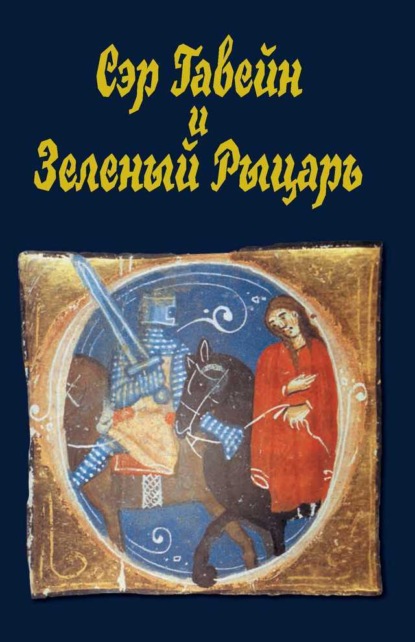Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
Востроглазая барышня не дала княгине ответить: она с разлету бухнулась на колени перед ее креслом, схватила ее руку:
– Милочка моя, княгинюшка, прелесть моя, хорошо ли вы провели ночь? – проговорила она вкрадчивым, шутливо ребяческим голосом.
– 3-Mersi, petite, mersi, – отвечала та жалобным тоном, – я давно разучилась спать, се qui s’appele dormir, vous savez… но мне лучше сегодня, mersi-3!.. – Настоящая кошечка! – поощрительно улыбнулась Аглая Константиновна и ласково провела рукой по ее щеке. – Levez vous donc, petite3!
– Enchantée de vous voir chez moi, monsieur4, – нашла она наконец время обратиться ко все еще стоявшему перед ней в выжидательной позе Гундурову.
– Извините, княгиня, – заговорил он, – что я осмеливаюсь предстать пред вами в таком неприличном виде, – он указал на свое дорожное пальто, – но я здесь совершенно сюрпризом, и на виноватого в этом я прямо вам указываю в лице князя Лариона Васильевича, которому угодно было удержать меня на пути…
– Без извинений и садитесь, – любезно перебила она его: ей понравились и благообразная наружность молодого человека и это его извинение, которое она находила bien tourné5, и даже то, что он сказал «предстать пред вас», а не «перед вами», – оборот, который, в ее понятии, употреблен был им для выражения особой к ней почтительности.
– А у меня и извинения никакого нет! – заговорил Ашанин, также не успевший переменить свой дорожный костюм. – Кладу на плаху повинную голову! – Он низко наклонил ее к руке княгини.
– Toujours beau6! – И она прижала сама эту руку к его губам: она питала слабость к Ашанину, как вследствие того, что «он так хорош» был, так и потому, что он неподражаемо умел сообщать ей на ухо разные скабрезные анекдотцы, до которых она, как всякая несколько пожившая женщина, была in petto большая охотница.
Общество между тем рассаживалось за стол.
– Позвольте вам предложить мое место, княжна, – молвил Зяблин беззвучным и мягким, напоминавшим о сдобном тесте, голосом, странно противоречившим его наружности «Калабрского бриганта».
– Благодарю вас, – улыбнулась ему, проходя мимо, Лина – и, окинув стол быстрым взглядом, пошла занять место рядом с одиноко сидевшим землемером, с которым тотчас же завела какой-то разговор.
Зяблин испустил глубокий вздох – налил себе рюмку портвейну.
– Садитесь подле Лины, там свободно!.. – сказала княгиня Гундурову, искавшему глазами места…
Он поспешил повиноваться… Сердце у него внезапно забилось – сам он не решился бы пойти сесть подле нее, он чувствовал…
– Видели вы меня во сне, как обещались, monsieur Maus? – спрашивала Ольга Елпидифоровна, опускаясь на стул между ним и Ашаниным и развертывая свою салфетку.
Правовед повернул голову, и под угол его зрения попало сразу нечто очень красивое, упругою волною ходившее под прозрачным кисейным лифом его соседки. Он вспыхнул как лучина и так и замер от этого зрелища.
– Давно ли вы онемели? – несколько насильственно засмеялась, опустив глаза, барышня, от которой никогда не ускальзывали впечатления, производимые ее красотами.
– Я сегодня очень крепко спал, – отшутился Маус, глядя на нее с телячьею страстностью и внушительно уходя подбородком в неизмеримо высокие воротнички своей рубашки.
– Так постарайтесь не спать так крепко в другой раз! Il est bête donc1! – шепнула она, обернувшись к Ашанину.
– Кого вы дураком не сделаете! – отвечал он ей на это таким же шепотом.
– Ну, пожалуйста, только не вас!
– Почем вы знаете?
– Точно я в Москве не бываю, не слыхала про вас? Да мне все про вас известно!
– А что именно? – усмехнулся Ашанин.
– А то, что вы как есть – прожига! – объяснила барышня с звонким смехом. – Мне еще надобно будет вами специально заняться, – промолвила она, грозя ему пальцем.
Ашанин так и ожег ее горячим взглядом:
– А вы дадите мне слово заняться мною специально? – едва слышным, проницающе-нежным голосом подчеркнул он.
Она взглянула на него… В глазах ее на миг блеснул тот же пламень, которым пылали глаза красавца… Она быстро отвела их от него и, вся заалев:
– Не знаю, – как бы проронила она… – Только вы мне не мешайте! – вырвалось у нее вдруг, – а то он, кажется, вас ревнует…
И она еле заметно кивнула в сторону князя Лариона, безмолвно и ни на кого не глядя прихлебывавшего в эту минуту чай из большой чашки.
– А вы надеетесь?.. – не договорил Ашанин и закусил губу, чтобы не рассмеяться…
– Почему же нет!.. Он старик: тем лучше! Ведь вы не женитесь на мне! – так и озадачила она его этою откровенностью. – Не отговаривайтесь, пожалуйста, – засмеялась бойкая особа его невольному замешательству, – я ведь умна – и вы тоже, кажется… Вам и не следует! Есть такие мужчины, которым никогда не следует связывать себя…
– А женщины есть такие? – спросил он, усмехаясь в свою очередь.
– Женщина только тогда и свободна, когда замужем, – отвечала без улыбки она на это.
– Et uo est donc le jeune prince8? – послышался в это время громкий вопрос княгини.
Monsieur Vittorio, к которому относились эти слова, кинулся было к дверям… Но в ту же минуту в столовую вошел сам le jeune prince, то есть сын княгини, мальчик лет одиннадцати, с замечательно для его лет определившимися, холодными чертами лица, очень напоминавшего лицо матери, тщательно причесанный и разодетый. Его сопровождали два его наставника: молодой, здоровый англичанин, гувернер, и еще более молодой студент, взятый княгинею из Москвы на лето «для русского языка».
– Ты всегда опаздываешь, Basile, – заметила княгиня сыну, целуя его в щеку.
– Я одевался, maman! – отозвался он с недовольным тоном, словно правый.
– Очень заботлив всегда насчет своих туалетов! – вполголоса и улыбаясь сообщила княгиня соседу своему Шигареву.
– Мальчик, известно, рано встающий, сам себя умывающий! – немедленно загаерничал тот. – Князенька, золота шапочка, шелкова кисточка, дайте свою ручку брильянтовую!
Мальчик положил нехотя руку в протянутые пальцы Шигарева; он их тотчас же стиснул и щелкнул языком, изображая звук прихлопнувшегося замка.
Князек спокойными глазами глянул ему в лицо, высвободил руку и пошел садиться в сопровождении своих надзирателей.
– Лина, – сказал он прямо против него сидевшей сестре, – ты в театре была?
– Почем ты знаешь? – улыбнулась она.
– Семен Петрович мне сказал, – он кивнул на усаживавшегося подле него студента, – он все время глядел на тебя из-за занавески, когда ты шла.
Студент покраснел до самых волос и пробормотал что-то, чего никто не расслышал…
– Да, я была в театре, – сказала княжна и опять заговорила с землемером.
– И она была! – начал снова мальчик, указывая кивком на Ольгу Елпидифоровну. – Что вы там все делаете?
– Мы там театр будем играть, душечка! – отозвалась бойкая барышня.
– Вы актерками, стало быть, будете?
– Актерками, ангел мой, актерками. Какая душка! – И она расхохоталась на весь стол.
– А я ни за что не хочу быть актером! – с презрительной гримаской проговорил Basile.
– Не актером, бретером будешь, всех шпагой насквозь, – заголосил опять Шигарев, – князек-петушок, золотой гребешок… длинь, длинь… – И, схватив два ножа, он принялся подражать сабельному лязгу.
– Я флигель-адъютантом буду! – твердо произнес князек.
Безмолвный до сих пор князь Ларион поднял глаза на племянника:
– А чтоб выбить это из твоей одиннадцатилетней головы, – протяжно проговорил он, – я бы тебя сек по два раза в неделю.
Мальчик весь переменился в лице. Слезы выступили у него на глазах и, обернувшись к студенту:
– Когда я буду большой, – прошептал он со злобою в горле, – я дядю в тюрьму посажу!..
– Nonsense[6]! – отрезал ему на это с другой его стороны сидевший mister Knocks – и потянул к себе кастрюльку с картофелем.
Княгиня Аглая Константиновна сочла нужным вступиться за сына:
– Я не понимаю, за что вы его разбранили, князь Ларион, – молвила она, перегинаясь к нему через стол, – 9-le pauvre enfante сказал только очень понятное в его годы… и похвальное, je trouve, желание… Мне кажется, bien au contraire, – qu’il faut encourager dès le jeune âge les nobles ambitions-9…
Князь Ларион поглядел на нее сверху вниз:
– У вас такие единственные есть словечки, княгиня, – проронил он, насмешливо склоняя голову, – что остается только ахнуть и смолкнуть…
Аглая Константиновна растерянно заморгала глазами – она ничего не поняла!..
– Il est unique, Larion, n’est се pas10? – попробовала она поискать сочувствия у соседа своего Зяблина.
Зяблин взглянул на нее, опустил глаза, потом опять взглянул – уже нежно – и испустил глубокий вздох… Он тоже ничего не понял.
Княжна до сей минуты еще ни одним словом не обменялась с Гундуровым. Вдруг она обернулась к нему… Лицо ее было бледно, веки покраснели…
– Если бы папа был жив, этого бы не было! – проговорила она и снова отвернулась.
Чего этого, спрашивал себя Гундуров, хотела она сказать? Этого ли суетного направления воспитания ее брата или этих оскорбительных для ее матери слов? И того и другого, вероятно… Он уже настолько угадывал ее, что, в его понятиях, она могла, должна была страдать и от того и от другого. Но чем и как помочь ей? Что мог сделать для этого он, Гундуров?.. А между тем он уже ясно чувствовал, он готов был на все… чтобы только никогда не дрожали слезы на этих глазах.
– Qu’est-ce que vous allez donc jouer à vôtre théâtre11? – обратилась через стол к княжне старушка m-me Crébillon, которая изо всего предшествовавшего поняла только то, что речь идет о театрах и актерах.
– Hamlet, madame12, – получила она в ответ.
– Ah bien! la tragédie de Ducis13! – закивала она, предовольная, седою головой.
– Ноô, hoô! De Dioucis… Hamlet de Dioucis14! – заходил вдруг весь от смеха мирно до сих пор поедавший картофель mister Knocks.
– 15-Eh bien, qu’a t-il donc à rire comme cela, l’Anglais? – закипятилась обиженная француженка. – Je dois, pardié, bien le savoir, moi, puisque feu monsieur Crébillon, mon mari, était un descendant direct de Crébillon, le fameux auteur de Rhadamante, dont Ducis était le disciple, et que j’ai moi-même vu jouer la pièce à Paris en dix, huit cent dix, – l’omelette, comme disaient les rieurs du temps-15…
– Hamlet de Dioucis, hoô, hoô… de Dioucis!! – продолжал надрываться mister Knocks.
– 16-Il y a deux tragédies, – почел нужным объяснить своей соседке господин Маус, – и с достоинством поглядел на нее с высоты своих воротничков, – une française, et une anglaise-16.
– 17-Ah, bien! on l’aura traduite en anglais alors! – успокоилась старушка, – mais il n’est pas poli toujours, le jaune boule (т. e. John Bull)-17, – проворчала она, поглядывая искоса на все еще покатывавшегося англичанина.
– Maman, – сказала, подымаясь со своего стула, княжна, – сегодня воскресенье…
– Ах, да-а! – протянула княгиня. – Надо в церковь!.. Vittorio, les voitures18! – помолчав с минуту, скомандовала она, словно на погребение.
– Я уже дал приказ, – отвечал с поклоном распорядительный итальянец.
Она одобрительно и грустно кивнула ему, обернулась к Зяблину и вздохнула:
– Как это неприятно, когда нет домовой церкви!.. – Зяблин приподнял свое разбойничье лицо, поглядел на нее нежно и тоже вздохнул.
– А ехать надо! – томно проговорила княгиня и поднялась с места.
Послышался шум отодвигавшихся стульев… Гости подходили с поклоном к хозяйке… Княжна и Ольга Елпидифоровна пошли надевать шляпки… Проходя мимо князя Лариона, Лина приостановилась на миг:
– Дядя, а я вас так просила! – тихо промолвила она, не подымая глаз.
Он понял – и смутился:
– Ты сердишься на меня, Hélène! – его голос дрогнул. – Ну, виноват, руби голову! – добавил он каким-то неверно-шутливым тоном.
Она прошла, не отвечая.
Гундуров тем временем прощался с княгинею.
Она с чрезвычайной любезностью благодарила его за посещение и изъявила желание увидеть его опять как можно скорее.
– Кланяйтесь, je vous prie19, очень, очень вашей тетушке, – говорила она, – я весьма благодарна князь-Лариону за знакомство с нею. C’est une personne si comme il faut20… Она еще не была у меня, – слегка подчеркнула Аглая Константиновна, – но я надеюсь, что вы нам ее привезете, n’est се pas21? и что вы примете также участие в нашем театре? Ho, – перебила она себя вдруг, – мы едем в церковь, и об этом не следует говорить! Il ne faut pas mêler le profane au sacré, a dit, je crois, Boileau22…
И, дав таким образом молодому человеку достаточное понятие о своей образованности, она величаво наклонила голову в знак того, что аудиенция его кончена.
Гундуров вышел на крыльцо с Ашаниным и Вальковским.
VII
Who ever lov’d who lov’d not at first sight1!
Shakspeare.– Я бы проводил, Сережа, тебя до деревни, – сказал ему первый, – да у вас, чай, с Софьей Ивановной много есть кое-чего своего перетолковать на первых-то порах, так чтоб не помешать вам?..
– Д-да, пожалуй, – отвечал Гундуров, – да и тебе-то отсюда не хочется?
Он засмеялся.
– Ну вот! – отнекивался тот.
– А удалая эта девица, брюнетка, как ее звать-то?
– Акулина – не Акулина, а Ольга, и к тому же Елпидифоровна… Да, брат, – Ашанин повел губами, – эта особа далеко пойдет!..
– Пролаз-девка, коротко сказать! – отрезал Вальковский.
– А ты хаять-то ее погоди, чучело китайское! – крикнул на него красавец. – Как ты ее грубостями своими доведешь, что она с тобой играть наотрез откажется, что ты тогда скажешь, чурбан эдакой? А мало ль у вас с нею водевилей с хорошими для обоих ролями? 2-«Барская спесь», «Хороша и дурна»…
– Ну, что в этой? – перебил Вальковский. – Стряпчего роль: «Здравствуй, кум ты мой любезный, здравствуй, кумушка моя!» Ведь и вся тут…
– А «Лев Гурыч Синичкин»2?
– Ну, да. Как раз по тебе роль!
– Лев Гурыч! – повторил, словно осененный свыше, «фанатик». – Да, братцы, это роль хорошая… совсем она у меня из головы вон! Давно следовало бы мне попробоваться в ней! Это точно, хорошая роль, братики!..
И расцветший душою Вальковский заходил по крыльцу, соображая, что он сделает из роли Синичкина…
– Ну, а теперь, Сережа, – сказал Ашанин, глянув приятелю прямо в лицо, – что ты мне про княжну скажешь?
Гундурову стало вдруг ужасно досадно на него за этот вопрос.
– Ничего не скажу! – отрезал он, отворачиваясь. Брови Ашанина тревожно сжались; он хотел что-то сказать – и не успел: сама княжна с Надеждой Федоровной и бойкой барышней выходили на крыльцо в шляпках и мантильях, готовые к отъезду.
– Вы с нами или домой? – спросила Лина, идя к Гундурову и застегивая на пути перчатку на своей длинной руке.
– Мне надо ехать, княжна! – через силу отвечал он.
– Да, вам надо… Поезжайте! – сказала она, не отрывая глаз от своей перчатки. – А когда назад? – спросила она, помолчав.
– Скоро, очень скоро! – вырвалось у Гундурова.
От нее ускользнуло или не хотела она понять, что именно сказывалось за этими вылившимися у него словами; – безмятежно по-прежнему подняла она на молодого человека свои длинные синие глаза и так же безмятежно улыбнулась.
«Les voitures», как торжественно выражалась княгиня Аглая Константиновна, то есть большая, открытая, четвероместная коляска четверкой с форейтором, и долгуша, обитая сероватым солдатским сукном с шерстяными басонами3, в которой могло усесться человек до двадцати, линейка, запряженная парою рослых лошадей, – подъехали к крыльцу. За ними вели кровную английскую кобылу рыжей масти под верх князю. Коляска Гундурова со всем его багажом и слугою на козлах следовала позади.
– Me voilà4! – послышался голос самой хозяйки тяжеловато – она, как говорил про нее Ашанин, была несколько «телом обильна» – спускавшейся с лестницы. Разубрана она была, точно сейчас с модной картинки соскочила…
Щегольски одетый грумом мальчик лет двенадцати бежал перед нею с перекинутым на одной руке плэдом и богато переплетенным в бархат, с золотым на нем кованым вензелем ее под княжеской короной молитвенником в другой.
Она подошла к коляске. Стоявший у дверец видный, высокий лакей в новешенькой ливрее одних цветов с грумом и monsieur Vittorio во фраке и белом галстуке, с обнаженною головою, почтительно с обеих сторон, подсадили ее сиятельство под локти. Грум поспешно разостлал на ее колени толстую ткань пестрого плэда и вскочил с молитвенником к кучеру на козлы; дюжий лакей сановито полез на заднее сиденье…
– Вы за нами? – с любезною улыбкою обратилась княгиня из коляски к вышедшему на крыльцо с Шигаревым и князьком Зяблину, пока подле нее усаживалась Надежда Федоровна и занимали напереди места княжна и девица Акулина.
Зяблин нежно покосился на нее, уныло кивнул головою и испустил глубокий вздох.
– Et vous, Larion5? – И Аглая Константиновна заискивающим взглядом глянула на деверя, садившегося в это время на лошадь.
– Поручаю себя вашим молитвам! – сухо ответил он, осаживаясь на стременах.
Коляска тронулась. Княжна медленным движением головы поклонилась Гундурову.
Мужская компания с князьком и его студентом отправились на долгушу.
– До свиданья, Сережа, приезжай скорее! – кричали ему друзья.
Он глядел на удалявшуюся коляску… Он ждал еще раз взгляда, «прощального» взгляда княжны, – точно они навеки расставались…
Но коляска заворачивала под льва, и, кроме головы лакея в шляпе с ливрейною кокардой, никого уже в ней не было ему видно… Он отправился к своему экипажу.
Князь Ларион поглядел ему вслед. Какая-то невеселая улыбка заиграла в углах его тонких, поблеклых губ. Словно что-то давно, давно погибшее, милое и печальное промелькнуло пред ним… Он дал повод и, проезжая мимо молодого человека, ласково кивнул ему головою.
Гундуров поспешил снять шляпу…
Миновав пышно зеленевшие на трехверстном пространстве поля Сицкого, экипаж его въехал в граничивший с ними большой казенный лес, доходивший почти до самого его Сашина и о котором он с детства хранил какое-то жуткое и сладкое воспоминание… Лес весь звенел теперь весенним гамом и птичьим свистом… Дорога пошла плохая, и коляска пробиралась по ней шажком, хрустя по валежнику, накиданному на топких местах. Лошади весело фыркали и потряхивали гривами, потягивая широко раздутыми ноздрями влажный лесной воздух. Большие мухи, сверкая на солнце изумрудными спинками, прилежно перебирали ножками на листьях еще низкого лопушника. Меж корявых сосновых корней роились в забиравшейся мураве белые, как снег, колокольчики ландышей… Гундуров велел остановиться, выскочил, нарвал их целый пучок и жадно погрузил в них лицо. Их раздражающе-свежий запах кинулся ему как вино в голову… Он откинулся затылком в спинку коляски и стал глядеть вверх. Там, над ним, узкою полоской синело небо, бежали жемчужные тучки, и по верхушкам берез, золотимые полднем, дрожали нежные молодые листы… Ему вдруг вспомнилась ария, слышанная им зимою в Петербурге, – ее вставлял Марио в какую-то оперу… И Гундуров, как накануне Ашанин, нежданно запел во весь голос:
Io ti vidie t’adorai6!..
Старый Федосей, не привыкший к таким пассажам со стороны барина, недоумело поглядел на него с козел… А-i-i… – ответило где-то вдали, в самой глубине леса. Испуганный тетерев, словно свалясь с ветки, зашуршал в кустах торопливыми крыльями… А запах ландышей все так же невыносимо-сладко бил в голову Гундурову, и лес гудел вокруг него всеми весенними голосами своими…
О, молодость, о, невозвратные мгновения!..
VIII
«Хорошая» действительно была женщина Софья Ивановна Переверзина, тетка Гундурова. И наружность у нее была соответствующая, – почтенная и привлекающая. Воспитанница Смольного монастыря лучших времен Императрицы Марии Федоровны1, она, несмотря на долголетнюю жизнь в деревне, сохранила все привычки, вкусы, весь склад хорошего воспитания. Врожденная в ней живость нрава умерялась постоянною привычкою сдержанности и обдуманности, приобретенною ею в тяжелой жизненной битве. Софья Ивановна смолоду перенесла много горя. Дочь небогатых потомков когда-то боярского рода Осмиградских, вышла она, лет под тридцать, замуж за пожилого, изувеченного генерала, старого друга ее семейства, к которому искренно привязалась она в благодарность за глубокое, богомольное обожание, которое он с самого детства ее питал к ней. То, что в этом браке заменяло счастие, спокойное, безбедное существование, продолжалось для нее недолго. Муж ее занимал довольно важное место в военной администрации. Доверчивый и недалекий, он был опутан своим правителем канцелярии, дельцом и мошенником, и, – что говорится, как кур во щи, – попал в один прекрасный день под суд за растрату в его управлении значительной казенной суммы, постепенное исчезновение которой виновный умел необыкновенно ловкими и дерзкими проделками, в продолжение целых годов, скрывать от близорукого своего начальства. Бедный старик не перенес павшего на него удара, не перенес ужасных для него слов, сказанных ему по этому поводу одним очень высокопоставленным лицом, покровительством которого он долго пользовался: «Ваше превосходительство, вы обманули личное к вам доверие Государя Императора»; – он скончался скоропостижно, не успев принять никаких мер к обеспечению судьбы своей жены. Все его состояние пошло на удовлетворение наложенного на него начета… После трех лет замужества Софья Ивановна осталась вдовою чуть не нищею. Родителей ее уже не было на свете; брат, человек семейный, служил в Петербурге и на извещение сестры о постигшем ее горе отвечал письмом на четырех страницах, исполненным чувствительных фраз, но в котором ни о помощи, ни о пристанище ни словом не упоминалось. Но в то же время она получила другое, сердечное письмо от младшей сестры своей, Гундуровой, горячо звавшей ее к себе, «в Сашино, в свой рай земной», как выражалась она. Александра Ивановна Гундурова, почти одновременно с Софьей Ивановной вышедшая замуж по любви за молодого, образованного соседа-помещика, была красивое, восторженное и нежное создание, страстно любимое мужем, для которого действительно жизнь до тех пор была земным раем… Не успела поселиться у них Софья Ивановна, как однажды осенним утром Михаила Сергеевича Гундурова принесли бездыханного с охоты: – он сам застрелил себя, неосторожно перескакивая через канаву с ружьем, взведенным на оба курка… Александра Ивановна увидала это безжизненное тело, кровь, еще сочившуюся сквозь простреленную охотничью куртку, – и, не крикнув, упала как сноп на труп мужа… Через три месяца не стало и ее. Ей было двадцать лет, мужу двадцать семь. Как две падучие звезды, мелькнули на миг эти молодые жизни – и исчезли… На руках Софьи Ивановны остался полуторагодовой Сережа… Над имением малолетнего назначена была опека. В опекуны напросился и назначен был двоюродный брат покойного Михаила Сергеевича, отставной гусар, игрок и кандидат предводителя. В три года достойный этот родственник чуть не разорил вконец вверенное ему сиротское имение. Неопытная Софья Ивановна нашла в сознании своего долга, в любви к младенцу, которого она осталась матерью, достаточно силы, чтобы войти с этим господином в открытую и упорную борьбу. Благодаря отчасти некоторым связям, имевшимся у нее в Петербурге, отчасти старику князю Шастунову, отцу князя Лариона, пользовавшемуся большим влиянием в губернии, и которого заинтересовало положение молодой вдовы, победа осталась за нею. Опекун был удален и сменен другим, избранным самою Софьею Ивановной, которая, на самом деле, сделалась единственною управительницею наследства племянника. Обязанностям, возлежавшим теперь на ней, она отдалась вся, – а обязанности эти были не легки. В последние месяцы своего управления опекун-гусар, отчаявшись сохранить долее власть в руках, запутал со злости дела так, «чтобы сам черт», говорил он, «концов в них не доискался». Софья Ивановна после него не нашла в конторе ни гроша денег, ни книг, ни счетов, ни документов первой важности по процессу, затеянному еще деду малолетнего одним крючкотвором-соседом и который в это время находился на рассмотрении сената… Какими чудесами терпения, сметливости, бережливости, каким неустанным трудом, какою ежечасною заботою успела выпутаться из этого положения молодая женщина, мы читателю передавать не будем. Ему достаточно будет знать, что ко времени вступления Сережи в отрочество процесс его был выигран и тетка его располагала уже достаточными средствами для широких расходов на его образование; к его совершеннолетию имение его было чисто от долгов: он владел, по тогдашнему способу определения, пятьюстами незаложенных душ, и правильное устройство его хозяйства давало от восьми до десяти тысяч рублей серебром дохода. Как бесконечно счастлива была, передавая ему в этот день отчеты, Софья Ивановна!..