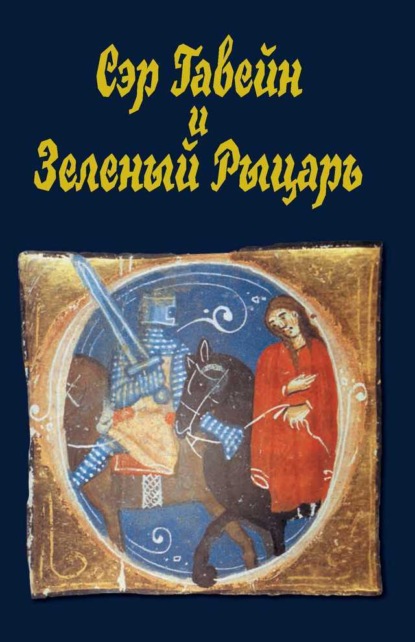Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
– Что, хорошо? – засмеялся он в ответ на смеявшийся же взгляд обернувшегося на эти звуки ямщика, – это, брат, по-нашенски: валяй по всем, пока кровь ключом бьет!..
– Ах вы, соколики! – тут же, мигом встрепенувшись на козлах, подобрал разом четверку такой же, как и Ашанин, черноглазый и кудрявый ямщик, – и коляска, взвизгнув широкими шинами по свеженастланной щебенке, понеслась стремглав под гору и взлетела на пригорок, словно на крыльях разгулявшегося орла…
На другой день, рано утром, приятелей наших, сладко заснувших под полночь, разбудил старый слуга Гундурова. Они подъезжали к Сицкому.
II
Большой, белый, александровского времени дом в три этажа, с тяжелыми колоннами под широким балконом и висячими галереями, соединявшими его с двумя выходившими фасадами на двор длинными флигелями, глядел если не величественно, то массивно, с довольно крутой возвышенности, под которою сверкала под первыми лучами утра довольно широкая светлая речка, в полуверсте отсюда впадавшая в Оку. Темными кущами спускались от него по склону с обеих сторон густые аллеи старинного сада, а перед самым домом стлался ниспадающим ковром испещренный цветами луг, с высоко бившим фонтаном на полугоре. Сквозь деревья нарядно мелькали трельяжи и вычурные крыши китайских беседок, и свежеокрашенные скамейки белели над тщательно усыпанными толченым кирпичом дорожками.
– А ведь красиво смотрит! – говорил Ашанин, любуясь видом, в ожидании парома, подтягивавшегося с того берега.
Гундуров еле заметно повел плечом.
– А тебе не нравится?
– Не приводит в восторг, во всяком случае, – отвечал он не сейчас, – мне, – засмеялся он, – как сказал древний поэт, – «более всего уголки улыбаются».
– Верю, – заметил Ашанин, – только вот беда: в уголке-то «театрика» не устроишь.
– Д-да, – не будь этого…
Ашанин глянул ему прямо в глаза:
– А знаешь, что, Сережа, я тебе скажу, – ведь ты ужасный гордец!
Румянец внезапно вспыхнул на щеках Гундурова:
– Я гордец! Из чего ты взял?..
– А из того, голубчик, что я тебя лучше самого себя знаю… Только поверь, тебя здесь ничто не оскорбит!
– Да я и не думал…
– Ну, ладно!
И Ашанин, не продолжая, побежал на паром.
– Колокольчик подвяжи! – наставлял он ямщика, – а то мы, пожалуй, там всех перебудим. Бывал ты в Сицком?
– Как не бывать, батюшка! Возили!..
– Так как бы нам так подъехать, чтоб грохоту от нас поменьше было?
– Да вам к кому, к самим господам, аль к управителю? – молвил на это уже несколько свысока ямщик.
– К скотнику, милый мой, к скотнику! – расхохотался Ашанин. – Трогай!..
Они поднялись по шоссированной, отлогою спиралью огибавшей гору дороге – и очутились у ограды на каменных столбах, с железными между ними копьями, острием вверх, и высокими посередке воротами-аркою, над которой словно зевала разинутая пасть грубо вытесанного из местного камня льва на задних лапах, с передними, опиравшимися на большую позолоченную медную доску, на которой изображен был рельефом княжеский герб Шастуновых. Все это было ново и резало глаза свежею белою краской и резкостью линий…
– Ишь ты, зверища-то какого подняли! – проговорил ямщик, осаживая лошадей пред полупримкнутыми половинками ворот и заглядываясь наверх.
– Въезжать, что ль? – спросил он, оборачиваясь к господам.
– Безвкусица-таки порядочная!.. – также подняв глаза на каменного зверя, молвил Гундуров и смутился…
Перед ним стоял только что вышедший из ворот высокий и сухой, в широкополой серой шляпе и длинном сюртуке à la propriétaire1 мужчина, которому по бодрому его виду, едва заметной проседи и живости темных глаз, светивших из-под седоватых, как и его волосы, бровей, можно было дать на первый раз никак не более пятидесяти лет.
Он стоял, глядя на Гундурова и мягко улыбаясь тонко сложенными губами, как бы говорившими: я совершенно с тобою согласен.
– Князь Ларион Васильевич! – воскликнул Ашанин, поспешно снимая шляпу и выскакивая из коляски… – Позвольте, – заторопился он, – представить вам спутника моего и лучшего друга…
– Сергея Михайловича Гундурова, не так ли? – досказал сам князь, с тою же мягкой улыбкой, и протянул этому руку. – Софья Ивановна ждет вас давно, – прибавил он, как-то особенно внимательно и приветливо продолжая глядеть в лицо Гундурову.
– Вы ее видели? – даже несколько удивился тот.
– Непременно-с! Как только узнал о ее прибытии в Сашино, поспешил навестить… Я давно привык любить и уважать вашу тетушку! – как бы счел нужным объяснить князь ту благосклонность, которую он теперь видимо оказывал незнакомому молодому человеку.
– Княгиня Аглая Константиновна будет очень рада вашему приезду, – сказал он Ашанину, – вы ведь, кажется, главный рычаг в ее театральной затее?..
– Позвольте отклонить неподобающую мне честь, – весело отвечал красавец, – я только вчинатель, а главная пружина деятельности – приятель наш, Вальковский… Смею спросить, ваше сиятельство: как он ведет себя здесь? Видите ли вы его иногда?
Усмешка еще раз скользнула по устам князя Лариона.
– Является к обеду, и то не всегда; целый день в театре – пилит, мажет и клеит.
– Он как есть – фанатик! – засмеялся Ашанин.
– Да, – сказал на это серьезным тоном князь, – черта редкая у нас и всегда говорящая в пользу человека… Что же ты стоишь, милый мой, – он глянул на ямщика, – въезжай!..
– Куда прикажете подъехать? – спросил Ашанин.
– Я вам укажу.
Он вошел с молодыми людьми на двор и направился к одному из флигелей.
– Мне говорила почтенная Софья Ивановна, что вы из Петербурга бежали? – обратился он снова к Гундурову, очевидно вызывая молодого человека на откровенный рассказ.
Гундурову нечего было скрывать; к тому же этот, казавшийся ему в детстве «суровым», человек влек его к себе теперь своею приветливостью и обаянием какого-то особого изящества всей своей особы. Он передал ему в коротких словах все то, что уже известно нашему читателю.
Князь слушал внимательно, медленно подвигаясь вперед и глядя не на него, а куда-то в сторону, совершенно, казалось, бесстрастными глазами; только по изгибу его губ змеилось какое-то едва уловимое выражение печали…
Гундуров давно замолк, когда он, остановившись посреди двора, проговорил вдруг почти строго:
– Главное – душевная бодрость!.. Мне недавно показывали стихи… с большим талантом и горечью написанные, – вы их верно знаете? – там говорится: «Разбейтесь силы, вы не нужны»[1]2. Не верьте, не отдавайтесь этому! Вы молоды!.. Рано ли, поздно ль, силы эти – они пригодятся… И так же внезапно переменяя тон: – Это, кажется, у вас в водевиле в каком-то поется, – князь обернулся на Ашанина. – «Не все-ж на небе будет дождь, авось и солнышко проглянет!..»
– Не помню-с, а с моралью согласен! – отвечал, смеясь, Ашанин, – даже всю дорогу от Москвы сюда проповедывал ее Гундурову… И если, ваше сиятельство, не откажете в вашем согласии, мы ее тотчас же приложим к делу?
– Что такое? – спросил, слегка нахмурясь, князь.
– Я уговариваю Сережу принять участие в наших спектаклях здесь и именно сыграть роль Гамлета, которую он наизусть знает и страстно любит…
Князь поднял вопросительно глаза на Гундурова, затем перевел их на Ашанина, впившегося в него, в свою очередь, своими выразительными черными глазами, и тотчас же сообразил, в чем дело…
– Это прекрасная мысль, Сергей Михайлович, – поощрил он его, – и затея Аглаи Константиновны примет таким образом совсем иной, серьезный характер…
– А уж какая Офелия будет у нас княжна Елена Михайловна! – вскликнул, торжествуя, Ашанин.
Под нависшими веками князя Лариона что-то мгновенно сверкнуло и погасло.
– Офелия… д-да… она действительно… – проговорил он, как бы думая о чем-то другом и не глядя на наших друзей…
Он опять остановился.
– Так вы хотите играть «Гамлета», молодые люди?.. Я видел «Гамлета» на всех сценах Европы, и, между прочим, в Веймаре, в то еще время, когда Гёте был там директором театра, – заговорил князь после минуты молчания с каким-то внезапным оживлением, – и, признаюсь вам, выходил каждый раз из театра неудовлетворенный… Ведь это удивительное произведение, господа, и невообразимо сложный тип, и 3-Гизо совершенно справедливо сказал, что два века не успели еще исчерпать всю его глубину…-3
– Да, это верно, – воскликнул Гундуров, – и потому, может быть, он так и манит, так и влечет к себе, что каждый подступающий к нему находит в нем как бы личные, родственные ему черты.
– И, может быть, именно вследствие этого, – заметил, в свою очередь, князь Ларион, – он в исполнении так редко удовлетворяет всех… У вас подходящая к типу наружность, – прервал он себя, оглядывая Гундурова, – белокурое бледное лицо, задумчивый облик, – князь усмехнулся: – тонки слишком!.. Заметьте, как глубоко и верно схвачено это у Шекспира: Гамлет — натура вдумчивая, рефлективная, – «мечтанью преданный безмерно»4, как сказал когда-то Пушкин про современного человека, к которому Гамлет так удивительно, так невероятно близок, что сам Гейне5, его ближайший представитель, не ближе к нему; такие люди мало подвижны, склонны к раннему ожирению; он тяжел на подъем, страдает астмой, – помните сцену поединка? – «Он толстоват и дышит коротко»[2], – говорит прямо мать о нем… Попробуйте, попробуйте себя на этой роли! – как-то вдруг оборвал князь, словно устав или не желая продолжать. Гундуровым овладело смущение.
– Вы, я вижу, такой знаток, князь, – проговорил он робко, – что я, мне кажется, никогда не осмелюсь выйти перед вами…
– А вы как же-с, – и князь с тем же строгим, почти повелительным выражением, с каким он глядел, внушая Гундурову бодрость духа, взглянул на него опять, – вы бы хотели играть для тех, которые аза в глаза не понимают?.. Таких у вас будет полна зала, – можете быть спокойны!..
– Не слушайте его, князь, – Ашанин замахал руками, – я слышал не раз, как он читает роль, и заранее уверяю вас, что он удовлетворит вас более, чем все слышанные вами в Европе актеры!..
– Верю! – искренним тоном отвечал князь Ларион на эту наивную приятельскую похвальбу, – верю, – как бы про себя повторил он, – потому что одна из принципиальных черт этого характера, его колебания и неустой, никому, кажется, так непонятна, как русскому человеку…
– Который, – подхватил на лету со смехом Ашанин, – «на все руки», как сказал Брюлов6, «но все руки коротки»!..
– Да-с, – сухо ответил князь, – только об этом, пожалуй, скорее в пору плакать, чем смеяться…
Коляска молодых людей подъехала тем временем к крыльцу флигеля, у которого они сами с князем теперь остановились, и слуга Сергея Михайловича принялся стаскивать с козел привязанный там чемодан Ашанина.
– Потрудись, любезный, – сказал ему князь, – зайти сюда к дежурному, направо, и разбуди его, чтоб он шел с ключами скорее комнаты отворять. Как вам удобнее, господин, вместе или порознь?
– Вы извините меня, князь, – сказал Гундуров, – но я никак не рассчитывал встретиться с вами, и потому у нас положено было с Ашаниным, что я его только довезу сюда, а сам тотчас же отправлюсь к тетушке, которую еще не видал…
– Вы всегда успеете выпить здесь чашку чаю, – прервал его князь Ларион; – вам до Сашина никак не более часа езды, а теперь, – он вынул часы, – половина седьмого. Софья Ивановна, при всех ее качествах, – примолвил он шутливо, – не имеет, вероятно, моей привычки вставать зимою и летом в пять часов утра…
– Зимою и летом! – даже вскрикнул Ашанин.
– Точно так-с, – и советую всем делать то же. Сам я веду этот образ жизни с двадцатипятилетнего возраста, по совету человека, которого я близко знал и высоко ценил, – Лафатера7, и до сих пор благословляю его за это… А вот и дежурный!.. Показать господам комнаты и подать им чаю и кофе, куда они прикажут!.. Ваш приятель, господа, живет тут же, в этом флигеле… Я не прощаюсь с вами, Сергей Михайлович, – примолвил князь, – но вы мне дозволите докончить мою ежедневную двухчасовую прогулку, – это также составляет conditionem sine qua non8 моей гигиены.
И, кивнув молодым людям, он удалился.
– Да, он действительно очень умен и образован! – молвил Гундуров, подымаясь с Ашаниным по лестнице вслед за бежавшим впереди слугою.
– И ядовит! – примолвил его приятель. – Заметил ты, как он кольнул меня моим ничегонеделаньем?.. Что ж, – вдруг глубоко вздохнул красавец, – он правду сказал: плакать над этим надо, а не смеяться!..
Гундуров улыбнулся – ему не впервые приходилось слышать эти ни к чему не ведшие никогда самобичевания Ашанина…
Они вошли в коридор, по обеим сторонам которого расположены были комнаты, назначаемые гостям…
Не проспавшийся еще слуга ткнулся о первую попавшуюся ему дверь:
– Пожалуйте! – приглашал он, зевая.
– Мы бы прежде всего хотели увидать господина Вальковского, – сказал Ашанин.
– Вальковского? Это то-есть, какие они из себя будут? – недоумевал сонный дежурный.
– А вот я тебе объясню: волчьи зубы, на голове бор, и в театре целый день с рабочими бранится…
– Знаю-с! – широко осклабился понявший слуга и протер себе глаза, – пожалуйте!
III
Вальковский спал спиною вверх, ухватив огромными ручищами подушку, едва выглядывавшую из-под этих его рук и раскинувшихся по ней, словно ворох надерганной кудели, всклокоченных и, как лес, густых волос.
– Гляди, – расхохотался Ашанин, входя в комнату с Гундуровым, – фанатик-то! Ведь спит совсем одетый, – только сюртук успел скинуть… Пришел, значит, из «театрика» без ног и так повалился… Экой шут гороховый!..
– Жаль будить его, беднягу! – говорил Гундуров.
Но Вальковский, прослышав сквозь сон шаги и голоса, встрепенулся вдруг, быстро перевернулся на постели, сел и, не открывая еще глаз, закричал:
– Что, подмалевали подзоры1?
– Чучело, чучело, – помирал со смеху Ашанин, – какие тебе подзоры! Гляди, кто перед тобою!..
– Гундуров, Сережа, мамочка! – визгливым фальцетом от преизбытка радости заголосил Вальковский. – Разумница ты моя писаная!.. Князь говорил мне вчера, что тебя ждут… Станешь играть доктора? – так и огорошил он его с первого раза.
– Какого доктора? – проговорил озадаченный Гундуров.
– Да в Шиле… Зяблин отказывается, дрянь эта салонная! Чижевский еще, черт его знает, приедет ли…
– А я тебе говорю, – так и напустился на него Ашанин, – чтоб ты мне про свое шило и заикаться не смел, а то я тебе им брюхо пропорю… Станет Сережа об эту твою мерзость мараться, когда мы вот сейчас порешили с князем «Гамлета» ставить…
– «Гамлета»! С князем!.. – Вальковский даже в лице изменился и судорожно начал ерошить свои сбитые волосы. – Какая ж мне там роль будет?.. Горацио разве сыграть мне? – неуверенно, сквозь зубы проговорил он, исподлобья поглядывая с постели на Ашанина.
– Ну, с твоим ли мурлом, – крикнул на него тот опять, – лезть на молодые роли, да еще на резонеров! Или не помнишь, как ты провалился в Герцоге в Скупом рыцаре?
Сконфуженный «фанатик» опустил голову и принялся натягивать сапоги на ноги.
– Полоний, вот тебе роль! Да и то еще надобно тебя пощупать.
– Нечего меня щупать! – огрызся на этот раз Вальковский, – на репетициях я себя не покажу… Я актер нервный, играю как скажется…
– И лжешь, лжешь, от начала до конца лжешь, – доказывал ему Ашанин, – во-первых, у тебя не нервы, а канаты, которые топором не перерубишь; во-вторых, только то у тебя и выходит, что ты у себя в комнате перед зеркалом проделал сто раз, пока добился своего эффекта… А как ты только до цыганского пота над ролью не проработал, – так и гони тебя вон со сцены!..
– И это тебе в похвалу сказывается, Вальковский, – утешал его Гундуров, – роль, что клад, дается в руки лишь тому, кто дороется до нее!..
– Ну вот! – качнул головою «фанатик», направляясь к умывальнику, – а Мочалов2?
У Гундурова заморгали глаза, что всегда служило в нем признаком охватывавшего его волнения; он опустился в кресло:
– Мочалов, – повторил он, – это я постоянно слышу: Мочалов! А я вот тебе что скажу, Вальковский, – и да простит это мне его всем нам дорогая память! – Но эта мочаловская манера игры «как скажется», как Бог на душу положит, возведенная в теорию, погубит русскую сцену! Ведь это опять все та же наша варварская авоська в применении к искусству – пойми ты это!..
– Погоди, погоди-ка, Сережа! – прервал его Ашанин. – А помнишь, – мы с тобой вместе были тогда, на первом это курсе было, – как однажды в «Гамлете», после сцены в театре, он, подняв голову с колен Орловой3 – Офелии, пополз… помнишь? – да, пополз на четвереньках через всю сцену к рампе и этим своим чудным, на всю залу слышным шепотом проговорил:
«Оленя ранили стрелой» – и засмеялся… Господи!.. Помню, ты даже привскочил!.. У меня зубы застучали, и я три ночи после этого не мог заснуть: все слышался мне этот шепот и смех.
– Да, но зато, признайтесь, – Гундуров даже вздохнул, – сколько приходилось нам целыми представлениями переносить у него нестерпимой вялости, фальши, непонимания роли?.. Минуты у него были божественные! – но одни минуты! Полного образа, типа, цельного характера он тебе никогда не давал…
– Что-о? – так и заревел Вальковский, отрываясь мокрым лицом от умывальника, в котором плескался он, и кидаясь на середку комнаты с этим мокрым лицом и неотертыми руками, – в Миллере, в «Коварстве и любви»4 он тебе не давал образа?..
– В Миллере… – начал было Гундуров.
– Что же ты, в Петербурге Каратыгиным объелся5, видно! Каратыгин теперь, по-твоему, великий актер? – чуть-чуть не с пеной у рта подступал к нему тот.
– Позволь тебе сказать…
– Фельдфебель, трескотня, рутина!.. Барабанщик французский – вот он что, твой Каратыгин! – ревел Вальковский, ничего не слушая…
– Эко чучело! Эка безобразина! – надрывался смехом Ашанин, глядя на него.
– А в «Заколдованном доме»6 видел ты его? – спросил Гундуров.
– В «Заколдованном доме»? – повторил фанатик, мгновенно стихая, – видел!..
– Ну, и что же?
– Хорош был, – глухим баском проговорил он и, опустив голову, опять отошел к своему умывальнику, – король был действительно настоящий… страшен… правдою страшен! – отрывисто пропускал уже Вальковский, отфыркиваясь и плеща в тазу.
– То-то и есть, – заговорил опять Гундуров, – что он образованный и думающий актер, и что ты это чувствуешь, как только он выйдет пред тобою в подходящей роли. Он знает кого, когда, что он играет!.. А что ему «Иголкиных» да «Денщиков»[3]7 приходится вечно изображать, так в этом, брат, не он виноват, а петербургские гниль и лакейство…
– Так что же, по-твоему, – прервал его «фанатик», останавливаясь в раздумьи перед ним с полотенцем в руках, – вдохновенье актеру надо, значит, побоку?..
– Это еще что за вздор! – горячо воскликнул Гундуров. – Разве мешали когда-нибудь вдохновенью труд, подготовка, строгое отношение к своему дарованию? Вспомни Пушкина – чего тебе лучше пример?.. Случайное вдохновенье есть и в дикой калмыцкой песне, и у безобразного Тредьяковского вылились невзначай пять вдохновенных стихов[4]8… Но разве об этом речь? Мы говорим об искусстве, о святыне, к которой нельзя подходить с неумытыми руками!..
– Молодчина, Сережа! – воскликнул увлеченный последними словами Вальковский. – Дай, влеплю тебе безешку за это9!.. – И он полез обнимать приятеля, еще весь мокрый…
– А для меня из смысла басни сей, – комически начал вздыхать Ашанин, – выходит то, что вы теперь потребуете от меня вызубрить вдолбяшку роль Лаерта.
– И вызубришь! – засмеялся Гундуров.
– Как же! Держи карман! – хихикнул Вальковский, – выйдет, и, по обыкновению, ни в зуб толкнуть!.. Он у нас, известно, как толстые кучера у купечества, на «фэгуре» выезжает!..
Ашанин весело головою тряхнул, как бы не заметив недоброго взгляда, сопровождавшего эту выходку его приятеля:
– Каждому свое, Ваня – я фигурою, а ты волчьим ртом…
– И лисьим хвостом! – договорил сам Вальковский, принимаясь громко хохотать, – а ведь точно, братцы, княгиню-то я совсем объехал!..
– Как так! – изумился Гундуров.
– Да так, что что я ни захочу, то она и делает… Шесть перемен новых у нас в театре уже готово: две комнаты, зало с колоннами, улица, сад, лес. Старые декорации, какие от времен старого князя остались, те все подновил. И какие декорации, братцы! Старик-то, видно, человек со вкусом был и страсть к искусству имел, труппа своя постоянная была. Сам Император Александр, рассказывают тут старые дворовые, приезжал к нему сюда гостить и на спектакле был. Барин был важный… Ну, а эта, – Вальковский подмигнул и оскалил свой волчий клык, – как есть жид-баба, кулак; только очень уже чванна при этом, так этим ее как рыбицу на уде и водишь. Как начали мы здесь театр устраивать, потребовала она от декоратора сметы. Я ему и говорю: «ты, брат, ее не жалей, валяй так, чтоб на славу театрик вышел». Он и вкатал ей смету в полторы тысячи. Она так и взвизгнула: «ах, говорит, ком се шер10, и неужто все это нужно?» И на меня так и уставилась. Я ничего, молчу. Начинает она улыбаться: «и дешевле нельзя, спрашивает, мон шер1 Иван Ильич?» – Отчего, говорю, можно; вот я в Замоскворечьи купца Телятникова театрик устраивал, всего расходу на полтораста целкашей вышло. Так, поверите, ее аж всю повело: «потрудитесь, говорит Александрову, представить это в мою контору, – сколько вам нужно будет денег, там получите…» С тех пор, – расхохотался «фанатик», – что ни скажу, то свято!.. Да что мы здесь делаем, – вскинулся он вдруг, – ходим в театр! Сами увидите, что за прелесть!..
– Мне ехать домой пора, – сказал Гундуров, – лошади ждут…
– Лошадей ваших князь велел отправить, – доложил слуга, входивший в ту минуту в комнату с чаем.
– Как отправить?
– Сказывать изволили, что, когда пожелаете, всегда наши лошади могут вас отвезти.
– Молодец князь! – воскликнул Вальковский. – Любезный, неси нам чай на сцену, да булок побольше, я есть хочу… Ну, Сережа, чего ты осовел? Напьемся чаю, театрик осмотришь, а там уедешь себе с Богом…
– Ладно, – сказал за Гундурова Ашанин, – только дай нам себя несколько в порядок привести!
Друзья умылись, переменили белье, причесались и отправились вслед за Вальковским в «театрик».
IV
1-Люблю тебя, люблю мечты моей созданье.
С очами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье-1.
Лермонтов.Помещение театра занимало почти весь правый двухэтажный флигель дома. Гундуров так и ахнул, войдя в него. Он никак не воображал его себе таким объемистым, удобным, красивым. Широкая и глубокая сцена, зала в два света амфитеатром, отставленные временно к стенам кресла, обитые старинным, еще мало выцветшим малиновым тисненым бархатом, пляшущие нимфы и толстопузые амуры, расписанные по высокому своду плафона, сверкавшие под утренними лучами стеклышки спускавшейся с него большой хрустальной люстры, проницающий запах свежего дерева и краски, – все это подымало в душе молодого любителя целый строй блаженных ощущений, всю забирающую прелесть которых поймет лишь тот, кто сам испытывал их, кто сам пьянел и замирал от восторгов и тревоги под влиянием того, что французы называют l’enivrante et âcre senteur de la rampe2…
И Гундуров с безотчетною, счастливою улыбкою осторожно пробирался теперь, вслед за Вальковским, промеж брусков, горшков с краскою, гвоздей и всякого хлама, мимо растянутого на полу залы полотна, на котором сохла только что вчера написанная декорация. «Фанатик» трещал, как канарейка, и от преизбытка всего того, что хотелось ему сообщить друзьям, путался и заикался, беспрестанно перебегая от одного предмета к другому. Он говорил об оркестре, набранном им из музыкантов Малого театра, с которыми, как и со всем московским театральным миром, состоял на ты, и тут же поминал крепким словом дворецкого княгини, с которым уже успел два раза выругаться; передавал о какой-то старой кладовой, открытой им, где он нашел «самую подходящую»-де к «Гамлету» мебель, и о почему-то вздорожавших кобальте и охре; сообщал, что первый театрик имеет быть 3-го июня, в день рождения княжны, которой минет 19 лет, и что к этому дню наедет в Сицкое чуть не пол-Москвы, и даже из Петербурга какие-то генералы обещались быть…
Но вся эта болтовня шла мимо ушей Гундурова. Он только видел пред собою сцену, на которой он появится вот из-за этой второй налево кулисы, изображающей теперь дерево с теми под ними невиданными желтыми цветами, какие только пишутся на декорациях, а которая тогда будет изображать колонну или пилястр большой залы в Эльсиноре, – появится с выражением «бесконечной печали на челе», с едва держащейся на плечах мантией и спущенным на одной ноге чулком, как выходил Кин, и, скрестив на груди руки, безмолвно, не подымая глаз, перейдет направо, подальше от Клавдио…3