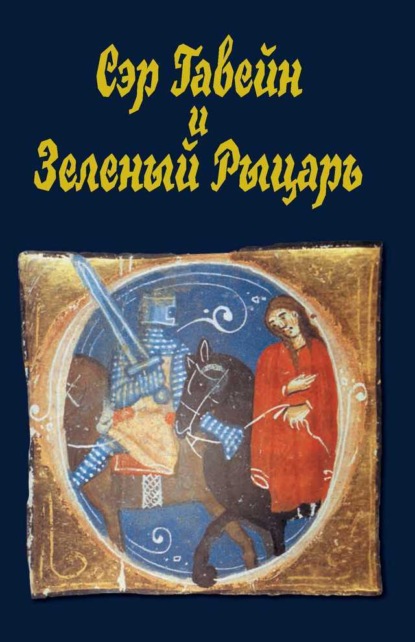Полная версия
Четверть века назад. Книга 1
– Не поехать ли нам кататься? – предложила Лина, прерывая беседу свою с Гундуровым и подымаясь с места.
– Поедем, поедем! – вскинулись разом все.
– Дождь сейчас пойдет! – сказал кто-то.
– Что вы, откуда? – запищали пулярки.
– Откуда он всегда идет, сверху! – загаерничал Шигарев, принимаясь подражать языком звуку барабанивших уже по ступенькам лестницы дождевых капель…
Через минуту крупный весенний дождь полил, как из ведра.
– Ай, ай, ай! – С визгом и хохотом побежало молодое общество с балкона в гостиную.
– Mon управляющий 1-sera très content, – объявила своим партнерам княгиня Аглая Константиновна, – он говорит, что дождь c’est excellent pour les посевы.
– Et pour-1 Гисправник, которого теперь мочит до костей, – подшутил «бригант», которому ужасно везло в преферанс.
– Вы такой злой всегда, такой злой! – так же шутливо погрозила она ему толстым своим пальцем.
Он нежно покосился на нее.
– Я очень рад этому случаю заполонить вас, молодая особа, – весело молвил, подходя к бойкой барышне, князь Ларион, – вы против соловья имеете то преимущество, что можете петь и в ненастье. А мы вот уже третий день, как не слышали вас…
– Ah, oui Olga, faites nous de la musique2! – крикнула ей, в свою очередь, княгиня.
– Слушаю-с, – барышня присела перед ней танцмейстерским приседанием и, обернувшись к князю:
– И петь все то же опять? – спросила она, лукаво глядя на него.
– Непременно! – засмеялся он.
– «Я помню чудное мгновенье»?
– Само собою.
– Вы это очень любите, ваше сиятельство?
– Чрезвычайно!
– И что именно: музыку или слова?
– И то и другое. Я нахожу, что мысль поэта передается здесь музыкою в таком совершенстве, что иной и нельзя написать на это стихотворение…
– А сами вы?..
– Что «сам»?
– Сами вы при этом не вспоминаете какого-нибудь «чудного мгновенья»?
Он засмеялся опять:
– Несомненно вспоминаю: – то, когда вы мне это в первый раз пропели.
– Ни, ни, ни! – она медленно закачала головой. – Меня провести нелегко! Что вы вспоминаете, это я знаю; что вспоминать вам сладко, оттого вы так часто заставляете меня это петь… Но что не я, а кто-то другой тот «гений чистой красоты», о котором вы вспоминаете, – подчеркнула Ольга, – я тоже знаю…
Она подняла на него глаза – и обомлела… Он был бледен, как холст; судорога кривила его губы…
– Про кого вы это говорите? – еле слышным голосом промолвил он.
Бойкая барышня страшно перепугалась: слова отца про глиняный горшок пришли ей на память; она полезла в бой, не справившись со своими силами, и только теперь поняла, каким разгромом могло это кончиться для таких горшка и горшечка, каковы были отец ее и сама она сравнительно с людьми, как Шастуновы…
Но она была находчива:
– Сказать? – она смело взглянула на него еще раз.
– Говорите! – пропустил он сквозь стиснутые зубы.
– Далеко отсюда это воспоминание, – молвила она, сопровождая эти слова соответствующим движением руки, – к Сампсону, в Петергоф3 надо бежать…
– В Петергоф? – повторил он недоумело, впился в нее глазами… вспомнил и вздохнул, – вздохнул всей грудью, как вздыхает человек, которого только что миновала смертельная опасность…
– Отгадала? – спрашивала его между тем смышленая особа.
– Вы что об этом можете знать? – сказал он, хмуря брови.
– Мало ль что я знаю! – уже свободно расхохоталась она.
– Это я вижу, – с язвительною усмешкою вымолвил ей на это князь Ларион, – и, к сожалению, не могу вас никак с этим поздравить!..
Он нагнулся в знак поклона и отошел от нее.
Она несколько растерянно глянула ему вслед: «глупость» ее совсем не так удачно сходила ей с рук, как она вообразила себе это в первую минуту.
– Eh bien, Olga4? – раздался снова голос княгини.
Она побежала к фортепиано, на котором с приезда ее в Сицкое лежала папка с ее нотами.
– А Надежда Федоровна где же? – спросила она, обведя кругом глазами, – я не могу сама себе аккомпанировать…
– Если позволите, – вызвался, подбегая, Чижевский, – я музицирую довольно порядочно…
Он сел за фортепиано. Она запела: «Я помню чудное мгновенье».
Пела она действительно так, что, как говорил про глаза ее Ашанин, «мертвого могла бы воскресить». Неутихшее еще в ней волнение сказывалось в ее слегка дрожавшем, но никогда еще, может быть, такою проницательною силою не звучавшем, густом и ярком контральтовом голосе. Он, казалось, звенел в молодой шири своей изо всех концов пространной гостиной, лился неотразимым обаянием в ухо каждого из слушателей… Пела она по-своему, как поют иные чисто русские певицы, как пела знаменитая в то время исполнительница Глинки и Даргомыжского Марья Васильевна Ш-ая5, с тою сладко-томительною, неотступною, насквозь прожигающею страстностью, тем особым, капризным, полуцыганским пошибом, что прямо хватает и бьет по всем живым струнам русской души…
И сердце бьется в упоеньи,И для него настали вновьИ божество-о… и вдохно-венье,И жизнь, и слезы, и-и любовь!..Все примолкло, все слушало… У аккомпанировавшего ей Чижевского дрожали от волнения руки. Ашанина – когда-то женившегося из-за варламовского романса – била лихорадка…
Он первый кинулся к ней, когда она кончила:
– Что хотите, то и делайте со мною! – бормотал он, сам себя не помня… Никогда еще так всевластно не говорили в нем восторг и желание!..
Но ее уже обступали все… Образованная окружная душила ее в своих жирных объятиях. Чижевский без слов жал ее руки…
– Charmant, charmant6! – словно ход фагота в визге маленьких флейт слышался поощрительный голос княгини Аглаи в хоре возгласов восхищенных пулярок.
– Виардо нумер второй7! – подбежал к ней Маус с фразою, которую неукоснительно повторял он ей каждый раз, когда она при нем пела.
– Не знаю-с, не слыхал, – отрезал ему на это тут же очутившийся храбрый капитан Ранцов, у которого от пробиравшего его чувства все усы, как у кота, взъерошены были кверху, – а только что он лучше Ольги Елпидифоровны петь не в состоянии, я за это готов прозакладать мою честь!..
– Она, а не «он» – Виардо! – презрительно отпустил ему правовед.
– Все равно, «она»-с, или он-с, а только что не может спеть лучше-с! – и капитан поглядел на Мауса так, что «вот, мол, я тебя, чухонца, сейчас и с косточками проглочу!..»
«Олива», как и следует, стушевалась пред «лавром».
Маус только плечами пожал и величественно ушел в глубину своих нескончаемых воротничков.
– А вы, капитан, не бурлите! – И барышня повела на него строгим взглядом. – Что это вы в своих казармах выучились так неприлично выражать свои восторги?
– И не живал в них никогда-с, мы все по деревням квартировали, – сконфуженно и покорно объяснял влюбленный воин, – только уж позвольте мне, Ольга Елпидифоровна, всею моею душою и сердцем верить, что так, как вы, никто не споет-с, никто!
Но она не слушала его и, прищурившись, отыскивала глазами князя Лариона.
Он сидел поодаль от всех, на угловом диване, и рассеянно играл большою кистью подушки, положенной им себе под бок… «Магнетизм воли» ее не действовал: он не подымал головы…
Досада и тревога опять завладели Ольгою. Она повела взглядом кругом…
Ашанин, опершись локтем о фортепиано, не сводил с нее глаз…
Она шагнула к нему:
– Мне нужно будет вам сказать два слова!
– Разве вы еще не будете петь? – воскликнул, словно обиженный, Маус.
– Потом… потом… А теперь надо Лину попросить… – Княжна опять сидела подле Софьи Ивановны и глядела ей в карты. С приходом князя Лариона Гундуров все мучился желанием подойти к ней и все не решался…
– Лина, милая, за вами теперь очередь… все просят! – говорила, подбежав к ней, Ольга.
– Oui, ma chère, chantez nous quelque chose8! – предписала и княгиня.
Чижевский предложил опять свои услуги…
Она запела очень известный, тогда еще новый романс Гордиджиани: «О Santissima Vergine Maria!»9 Тихою, несложною модуляциею словно журчит сквозь слезы молитва бедной поселянки к Пречистой Деве Марии. Она просит о своем Дженнаро, об исцелении ее «poverino»10, ее опасно заболевшего Дженнаро: «Исцели его, Пресвятая, – и за то, обещает она, я отдам тебе ту ленту, что мне подарила мама, – и каждую субботу перед Твоим Пречистым Ликом будет гореть зажженная мною свеча…»
Точно откуда-то сверху, из воздушных пространств, несся нежный и трогательный, как у ребенка, чистый, как звон стекла, голос Лины. Он не возбуждал восторгов, не вызывал невольных рукоплесканий… Но князь Ларион, откинувшись головой в спину своего дивана, едва переводил дыханье… Слезы туманили глаза Софьи Ивановны. Гундуров кусал себе губы до боли…
– Да, молитва, чистое… неземное… Это все ее!.. Другого она не понимает – и не поймет… – говорил он себе с каким-то смешанным чувством благоговения и печали, – нет, я не встречал, да и есть ли еще на свете подобное созданье?.. Она совсем особенная, непонятная… недосягаемая.
А Лина, допев свой романс и ласково проговорив «спасибо» Чижевскому, поспешно отошла от фортепиано.
– Княжна, больше и не будет? – сказал ей с улыбкою Гундуров, мимо которого она проходила.
– Ах, нет, пожалуйста!.. – она слегка покраснела.
– А вы не любите петь?
– При других – нет, не люблю… Для чего?..
– Для того… – начал было он – и приостановился… – Знаете ли, княжна, о чем я думал, слушая ваше пение? – заговорил он опять с какою-то самого его удивившею смелостью.
– Что я плохо пою? – усмехнулась она в ответ.
– Нет, и вы сами знаете, что я этого не мог думать… Я думал после нашего разговора… Мне представлялось, что вас влечет как будто к себе одно печальное в жизни, а все ее радости, ее светлую сторону вы как бы намеренно желаете обойти…
– Я… обойти? – повторила она и тихо опустилась в кресло подле него, – нет, я не святая… Но где они, эти радости? – задумчиво примолвила Лина.
– В осьмнадцать лет, и вы спрашиваете? – воскликнул Гундуров… – Вы, впрочем, Джульеты не понимаете! – заметил он с несколько натянутой улыбкою.
– Не понимаю? – Она подняла и остановила на нем свои никогда не улыбавшиеся глаза. – Я вам этого не говорила…
Фортепиано зазвучало снова. Послышалась ритурнель известного романса Глинки на слова Павлова11:
Она безгрешных сновиденийТебе на ложе не пошлетИ для небес, как добрый гений,Твоей души не сбережет, —пела Ольга своим страстным, забористым голосом:
С ней мир иной, но мир чудесный!С ней гибнет вера в лучший край…Не называй ее небесной,И от земли не отрывай!..Княжна, примолкнув, слушала…
– Вот этого я не понимаю, это правда! – вся заалев, сказала она Гундурову по окончании куплета. – И отошла к карточному столу.
– Ты очень хорошо пела, Hélène, – молвил, подойдя к ней, князь Ларион.
– Merci, oncle12! – она шутливо кивнула ему в знак благодарности.
– Нет, в самом деле… И знаешь, пела даже с каком-то особенным выражением, которого я и не подозревал в тебе, – прибавил он, видимо налаживая себя также на шутливый тон.
– А именно? – спросила Лина.
– Да ты будто действительно молилась о чьем-то исцелении? – он засмеялся деланным смехом.
Что-то неуловимое пробежало у нее по лицу.
– У меня, слава Богу, никого больного нет! – сухо ответила она.
– Elle aurait bien dû prier le bon Dieu de vous guérir de vôtre antipathie pour Pétersbourg13! – отпустила неожиданно княгиня Аглая тоже в виде шутки.
Князь Ларион закусил язык, чтобы не ответить ей грубостью. У него было нехорошо, очень нехорошо на сердце…
Ольга в это время, пропев свой последний куплет и объявив кругом, что «на сегодня баста, петь больше не буду – и не просите!» – поманила рукою Ашанина:
– Владимир Петрович, пожалуйте!..
У Мауса и у Ранцова запрыгали искры в глазах… Они почти нежно глянули друг на друга ввиду этого нового для обоих их грозного соперника…
Бойкая барышня взглянула на них, в свою очередь, как бы спрашивая: «ну, чего вам еще нужно?..»
Они послушно отошли. Она уселась с Ашаниным около инструмента, на котором замечтавшийся Чижевский переводил из тона в тон мотив только что спетого ею романса… Он никак не мог решить в голове своей, кто ему больше нравится: княжна или эта соблазнительная певица?..
– Послушайте, – быстро заговорила Ольга, – вы, я знаю, очень тонкий человек; вы можете мне дать совет. Я, вот видите, совсем, кажется, поссорилась с моим стариком…
Ашанин не отвечал и только жадно глядел на нее.
– Не смотрите на меня так! – она нетерпеливо отвернула свое лицо от него. – Я вам о деле говорю…
– Не могу! – прошептал он через силу.
– После, после! – невольно засмеялась барышня. – А теперь вы мне скажите, как мне быть: я, кажется, оскорбила его…
Она передала Ашанину разговор свой с князем Ларионом, намек на его «петергофскую» привязанность, его едкий ответ ей… О том, что побудило ее к этому намеку, кого она первоначально имела в виду, делая его, она не сообщила. Она боялась сделать новую неосторожность… В сущности, она сама не знала, к чему передавала все это Ашанину и какого «совета» могла ждать от него; но она тревожилась и чувствовала потребность высказаться перед кем-нибудь…
– Сердится, пересердится, – и сердиться-то будет недолго, – смеясь отвечал на ее торопливые речи Ашанин, – какой гнев устоит перед этими глазами!..
– Нет, – перебила его Ольга Елпидифоровна, – он обо мне не думает… Я теперь знаю! – утвердительно кивнула она, как бы желая сказать, что это вопрос вне спора…
– Если так, то вам еще менее причин беспокоиться, – заметил молодой человек.
– Я не о себе… и какое мне до него дело! – с горячим взрывом досады возразила она. – Но он может повредить моему отцу…
– Полноте! – Ашанин пожал плечами. – Он слишком порядочный человек для этого.
– Да, вы думаете? – быстро проговорила Ольга. – Я сама думаю… он не способен на гадость… Боже мой, как это все унизительно! – вырвалось у нее вдруг.
Красавец, в свою очередь, вопросительно на нее взглянул.
– Да, – продолжала она, высказывая громко все, что в эту минуту неудержимо всплывало у нее со дна души, – быть дочь исправника, от всех зависеть, от всех искать… этого я переносить не могу!.. Я не для этого рождена… Да, не для этого! Я рождена для блеска, – она чуть не плакала, – мне надобно une position14… О, дайте мне только быть знатною!.. Взгляните на эту Лину… она княжна, за нею полмиллиона приданного. К чему ей все это? Она тяготится своим богатством, если бы не княгиня, она бы каждый день ходила в одном и том же платье; посмотрите на ее комнату – точно келья в монастыре!.. А я!.. Для чего же ей все, а мне ничего? Отчего эти несправедливости?.. О, если бы мне только половину, половину только, я знаю, что бы я сделала и чем была бы! – восклицала Ольга, сверкая глазами…
– И я знаю, – прервал ее страстным взрывом Ашанин, – знаю, что вы меня с ума сведете!..
– Перестаньте, пожалуйста, вы мною увлечены, – верю… все мною увлекаются. – Ольга засмеялась вдруг, – но вы сейчас сами, на балконе, говорили мне…
– Я говорил вздор! – горячо воскликнул он. – Я не слыхал, как вы поете… я не знал вас!.. А теперь, – голос у него прервался, – теперь скажите слово, и я вас… завтра же… поведу к венцу!..
Она вскинула на него свои блестящие глаза и опустила их опять под огнем его взгляда… Самодовольная, почти счастливая улыбка заиграла на ее губах. Ашанин видел, как под прозрачною кисеею заходила волной ее молодая грудь… Он ждал…
– Нет, – сказала она наконец, – вы мне не муж!..
Он чуть не вскрикнул…
– Нет, – повторила она и, еще раз подняв на него глаза, окутала его таким взглядом, что у него сердце запрыгало, – я бы вас слишком любила… а вы бы меня измучили! Ваша любовь на один час!..
– И час целый рай! – вскликнул Ашанин.
Она закачала головой и, полувздохнув, полуулыбнувшись:
– Нет, и я для вас не подходящая… слишком дорогая была бы для вас жена… Вы, кажется, не богаты?..
Он, забывшись, схватил ее за руку:
– Но это невозможно! Так между нами не может кончиться!
Ольга тихо отдернула из руки его свою…
– Я и не говорю… чтоб это кончилось, – проговорила она как бы бессознательно, и горячею краскою покрылось все ее лицо, – но об этом после… после!.. Она нас увидит! – кивнула она по направлению двери, откуда выходила Надежда Федоровна с пачкою писем и газет, только что привезенных из города…
В этот вечер Софья Ивановна уехала из Сицкого в таком состоянии духа, в каком себя еще никогда не помнила. Она не знала, чего хотела, чего в данном положении вещей следовало ей желать, что должна была она теперь делать или не делать… Нрав у нее был не менее пылок, чем у ее племянника. Одаренная силою для сопротивления, она была бессильна против обольщения чувства. Она была бессильна – и сознавала это – против обаяния Лины… «Она его любит или близка к тому! – говорила она себе и с ужасом спрашивала себя. – А потом что же – что ждет их?..» Но оторвать его от нее она была не в состоянии… Нервы были у нее возбуждены до крайности; прощаясь в передней с Сергеем, при всех, она призвала на помощь всю власть свою над собою, чтобы не разразиться слезами, и только шепнула ему на ухо: «Да храни тебя Царица Небесная!»… Но едва отъехали от крыльца ее лошади, она прижалась к углу приподнятого фаэтона и зарыдала… С Ашанина перед отъездом взято было ею слово внимательно наблюдать за приятелем и «в случае малейшей важности» тотчас же известить ее в Сашино или, еще лучше, «урваться и приехать самому, хотя бы ночью»… Себе она обещала, «если Бог благословит их на добрый конец», сходить пешком из Сашина к Троице – полтораста верст…
XXIII
1-Die Engel, die nennen es Himmelsfreud,
Die Teufel, die nennen es Höllenleid,
Die Menschen, die nennen es Liebe!
Heine-1.Мучительные дни настали для князя Лариона. Он угадывал, он чуял встревоженным чутьем, что племянница его, Лина, уходит от него. Между им и ею что-то внезапно стало невидимою, но неодолимою стеною, – и в то же время, говорило ему это чутье, между ею и тем молодым человеком, которого он, ввиду грядущих случайностей, удалял из Сицкого, что-то уже спелось и пело на душе каждого из них несомненным и, может быть, – он содрогался при этой мысли – уже неразрывным созвучием… И тем сильнее сказывалось ему это что-то, чем неуловимее, неосязательнее были его признаки… Лина казалась еще холоднее, еще сдержаннее, чем прежде. С Гундуровым она говорила не более – менее, быть может, чем с другими; спокойные глаза ее так же безмятежно, казалось, останавливались на нем, как на Ольге, на Ашанине… на Шигареве… Но князь Ларион с глубокой тоскою замечал, что она избегала его глаз… избегала разговоров с ним. Давно уже, с самого возвращения в Россию, перестали они быть неразлучными; давно должен он был отказаться от тех долгих, дружных, блаженных для него бесед, что вели они в Ницце, сидя вдвоем на камне у морского берега… Но до сих пор все же урывались на дню хотя несколько мгновений, когда они оставались наедине, когда светлая душа ее раскрывалась перед ним с прежним доверием и нежностью… Теперь она закрывалась для него – она уходила, уходила… И он уже не смел спросить, не смел более допытываться. Он знал ее, эту чуткую и гордую душу; он тогда, тем намеком на выразительность ее пения – а тогда он не в силах был сдержаться, – нанес себе сам неисцелимый удар: в ответе ее он прочел надолго, навсегда, быть может, конец всему прежнему. Теперь она укутывалась в свою холодность и безмолвие, как то растение, что боязливо сжимает лепестки свои при отдаленном шуме идущей непогоды. Ему не было уже там места, и другой… другой… Кто он, зачем, какими обольщениями, в силу какого права завладеет он ею? Беспощадные змеи немощной старческой ревности сосали сердце князя Лариона… И он должен был молчать, таиться, не замечать… А он все видел, все угадывал!.. Он видел, когда на сцене Гундуров читал свои монологи, как каждый раз поникала взором Лина, чтобы никто не мог прочесть того, что сказали бы, может быть, ее глаза, – как одному его неотступному взору заметным трепетом вздрагивали ее плечи от горячего взрыва, от иного, вырывавшегося у Гамлета слова… Он бледнел каждый раз от выражения их голосов, когда в первой сцене своей с Офелией Гундуров говорил ей: «я любил тебя когда-то», а она ему отвечала: «я верила этому, принц!» – Неправда! – готов он был бешено крикнуть им, – твой голос говорит ей: я люблю тебя, а ее: я тебе верю; вы по-своему передаете Шекспира… А он улыбался, и ободрял, и искал случая к поправке, к замечанию, чтобы хотя на мгновение остановились на нем эти теперь немые для него глаза…
Он страдал невыносимо – а все сидел тут, на репетициях, глотая капля за каплею из этого отравленного кубка… «Он уедет, – инде прорывались у него лучи надежды, – через две недели отойдет это проклятое представление… а затем ему дадут понять… И сама Лина, – она знает, что мать ее никогда не согласится, – она поймет»… Но разве он, князь Ларион Шастунов, то же, что ее мать! – подымалась у него на душе прежняя буря, – разве у него с нею те же побуждения, те же чувства к ней, к Лине. Он уедет, этот молодой человек, все равно, – нет, еще хуже – он унесет с собою ее душу… Князь Ларион знал ее: она не забудет его, как не забыла отца, и, подчиняясь материнской воле, с памятью о князе Михаиле будет хранить память о нем до самого гроба!.. Легче ли от того будет ему, князю Лариону?..
«Театрик» между тем шел вперед и вперед. То, что на языке сцены называется ансамблем, уже достаточно обрисовывалось – и обрисовывалось удачно: исполнению драмы можно было заранее предсказать несомненный успех. Роли уже все были разучены, участвовавшие относились к делу своему с добросовестностью и прилежанием, редко встречаемыми между любителями… Но ведь к чему они и приступали, за что брались, сказывалось невольно в сознании каждого из них. Шекспир, «Гамлет», – «каждый торговец в городе», как справедливо говорил Вальковский, знал эти имена тогда и валил за толпою в театр, прочтя их на афише, – это были в те дни такие веские, обаятельные, царственные имена!.. Сам храбрый капитан Ранцов, в продолжение всей своей жизни, кроме устава о пехотной службе и «Таинственного монаха» Рафаила Зотова2, ничего не читавший, бредил теперь с утра до ночи своею ролью Тени и обещал режиссеру золотую цепочку к часам, если он его «на настоящую актерскую точку поставит». По счастливой случайности роли приходились по вкусу и по способности почти каждого из актеров. Княжна была идеальная Офелия. В игре Гундурова с каждым днем все шире и глубже выяснялся изображавшийся им характер, с каждой пробой становился он все сдержаннее, нервнее, – инсистивнее3, как выражался князь Ларион… Полоний-Акулин был превосходен. Чижевский был сам Лаэрт, пылкий, ловкий, блестящий, и каждый раз вызывал рукоплескания товарищей, когда в сцене возмущения вбегал, требуя «кровавой мести за смерть отца», и звенящим, как натянутая струна, голосом восклицал:
…Оба мираЗову на бой, – и будь со мной что будет!..Надежда Федоровна, Гертруда, не портила, хотя несколько мямлила и с непривычки не знала, куда девать руки. В знаменитой сцене с сыном она была холодна и холодила Гундурова, что приводило его в отчаянье. «Погоди, – утешал его Ашанин, – я вот ее в самый день представления самым жестоким образом разогорчу, и она будет тебе ныть от начала и до конца роли»… Он и не предчувствовал, как пророчески должно сбыться его обещание!..
Зяблин в роли Клавдио был почти хорош. Его печоринские взгляды из-под низу, сдобный голос и изнеженные приемы при разбойничьем лице довольно близко подходили под тип того лицемерного сластолюбца, игрока и бражника, «благочестивым видом сумевшего обсахарить скрытого в нем дьявола», каким Шекспир изобразил Гамлетова отчима. Но этого сахара перепускал он подчас уже столько, что «фанатик» Вальковский не выдержал однажды и крикнул ему из кулисы: «Да что вы, батюшка, злодея играете или патоку сосете?» – на что Зяблин только уныло плечами повел и глянул на бывшую тут княгиню, а она, в свою очередь, обиженно вздохнула, глянула на князя Лариона и проговорила, раздув ноздри: «Ne remarquez vous pas, Larion, que ce monsieur est très mal élevé4?»… Сам «фанатик» в «молодой роли» Розенкранца был невыразимо смешон и потешал Ашанина до истерики: он сжимал губы сердечком, щурил глаза, подбоченивался фертом и напускал удали и молодечества там, где ни по характеру лица, которое он играл, ни по смыслу положения и тени не требовалось чего-либо подобного. «Эко чучело, эка безобразина!» – хохотал Ашанин после каждого выхода его на сцену. Вальковский не смущался. «Погоди, брат, – отвечал он ему с торжествующей улыбкой, – приедет Василий Тимофеев, он меня не хуже тебя красавцем распишет!» Василий Тимофеев был театральный парикмахер, большой искусник своего ремесла и закадычный друг Вальковского, возлагавшего на него на время своих отсутствий по театрикам все свои дела, – а в том числе и надзор за «Маргоренькой», ужасно рябою и столь же легковерною швеей, которую «фанатик» готовил на сцену, на роли светских кокоток…