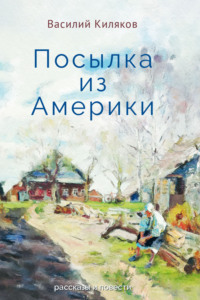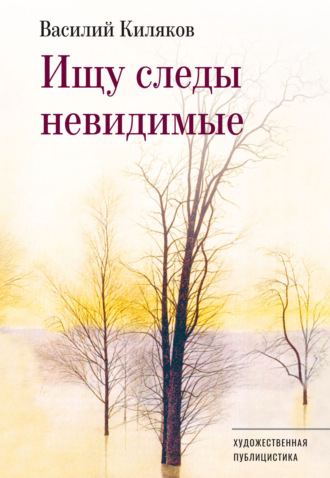
Полная версия
Ищу следы невидимые
Вечером вновь разместились вчетвером в его номере с открытым окном. Было свежо под коротким негреющим солнцем при ветре. Глеб Горышин подписал мне журнал «Бежин Луг» (гл. ред. Апасов) с повестью «Последний раз в Китае». Хотелось быть бесшабашным и бескорыстным, смеяться и пить вино. За Горышиным пришли приглашать на съёмки для ТV, он отказался. В буфете ресторана была хорошая водка, мясо по-татарски, чизбургеры и тёплые чебуреки, огурчики редкого суздальского посола, курочка с «озябшей» корочкой и покрытая желе холодца из холодильника, – всё было в порядке. Оставалось и домашнее…
Не знаю, почему так поразил меня его самодельный ножскладенёк, – этот обвязанный изолентой нож, с которым он любил ходить по грибы за рыжиками и валухами, за темноголовыми боровиками и стройными подосиновиками. Такой бедный, нищенский нож был бы более присущ какому-нибудь пастуху из деревни или конюху, но никак не писателю международной известности. Перечитывая его письма и прозу, вспоминаю этот нож, волей-неволей думаю о «благородной и достойной» судьбе русского писателя, о России…
Глебу Горышину тогда шестьдесят шесть было, соборам владимирского Кремля – около восьмисот лет. Сколько поколений наших пращуров создавало христианскую культуру, мощь и силу государства Российского, а теперь в холле гостиницы иностранцы и соотечественники расплачивались за матрёшки и регалии русского офицерства долларами… Разнузданная пляска доллара по русской земле! Апрель 1996 года.
Широко известны у Глеба Горышина: «Хлеб и соль» (1958), «В тридцать лет» (1961), «Земля с большой буквы» (1963), его воспоминания о былых встречах, о друзьях: Василии Шукшине, Владимире Торопыгине, Дмитрии Острове… О чём думал он, что писалось ему в последнее время, разберут ли черновики его наследия? Седая бородка, судя по тому, как он пощипывал её, – недавняя, непривычная; длинные прямые волосы, высокое чело в глубоких морщинах. Он всё время размышлял о чём-то неизвестном, видел (казалось) что-то, невидимое другим…
Храм Покрова на Нерли, владимирский Успенский собор, рака Александра Невского, Золотые Ворота, мужской монастырь в Суздали – всё это будет и потом, и долго продлится, с восторгом нашим и с нашим молодым задор́ ом… М. Лобанов, Н. Старшинов, Г. Горышин – подарят свои книги с посвящением. Такой приём в СП запомнится надолго, навсегда.
– Завидую, Василий, – по-доброму сказал мне Горышин, прикуривая, – меня принимали гораздо скромней. Кстати, – показал он на домик из окна автобуса в центре Владимира, – видишь это зданьице, как думаешь, чей он? Правильно, Солоухина Владимира.
…Всё это было, а в Суздали мы стали уже совсем своими, друзьями. Почему я сразу выделил его, молчаливого, из всех, красиво, громко говоривших и разудало-задумчивых на камеру, восседавших в президиумах, не знаю. Наверное, долгое и продолжительное размышление о жизни накладывает какой-то особый отпечаток на внешность, на человека: нравственность и серьёзность способны чувствоваться на расстоянии. Может быть.
Мы говорили о Домбровском, о его публикациях в «Новом мире», о последних днях Б. Зайцева и Ю. Казакова и опять, вновь и вновь возвращались к Ивану Бунину, с которым накрепко связаны имена многих русских писателей.
– Глеб Александрович, так что же было на самом деле тогда, в «Авроре», на юбилее Брежнева – просто ли совпадение? Теперь уже можно и рассказать.
– Да, да, именно, совпадение.
«Совпадение» стоило ему в ту пору (он был главным редактором журнала «Аврора») обширного инфаркта…
Нет, и тогда – в спокойные и «застойные» времена – всё было далеко не так просто, как может показаться теперь.
Г.А. Горышин поразительно напоминал мне одного из типажей шукшинского фильма. Там очень яркий колоритный мужик двухметрового роста вышел вдруг выбивать пыль из ковра.
– Вытряхивать… Пашка Колокольников, – подсказал Горышин. – У тебя, Вася, писательская память.
И он стал рассказывать о съёмках известного фильма В.М. Шукшина в Алтае: о том, как водитель такси вёз его километров пятьдесят от трапа самолёта на съёмки, а узнав, кого везёт, да ещё и к Шукшину… «…И денег не взял, – смеялся Горышин. – Я тогда за эти съёмки десятку заработал. И пропил бы, да Шукшин к тому времени не пил уже… Сердце? Нет, сердце у него никогда не болело – нервы… желудок. Голод затевал нас тогда для жизни, Царь-голод. Здоровенные гули вздувались у Шукшина на скулах, скрипел зубами… Он, по его признанию, и спал со сжатыми кулаками. Душой жил…»
Говоря о Шукшине, затронули Анатолия Дмитриевича Заболоцкого. «Он теперь кинооператор на «Мосфильме»… – Горышин рассказывал о его помощи Шукшину на съёмках «Калины красной», о том, какие фотоработы он выставляет, что он – любимец Астафьева. И с горечью добавил: – А сам Астафьев становится всё более одинок. А ведь это – совесть нации: Шукшин, Астафьев, Заболоцкий… Нет, ребята, пожалуй, я на ужин не пойду, тяжёл стал…»
Но кто из нас думал об ужине тогда… И всё же сдвинулись с насиженных мест, потянулись к автобусам, к знакомому владимирскому ресторану. На ужин успели (для опоздавших подали специальный дополнительный «Икарус»). Ехали в разных автобусах, молодёжь шумела:
– Александр Проханов должен был быть там, в октябре 1993 года, в Белом доме…
– Зачем? Тогда сейчас мы были бы совсем обескровлены…
– А я не верю им никому, – бубнил один из нас. – Я сам был там в 1993 году, нас предали свои же…
– Володя, – шепнули ему, – надо смотреть и слушать, а ты всё кричишь…
Был концерт, выступали М. Ножкин и Н. Старшино́в, пели песни Мельникова «Поле Куликово», «Поставьте памятник деревне»… Потом стояли «на горе́», у здания администрации, и было странно мне, как я из деревни рязанской – а вот вышел сюда, «в люди», стал писателем. Панорама Владимира, ночного города поража́ла воображение. Огни россыпью… Здание администрации Владимира выстроено давно, и – странным образом оказалось выше церквей. Полагалось бы и вместо здания администрации – отстроить на такой высоте кафедральный Владимирский храм, дождёмся ли…
…Моя последняя встреча с Горышиным случилась в середине мая 1997 года в СП на Комсомольском проспекте, 13, у дверей в секретариат. Поговорив, мы сердечно расстались. Я долго смотрел ему вслед, и отчего-то щемило сердце. Это была наша последняя с ним встреча. Запомнил и разговор:
– Вася, ты как здесь?
– Да вот, раздумываю: премию «Традиция» «прижюрили» за публикации в столичных журналах.
– В чём вопрос, обязательно зайди, спроси. Ты же не выпрашивал премию, сами дали…
Премия была в шестьсот рублей, и тогда уже – невелики были деньги, но совет Горышина был дельным, как всегда…
…Перечитываю сборники его стихов «Виденья» (1990), «Возвращение снега» (1996) – стихи небесно хороши. И удивительно: даже почти голода́я, в возрасте шестидесяти лет он от прозы перерос к стихам! Его преданность русской литературе, всему русскому – восхищает!
В день его ухода из жизни, в апреле, в ночь с 10 апреля 1998 года, – на Москву и на Санкт-Петербург опустился, обрушился свежий, необычный снег, такой волшебный буран «забелил» Москву, закружил в белом вихре! Какой-то целебной, удивительной чистоты и силы. Снег… «Возвращение снега», – так называется последний сборник стихов Глеба Горышина. Это его прекрасное сердце, душа его, уходя, этим большим снегом в небеса – «оглянулась и на нас, грешных», как говорят в народе.
* * *Необходимо отметить, что не только проза и поэзия Г.А. Горышина – и интересны, и несомненно останутся в нашей литературе навсегда. Не только личность его и воспоминания. Эпистолярное наследие – тоже всегда вызывало у читателя интерес едва ли не больший, чем самые яркие произведения известных писателей. Письма Горышина прямы и точны, «натуралистичны». Не по лекалам выверены. Натурализм их семантичен честности. Из своего опыта знаю: когда умный поживший человек «натуралистичен» – тут уж и смотри, и слушай в оба.
…Говорил и писал Глеб Александрович всегда глубоко и ярко. Подмечал точно, с юмором – иногда с сарказмом тонкого, знающего человека. Ирония никогда не покидала его и не мешала глубокодумью. Вообще Горышин был прозаичен не для всякого. С редкими друзьями откровенен, много записывал в дневники, запоминал и вспоминал необычайно легко и подробно, был необыкновенным рассказчиком. Знал несколько языков. Неутомимый путешественник, он бывал в Африке и Америке, не раз в Китае и Владивостоке.
Он всё принимал и всё разделял: что влево, что вправо – и с виду легко, но только с виду… Сокровенным был человеком. К сожалению, когда мы встретились, сердце его уже болело…
Горько, что даже самая высокая философия оканчивается трагедией. Оглядываюсь назад, в прошлое, и не ведаю: то ли мы все потеряли его, то ли он ушёл в своё время и освободился от нас, путаников, и во время о́но так часто и так много досаждавших ему даже просто демонстрацией своего уважения. Он многое пережил и простил, написал более тридцати книг прозы и две – стихотворений. Публикации «Последний раз в Китае» (его путевые заметки, последние) – оказались пророческими. Там сказано так о девяностых на их излёте: «… Но в здоровом развивающемся организме китайской нации, даже при коммунистическом руководстве, нашёлся здравый смысл поворотиться к другому опыту, каким располагает человечество. Китайцев отпустили на волю, не совсем, не как у нас в перестройку, без этого шелудивого плюрализма, а дали крестьянам поработать на своей земле, горожанам – поторговать по собственным ценам. При сохранении партийной дисциплины сверху донизу. Что из этого получилось, хорошо бы нам присмотреться…».
Так записал он уже в 95-м году…
2008
Птица небесная
Памяти Глеба Горышина
30 апреля 2007 года. Вот уже десять лет нет с нами незаурядного писателя (до сих пор не оцененного по достоинству). Ушёл из жизни человек, с чьим именем крепко связана целая эпоха в литературе. Автор 32 книг, поэт, переводчик, лауреат Пушкинской, Бунинской премий – вся жизнь его была горением, освещающим путь идущим рядом.
Перечитывая Глеба Александровича Горышина, с радостью чувствуешь, как основательно и чисто в его русском доме, словно в уютной горнице рядом с протопленной русской печью: как бы ни пуржи́ло за окном, как бы ни морозило – тут надёжно, тепло, уютно.
…Целая плеяда новых имён в литературе связана с его, Горышина, поддержкой и заботой. Долгое время, будучи завотделом прозы журнала «Аврора», он открыл многих (в том числе, например, Анатолия Кима), – многих из тех, которым пришёл свой срок – прорасти в русскую прозу, а через неё – в мировую культуру, оживить завещанный предками талант – в вольном парении мысли, в музыке русской изящной словесности. Первые рассказы Василия Шукшина – обязаны своим появлением ему же, Глебу Горышину. Перечень имён можно продолжать, и все они будут удивлять своей значимостью, неожиданностью, засверкают разными гранями, так непохожими друг на друга… Но главное, чему учил он, – жить в поисках истины, помнить, что ежедневно угрожает опасность: спутать средства и цель, опасность опереться на мёртвую «букву» вместо того, чтобы почувствовать животворящий дух.
Перед Рождеством 1997 года Глеб Александрович выслал для меня книгу стихов – как впоследствии оказалось, последнюю, «Возвращение снега», с посвящением: «Василию Килякову. Сердечно». Смотрю на фотографию: мудрое лицо пожившего и много повидавшего, успевшего многое понять человека, с «омегой» вен на виске, с неизменной сигаретой (курить он так и не бросил, несмотря на запреты врачей).
Талантливые люди тяжелее, сердечнее воспринимают окружающую несправедливость. Израненное несколькими инфарктами, сердце не выдержало нынешней «дерьмократической» «либеральной» действительности. Теперь только Бог ведает – что, как и о чём думал он в последние годы, собирая грибы по осени, копая картошку с того участка земли, с которого кормился, и никогда не роптал… Он предостерегал от ненависти – как от эпидемии.
И всё следующее десятилетие от 1997-го – потери в стане воинов-витязей русской литературы, были одна страшнее другой: Н. Старшинов, П. Паламарчук, Э. Володин, В. Кожинов, Ю. Кузнецов… А то, вдруг – и Сергей Лыкошин («Артамонович» – не выговаривает язык отчество, настолько он был ещё молод, полон сил и всегда чужд официоза, прост, доступен). Все мы шли тогда, по словам Сергея Лыкошина, «цуѓ ом», помогая один другому. Година испытаний не миновала и теперь.
…Сегодня годовщина ухода Горышина – повод перечитать его прозу и поэзию, перечитать его письма, сдержанные, мудрые строки знавшего цену нашей жизни писателя. Скрытая ирония в игре слов, за которыми тотчас видишь его улыбку в горьком табачном дыму (единственное, в чём не был он патриотом – предпочитал импортный «чужой табачок»). Вижу необыкновенно ясно (ушёл… – как этому поверить?) – его, жившего, бывшего: высокого, седеющего, уверенного в себе, с аккуратной прибалтийской бородкой, всё схватывающего на лету, развивающего мысль в чисто русском надёжном стиле. Его, убедительного во всём, с которым часто хотелось спорить…
…Впервые, вслед за чтением его книг – воспоминаний о Василии Шукшине и Фёдоре Абрамове, я увидел его весной 1996 года во Владимире, где проходило Всероссийское совещание молодых литераторов под эгидой Союза писателей России. Он был немногословен, жёстко, даже безжалостно критиковал мою книгу… Реплики и упрёки его были так не поверхностны и незаурядны, что я тотчас понял, что судьба послала мне встречу с редким, непростым человеком. Впоследствии я узнал, что он одним из первых (за руководителем моего Литинститутского семинара М.П. Лобанова) рекомендовал меня в СП России, а затем разослал мои новые рассказы по журналам, где они и были опубликованы.
Уходит поколение людей, для которых ответственность и обязательность – главные черты, поколение красивых людей, испытанных войной, бессонным трудом. Это мастера подлинно «старой» школы в литературе. Они наработали тот богатый опыт и жизненный материал, из которого только бы черпать. Нынешние «нью»-модернисты, постмодернисты, куртуазные маньеристы, андеграунд – все те, кто манипулирует и выдаёт выхваченное и перевёрнутое за собственные изыски, пусть смолкнут. Уходит школа и традиции. Возвращение к основам случится нескоро и очень болезненно.
Глеб Горышин, «Глебушка», как называл его В.М. Шукшин, его товарищи по перу был заядлым любителем «тихой охоты», грибных мест. Раздумчивый бродяга и странник с самодельным ножичком-складеньком с деревянной ручкой и плетёной корзиночкой на плече, часто ходил он по лесу в совершенном одиночестве, обдумывая новую повесть или впечатление от поездки, что-то записывая на ходу, даже в рощице или присаживаясь на упавшее дерево. Он знал три языка, бывал не раз в Китае, Америке и ещё где-то, куда по тем временам долго не пускали даже его. (О ту пору пускали за кордон не всех).
Высокий, с печальным взглядом – мудрец. Он многое смог стерпеть, вынес многое с молчаливым достоинством. Подозреваю, что саднящие бол́ и и воспоминания он носил в себе глубоко спрятанные, – да так и не сказал, не написал о наболевшем, не успел. Никогда не забыть мне, как глядел он, с каким выражением лица, с каким сердцем – на церковь Спаса на Нерли, проездом из Владимира в 96-м… Да, вот ещё: не терпел он дурных пророчеств о России – он, объездивший полмира, которому было что и с чем сравнить, в том числе и своё житьё, и «свои обстоятельства». В моей жизни он был одним из тех немногих, рядом с которыми хотелось быть часто или быть возможно дольше. Смотреть, впитывать и учиться. Он даже и молчал по-своему, казалось: не молчал, а ума́лчивал… И вот, на Страстной, постом – покинул нас навсегда.
…Умер Глеб Горышин 10 апреля 1998 года. Точнее – не умер, ушёл от нас, «у́был», как случалось не раз ему убывать-уезжать надолго в странствия. Ушёл тихо Великим постом – и в день его смерти, в этот день, в разгар весны вдруг понесло таким буйным снегом по Москве, по Подмосковью лёгкими, белыми, необычайно крупными хлопьями. Снег шёл и шёл, когда мне позвонил из редакции «Литературной России» Илья Рябцев: «Умер, ушёл из жизни…» Снег в поздний апрель – редкость. Перемолвившись, всё ещё не доверяя горькому известию, я слушал гудки в трубке и всё никак не мог понять, смириться с таким сообщением. Впереди была Светлая седмица. Утешало ещё и то, что можно было помянуть его на Пасху, можно было перечитывать его вновь и вновь, и продолжать его дело.
…А снег шёл и шёл, устилал сад за окном и не успевал таять. Я взял в руки его книгу, которая так и называлась: «Возвращение снега». Снег вернулся в апреле. Было в этом нечто нереальное – такое неожиданное, но предусмотренное свыше совпадение, какая-то тайна: название его последней книги и – ошеломительная правда действительности. Он вернулся к нам вихрем снежных кружащихся хлопьев, которым не было конца…
Последние страницы его: «Картинки на бегу» – «Бежин луг» № 4 1997, «Подъём» № 5–6, отрывки из повести, публикации в «Нашем современнике»… И бесценный сборник последних стихов, особенно доро́гой для меня – как завещание, назидание другу: «Возвращение снега», издательство «Дума», стихи. Тираж 500 (!) экземпляров – как самиздат, унизительный для него, масштабного, знавшего тиражи своих книг и в полмиллиона экземпляров.
Он жил творчеством, вёл переписку до последнего дня. Сохранял верность литературе, дружбе.
Смерть в глаза не смотрит. Перед Новым годом Глеб Александрович лёг в больницу: болело сердце. Письмо от него было грустное: «За тот незримый окоём, где мир не изменил обличья…» – писал он в стихотворении. Туда теперь ушла и душа его. Туда взирал он, сличая жизнь свою – с рекой небесной, как в тот памятный день закрытия Всесоюзного съезда-совещания во Владимире, когда взирал на храм на Нерли (как показалось мне, со слезой, что надуло в глаза ветрами открытых просторов). И на храм смотрел, и в будущие снега, которые он не застанет уже на этой грешной и прекрасной земле. За облака смотрел, за дожди и за горизонты…
Горько, что всё реже на нашей творческой дороге встречаются такие, цельные и вдохновенные люди – попутчики и однодумцы.
О, наши порывы благие!О, неба безгласная твердь!Как трепет свечи – литургия,Как птица небесная – смерть……Так писал он, Глеб Горышин, в своей последней книге стихотворений, подаренной мне, словно ведая уже, что недолго осталось ему… до вечности. У Бога живы все.
2008
Фактура, Шукшин и модерн
Размышления над рассказами В.М. Шукшина
Сегодня говорят ещё о постмодернизме, не замечая того, что само это явление – умерло, а где не умерло и подпитывается искусственно, – то отходит все дальше, даже не на второй, а уже и на третий, четвертый план. Постмодернизм, взявший начало от «дионисийской» догадки Ницше и ницшеанствующих (у Камю, и продлившийся у Борхеса, и в «Улиссе» Дж. Джойса «потоками сознания» и дальше – и у Кафки)… имеет суть отрицание Бога. Постмодернизм, по своей сути, – есть крамола на мир Божий и человека как подобие Бога. Он – «хуже афеизма», по слову Пушкина, – т. е. атеизма (и тем одним даже – хуж́ е, что в каждой поделке постмодерна сокрыт обман читателя и обман намеренный). Диалог игровой и подмена неминуема оттого, что опора этих поделок, основа их – не сама жизнь, а книги, когда-то и кем-то написанные. Читать «постмодернового» автора – всё равно как если бы предлагали блюдо, бывшее уже однажды в употреблении. Он, «постмодернизм», смотрит не на мир во всей его полноте и целостности, – но на деталь. Причём на деталь, намеренно неудобную или вымышленную, придуманную кем-то, когда-то. Причём, не брезгует ничем: ни подтасовкой-соединением времен и событий, а также склонен к одномоментной перемене мест. К примеру: доисторический Египет вдруг принимает среди своих пирамид… командира Красной Армии, и прочее, и прочее…
На двор, залитый солнцем, смотрит модернист, – но видит не голубое бездонное небо, а выщербину в подоконнике или трещину на стекле окна – не дальше собственного носа. Из этих пустяковин и вы-щербин он развивает «поток сознания», а то и пытается выстроить мировые догадки, или, напротив, суживает очевидные, ясные проблемы до простой телесности. Упоение этой телесностью составляет суть «новаторства» постмодерниста, и если при этом «красавица» принимает крещение, то она отходит от страсти и начинает «дурно пахнуть»… Кончилось время «андеграунда», «маньеристов», «куртуазных маньеристов», «постмодернистов» и проч., и проч. – всех тех, которые кичились своим подражательством и которые не только не стыдились, а даже и за честь почитали пустить и матерком, – чего не сделаешь ради разрушения (часто – под заказ) установленных правил и традиций или – ради того, чтобы заметили: «распросука» слава требует жертв, как языческий божок или идол. Но такая слава не вселяет надежд, она не правдива и не эстетична. Дождевые черви после ливня тоже охотно весьма выползают на мокрый асфальт. Но они не имеют возможности предугадать, чем это для них закончится. Человеку дана возможность предвидеть свою судьбу на Божиих путях. И вот, пожалуй, в том и состоит главная причина, почему «постмодернизм» на русской почве не прижился (хоть его и прививали – хвалебными статьями, гонорарами, тиражами и грантами), но он всего лишь некое фокусничество – «от идеи» – повторяю, запашок мертвечинки и явно уже побитого опарышем явления.
Сергей Есенин писал в письмах из-за Атлантического океана, что здесь нет людей, есть черви. Здесь невозможна подлинная поэзия, «ибо черви мыслить не могут». И далее слова, за суть изложения которых ручаюсь: он пишет, что ему милее русская лошаденка в поле, мотающая хвостом по ветру, чем сто тысяч чикагских улиц, в которых можно загонять только свиней, «на то там, вероятно, и лучшая бойня в мире». Единственное, на первый взгляд, явное влияние (и позорное) ушедшего постмодерна – то, что в русской литературе он нарушил временно корневую преемственность, последовательность передачи опыта и чистого русского слова от поколения к поколению. Теперь очевидно и то, что «клиповое» мышление или «игровое» восприятие мира, совмещение времен, переворачивание фактов, извращение традиционных ценностей – всё это надо выводить на верную дорогу. Мутный пахучий ручей должен иссякнуть и раствориться в широкой реке – Волге русского языка и русского мышления. Хорошо бы еще судить и привлекать по статье к ответственности неких успевших заработать на такого рода «литературе» «художников», в том числе и сценаристов, и режиссёров (точнее – тех, кто выдают себя за таковых, не имея по сути отношения к русскому театру) – за разложение нравов. Издававших словари с матерной бранью и уголовной «феней» – подсадить их в камеру к «Пуси-Райет» или хотя бы рядом. Ведь вот посидели девушки в СИЗО – и стали извиняться, одна за другой. Значит, помогает неширокая камера – умерить аппетиты, но… – как говорил Шукшин в своих рассказах: «но – к делу».
Итак, рука читателя, изрядно пожившего, изучавшего историю, литературу, а ещё того лучше – и старославянский, и древнерусский языки, – рука такого читателя среди корешков многих и многих рыночных или библиотечных книг выберет, конечно, близкого себе писателя. Писателя-почвенника. Я всё чаще снимаю с полки и перечитываю Василия Макаровича Шукшина.
Меня убеждают, и вполне серьезно, что компьютер, тот компьютер, что выигрывал партии у шахматиста Карпова, если переставить программу, – начнёт вышвыривать готовые книги, сотнями и тысячами, наподобие тех, коими завалены сегодня прилавки. Вводишь лексикон уличной девки (благо типажей – не сосчитать), нажимаешь кнопку, и – «они, как дохлые мухи, оттэда, из компьютера, сыплются» (говорил мне знакомый библиотекарь из Подмосковья). Сегодняшний читатель, за редким исключением, не признаёт, отказывается признавать «школу языка». Её так и называли некогда с давних времён: «школой» – от той «деревенской прозы», вернее – от честной прозы о людях и о земле.
Творящих и работающих на земле-матушке много. «Почвенная» проза и поэзия – верна, преданна, как добрая старая мать. Существует, вернее, существовала она изначально. Даже Дмитрий Сергеевич Лихачев, изучая её, любовался её чистыми истоками. В 1990-х пошло такое поветрие, что надо изучить все стили, особенно, те, что числятся как «стили заумного толка», «навороченные»; овладеть ими – и таким образом выработать свою технику письма. И вот, будто бы, путь к известности, к читателю и к славе – он откроется тогда мистически, сам собой. И примеры многие ведают: от Ю. Кима с его «Вкусом тёрна на рассвете» до Фандорина, совсем уж неудобоваримого с его языковыми подделками ваятеля, до – всё того же пресловутого с птичьей сорочьей фамилией мастера словесных монтажей…
И всё же, как ни дуйся лягушка, бегемотом не станет она. Бабочки-подёнки живут одну ночь или один день. И всё. К тому же, кто пытается влезть в окно, а не входит в овчарню через дверь, тот – вор и разбойник, как сказано в Писании. Даже крестослов́ ицу Андрея Вознесенского – и ту уже забыли. Забыли и «…на Васильевский остров я приду умирать»: громко, но оказалось – ложь. И забыли, а ведь автор сих громких словес – не пришёл… Ну, а если ложный крест, то и венец – ложный. Реализм Пушкина и Гоголя жив, потому что правдив и светел.