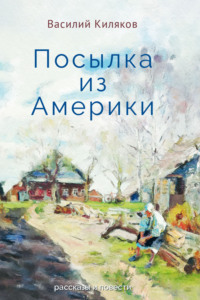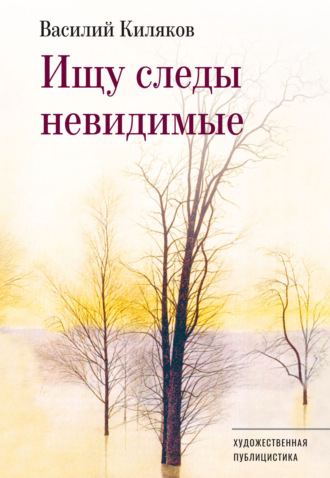
Полная версия
Ищу следы невидимые
Мастера слова, крупные писатели того времени – Лев Толстой, Короленко, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Полонский и Плещеев – все высказывались о «Степи» с одобрением, даже с восхищением, и многие по самой заявке: на обобщениях, на эпику – угадывали в ней начало большой книги. В.М. Гаршин произнёс: «В России появился новый первоклассный писатель!» Таким образом, этот переход творчества Чехова от коротких рассказов с живыми диалогами и анекдотичными концовками к внушительной повести (в перспективе задуманной как роман) условно можно назвать переломным в лучшем смысле этого слова.
Критики по-разному отнеслись к повести «Степь». И теперь среди литераторов даже и средней руки чего только не услышишь: растянутость в описаниях, рыхлость композиции, незавершённость, безсобытийность, отсутствие единого смыслового стержня, выпадающая, недосказанная концовка… И некоторые из упрёков верны (отчасти), но если принять «Степь» как часть задуманного общего плана, всё становится на свои места, и тотчас ясно, что ни один из упрёков не применим, и все они мимо цели, – если «Степь» и впрямь – начало большого романа.
Чехов, удивительный мастер лаконичных заглавий, так и назвал свой труд: «Степь». Всем пишущим известно, как трудно найти и дать удачное заглавие любой своей «вещи», а Чехов, если не ошибаюсь, как бы сказал нам: смотрите на степь на протяжении «истории одной поездки» и увидите всю Россию. Вот степь, только степь и люди, и человеческие отношения – и всё… Серая, «скучная», однообразная степь – и как радуга над действующими лицами повести-романа ангельской чистоты чувство Егорушки, – и эта бескрайняя равнинность, и солнце, и хмарь над ней – олицетворяет не состояние только персонажей, а все характеры и «типы» во всей «повести русской жизни», в пору «безвременья», а и – саму даже Россию, предгрозовую, притихшую… перед грозой. До великих потрясений всего-то два десятка лет. «Северный вестник» – «трибуна русского критического модернизма», а повесть традиционна настолько, что дальше некуда… И вот – малыш Егорушка, единственный цветочек, надежда и опора матери Ольги Ивановны, девятилетний ребёнок – и тот не просыхал от слёз. Степь у Чехова – всего лишь аллегория, долина слёз, юдоль печали, то есть она и есть само бытиё наше. Вглядимся в неё не только глазами Егорушки, а и самого Антона Павловича.
Начиная с мамаши Егорушки и кончая Дениской – действующие персонажи – всё люди недалёкие, на первый взгляд, равнодушные к судьбе мальчика, и когда читаешь, всё-то думается: «Зачем же отправлять Егорушку так далеко? Неужто в уездном городе не было гимназий?»… Ольга Ивановна, мамаша Егорушки, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичёва, «любившая образованных людей и благородное общество», умоляла своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собой Егорушку, отдать в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем едет, «сидел на облучке рядом с Дениской», «чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать».
Да и заплачешь. Прямо за городом начинаются эти «окаянные», хотя и знакомые Егорушке места: «За острогом промелькнули чёрные, закопчённые ку́зницы, за ними уютное зелёное кладбище, обнесённое оградой из булыжника…» Начиная с первой главы и кончая последней фразой, Чехов показал бестолковщину суетной жизни. И заканчивает «Степь» такой фразой: «Какова-то будет эта жизнь?» (то есть – чем она закончится, каков конец-венец человека, прожившего так же неприкаянно и скоро, как миновали они эту самую степь). Вопрос важнейший, «конец- всему делу венец», и, что называется, «не в бровь, а в глаз».
Серость, «сумерки» жизни – всё это в замкнутых, ограниченных пространствах. А тут – даже в широкой, раздольной, «безграничной», как поётся в песнях, обширной, обильной степи – то же самое. Тяжко смотреть на пыльную дорогу, на перекати-поле. Трудно всё-таки было жить и в «той» России, это только теперь кажется, что всё было тогда, при Чехове-то, – как в глянцевой сказке. Сытно, мило… И «хруст французской булки», и «гимназистки румяные»; и милые, очень добрые купцы и столбовые дворяне, «закаты, переулки». А на деле – лошадь на пять-шесть крестьянских дворов и – одна соха на всю деревню (нередко). «Хрустобулочники» не верят, что так оно подлинно-то и было, и напрасно не верят. И того мало: даже в советское время не всё поменялось. В деревне рязанской, под Сасово, и на моей памяти, в 1975 году на пятьдесят дворов было две лошади и три сохи. Трудно было жить, едва ли не так же трудно, как дышать в знойный полдень путникам чеховской повести, – жить душно и было, и есть…
Безалаберность решений и амбиции Ольги Ивановны сродни и всем необдуманным, стихийно принятым решениям, скоропалительным делам многих из нас: когда читаешь – всё думается, как Егорушке: «Зачем были все эти революции в России, и в девятьсот пятом, и в семнадцатом, и в девяносто третьем, зачем и чего ради столько жертв?» Наивно, а размышляешь ещё и так: «…А зачем была «перестройка»?» Если людей невозможно изменить простым «внешним» усилием, нужна не революция, а эволюция. Внутренне переделай самого себя, каждый, тогда и мир изменится. А и сегодня – туда ли, верно ли мы идём, в ту ли сторону – взгляните, остановитесь: «в ту ли степь» движемся все мы, если книги Чехова и Астафьева, Белова и Распутина (да, кстати, и в первую голову – «апрелевцев»-перестройщиков тоже, тех же «прорабов» перестроек, этих, как понятно стало хоть немногим и нескоро, узурпаторов с их придуманными «плюралистическими свободами» на горбачёвский манер, и особенно даже в литературе: книги и Приставкина, и Евтушенко, и Рождественского, и Вознесенского оказались в мусорных контейнерах)… Пачками летят на помойку в кузова «великие» произведения этих орат́ аев. «Напрасный труд удить без крючка и умнеть без книги». «За что боролись», как говорится. При таком положении вещей даже самые радикальные перемены, политические и социальные, никогда и ничего не изменят. Повторю общеизвестное, но важнейшее: окружающая обстановка меняется, но человек остаётся таким же, как был, а часто – и хуже прежнего, – хуже, чем во времена поездки того же бедного Егорушки. Это не сожжение даже, не аутодафе (много чести этим «творцам» перестройки), а – «великое выбрасывание», которое состоялось именно через сто лет после смерти Чехова (по Бунину, которого не чаял ни тот, ни другой!), – в годы, о которых так вдохновенно грезил и создатель грядущих «Окаянных дней». А вот в 1905 году и не снились им наши распрекрасные времена, о которых так самозабвенно (по воспоминаниям всё того же Ивана Бунина, статья «Чехов») – они мечтали вдвоём. И что же видим мы сегодня? Даже и не через сто, а через девяносто лет – бодрый, разбитной, повсеместно разэкраненный поэт, пишущий бойкие фельетоны в стихах на потребу дня, – всё тот же Е. Евтушенко (при рождении фамилия Гангнус)… (Уж он-то прямое отношение имел к «перестройке», смог и он настаивать и принудить префекта Москвы оставить в осадном положении Дом писателей России, при помощи даже горилл из ОМОНа с чиновничьей поддержкой их сверху, – мог он так удумать: морить голодом коллег по литературному цеху, чтобы отнять здание, принадлежащее по закону Союзу Писателей СССР. И, вспомним теперь, кстати, по теме потрясений в России, – как в осаждённом доме Союза Писателей на Комсомольском, 13, – по указке этих горе-степнячко́в – тиранили коллеги коллег. Да так, что – аж на трое суток оставили без хлеба и без воды в осаждённом ОМОНом здании. Ну чем не монголы двадцатого века, чем не степняки?).
Сегодня, пожалуй, и не поверят сказанному, так же, как – не верят теперь в далёкий палеоли́т, как не верят в каннибали́зм, – но было именно так! Такая вот «эволюция» «через сто лет». И до сих пор писатели в междоусобной вражде рассеяны по миру и часто в голоде и в холоде прозябают покинутые, а труд писателя, который для Чехова (и не только для него) был не чем иным, а таинством, не в почёте. Труд этот тяжкий, праведный – поставлен сегодня вне закона. Даже профессии такой нет теперь, не стало: «писатель, литератор» – не палеолит ли, не «Бронзовое» ли тысячелетие вернулось?.. Была профессия, а теперь нет её, не стало. Сколько ещё лет, сорок ли, или семьдесят – нам «голодать-холодать» по пустыне жизни – и писателям, и поэтам. И всё – по вине «кучки» противленцев-монголов, возомнивших вдруг себя «народом привилегированным» среди русской степи, точно и очно знающим, что хорошо, что плохо, и принудивших и многих других думать так же, как им заблагорассудилось. Не грустно ли, что вместо игры на виолончели и душеспасительных спектаклей прошлого века – в наши расчудесные «через сто лет» – книгу низвели ниже шаурмы, чебуреков в лавках приезжих в Москву южан, ниже пирожков с ливером. И непонятно, явится ли теперь тот старшуй, который соберёт людей, как собирают отары в степи мечущиеся ради прибытка варламовы? Примирит ли он всех, и объяснит ли, и объединит ли общей достойной мечтой-идеей. Неизвестно…
Но вернёмся к персонажам «Степи», они объяснят многое в русском и нерусском характере. С самого начала Чехов даёт понять, что слёзы Егорушки – на совести его мамаши, и всё же – может быть, хотя бы дядя его Кузьмичёв знает, зачем он везёт Егорушку? Судя по диалогу, и Кузьмичёв не знает. Везёт не к себе, а к чужим людям, в примаки́ мальчика с решением отдать его «нахлебником», как тогда говорили.
«Хочешь вернуться? – спросил Кузьмичёв. – Хо… хочу, – ответил Егорушка, всхлипывая. – И вернулся бы. Всё равно попусту едешь, за семь вёрст киселя хлебать». Даже отец Христофор – и тот равнодушен, кажется, к судьбе мальчишки – недалёкий, успевший забыть все науки, которые изучал. Он тоже пространно объясняет, сравнивая поездку Егорушки с Ломоносовым: «Так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу». Не понимает Егорушка смысла фраз отца Христофора: «Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу, так-то…» И Христофор этот – насквозь знакомый, теперешний: слова красивые, с глубоким смыслом и вроде бы на места правильные расставлены, а – всё пустые они и равнодушные. Сколько нынче знающих-поучающих, все программы забиты их выступлениями и на TV, и в интернете, а вслушаешься – едва ли не сплошь и везде всё одно: безразличные к человеческой боли, всё-то одни «христофоры», словеса их проходные. И будто бы правильно вещают, и значительно, и веско, а вот – как в жизни… – как быть и что делать с нею, с жизнью этой самой и с судьбой простому человеку, – не ясно. Учат как-то всё «не туда», оттого что не сердечно учат. Нет, пожалуй, Христофор был честней, бескорыстен был, а эти – просто ко́рмятся.
Так сложилось вослед за постсоветским строем в «капиталистическом» нашем мирке теперешнем: кто больше обещает, увлекательнее врёт – к тому народ и склоняется… Смотришь, «слуга народа» или богач, и что-то от нескудных доходов на храм пожертвовал – но так, чтоб непременно – с именем его, жертвователя этого. Да так ещё, чтобы вспоминали и чтобы золотыми буквами на кирпичиках его имя начертано было на века… Храм дело хорошее, а сколько людей бездомных год за годом замерзают на глазах у прохожих без всякой помощи, без сострадания, прямо на улицах и при входе в метро, в самой Москве «Златоглавой». Вот вам и счастье, вот и довольство «через сто лет», чаемые нашими классиками… Около пяти миллионов беспризорных детей в стране – только по официальным сводкам, большая часть – при живых родителях. Так что же это: и сегодняшняя Москва, такая желанная даже и автору повести «Степь» в лице Егорушки: «Посмотреть бы, увидеть её…» – а эта наша Москва сегодня, даже и она – не есть ли всё та же «степь», которую видел и описывал Чехов: никто и никому не нужен и не интересен. Ни дети, ни старики, ни нищие. Только вместо великолепных облаков да звёзд, да туч, угрожающих ливнем на огромных открытых пространствах, в Москве – дома громадные, огни казино да едва ли не всё те же лживые плакаты в духе перестроек и реклам. «Москва слезам не верит», даже слезам и то не верит… Та же «степь», конечно, только строже, безжалостней, пусть и с фонарями, с живой подсветкой, играющей переливами неоновых ламп, пусть и с новостройками… Они лишь для «имущих»…
…И вот везут беднягу Егорушку. Главная цель поездки – шерсть продать подороже, а мальчик – так, попутный груз, обуза. Смотрит Егорушка на степь – и на сердце всё тяжелее, оттого что непонятно: зачем везут? Чехов нашёл бы радостные краски при восходе солнца в степи, но перед глазами Егорушки ведренное утро – нарисованная автором картина, совсем другими мазками: «Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – всё побуревшее от зноя, рыжее и полумёртвое…». Тут и у читателя вместе с Егорушкой падает настроение: утро, блестит роса, краски живые, и вдруг – «всё побуревшее от зноя, рыжее, полумёртвое». Одним словом, прямо как в начале поездки – и вновь заревет́ ь хочется, выжимает слезу чеховское горькое слово, не писательское мастерство даже, а навык точного вид́ ения. И тут уместно упомянуть оценку особенности чеховского таланта от Льва Толстого: «У Чехова своя особенная форма, как у импрессионистов. Смотришь: человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются под руку, и как будто отношения эти мазки между собою не имеют. Но отойдёшь на некоторое расстояние посмотреть – и, в общем, получается целое впечатление. Перед вами яркая, неотразимая картина»[8].
Мазки, краски… Сто тридцать лет и три года, как написано. Ушёл и Чехов, и Л. Толстой, а о мазках и красках лучше Толстого не скажешь. А вот о жизни (да и не только в «степи» – в Москве и в Питере), о бестолковщине и безалаберщине её, об умирающих в столице стариках, детях без родителей, о пьянстве и вырождении народа – как сказать об этом? Где сегодняшние писатели, хоть отчасти похожие на Чехова? И суета: хватать, метаться, перепродавать подороже, искать по безграничным просторам «степи» некоего купца Варламова. Шерсть продавать!.. Как будто ни Кузьмичёв, ни о. Христофор, ни Варламов, ни мы, теперешние, им подобные, ни на что большее и не способны. Потерялись на больших пространствах, одиноки в огромном мире. И сами мы – те же «Егорушки»: едем, куда везут, разве не так? Вот «старик-чабан оборванный и босой, в тёплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке – совсем ветхозаветная фигура…» – да по́лно, ветхозаветная ли? У любого вокзала Москвы оглядитесь – и найдёте сегодня с десяток таких «ветхозаветных чабанов».
Надо продавать шерсть, а Варламова всё не видно – тоже носится по степи, «как угорелый»: скупает шерсть, норовит обмануть, сбить цену. И это знакомо: «Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет? – Никак нет. Приказчик ихний проезжали, это точно… – Трогай!». И понеслись-покатили дальше. Оборванные чабаны и злые собаки остались позади. А что впереди? Да всё то же: серость, скука, тоска, сумерки жизни… Чехова в чём только ни упрекали: «нытик», «хмурый человек», «пессимист». «И слово-то противное: пессимист, – говорит Чехов Бунину. – Нет, критики ещё хуже, чем актёры»[9]. А русская жизнь была такова, что не мог Чехов её писать в оптимистических красках, врать не мог органич́ ески. «Литературное правдоподобие состоит в выборе фактов и характеров и в таком их изображении, чтобы каждый признал их правдивыми»[10]. «Секрет всемирного вечного успеха – в правдивости»[11].
Краски, мазки природы в «Степи» Чехова могли быть и другие – весёлые, жизнерадостные, подающие надежды на довольство. И читать бы, кажется, весёлое – любо-дорого, но кто вправе упрекнуть писателя в выборе средств изображения? Много можно привести примеров и выводов, основанных на контрастах. Скажем, богатая, весёлая картина: дыни, арбузы, помидоры, сады – и нищенское существование чабанов, суета Кузьмичёвых, Варламовых… Люди, их нравы и обычаи, загубленные таланты – всего этого, однако, не затушевать, не приукрасить, если конечно быть неподдельно верным и правдивым. Вот перед нами загубленный талант о. Христофора, вспоминает он: «Усов не было, а я уж, брат, читал по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию и математику, гражданскую философию и все науки». И на что пригодилась умная голова? «Родителей не ослушался», не поехал «в Киев науки продолжать», поскольку «послушание паче поста и молитвы». И незачем плакать Егорушке, надо и ему быть в традиции «послушания» – таков вывод.
Все эти разговоры отца Христофора с его молитвами да беседами «о науках» раздражают. «Науки науками, – вздохнул Кузьмичёв, – а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука». И тут Чехов настолько современен, что чудится, все его герои прямо-таки перешагнули в наше время. Сейчас «купи-продай» вытеснило все науки начисто. Торгаши, их офисы, «маржа́» да «рите́йлеры» кругом, куда ни повернись – «мерчанда́йзер», «суперва́йзер», «ме́неджер» (т. е. приказчик) и – торгашество, всё-то одно лишь торгашество; «мильён меняют по рублю». И – сей «бизнес» сожрал и науки, и искусство. Вытеснил и писателя на обочину. Чистоганный рубль – ладно, но нет, ещё и того хуже – доллар, евро, гонка за прибылью, за сверхприбылью – без конца и без начала А смысл? «Вытесним культуру на панель», – так слово в слово объявляет не кто-нибудь, а сам министр культуры. Кажется, эта погоня за призрачной мошной́, продажа шерсти – как самоцель и самой даже жизни – тоже пришла к нам из чеховской, из той же дичайшей «степи» бессмысленной. Ну, нажились, мол́ одцы, а дальше-то что?
Егорушка смотрит на мир с детской непосредственностью и учится жить; он не всегда и не во всём понимает взрослых. Учится видеть прекрасное и ненавидеть несправедливость – вон как храбро вступился мальчишка за старика Емельяна. В будущем ему суждено пережить предательство друзей, почувствовать равнодушие или тягостное сознание несовершенства своей жизни, личности. Но всё это только замысел автора, он так и остался неосуществлённым. Кажется, Чехову и самому тяжело было продолжать эту безнадёгу, но всё можно додумать, досказать. А пока Егорушка едет по степи, где простора так много, что маленькому человечку нет уже и интереса ориентироваться даже ради спасения собственной жизни.
Пол́ день, путники расположились у ручья, стали закусывать. И тут тоже как-то безрадостно: осока, жаркое солнце, слепни, мухи. И Дениска – жених по возрасту, умом – мальчик… Вся эта прошлая жизнь как будто из сегодняшнего дня, за исключением брички и пары лошадей. «Закусивши, Кузьмичёв достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке: – Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили». В мешке была шерсть и большая сумма денег. Егорушка об этом узнал только на постоялом дворе Мойсея Мойсеича.
Отца Христофора заботят лошади: «Поглядывай, чтоб никто коней не увёл! – сказал он Егорушке и тотчас заснул». Как говорится на святой Руси: «Спишь – беду наспишь». Во сне храпят Кузьмичёв, о. Христофор, и помимо того мальчику только слышно, как кликал чибис, «мягко картавя, журчал ручеёк». Степь как бы затушевала оригинальность русской души. Скучно Егорушке. Все улеглись, Дениска, наевшись огурцов с хозяйского стола, тоже лёг на припёке «животом вверх и тоже закрыл глаза». В лиловой дали холмы, небольшой посёлок из пяти-шести дворов. «Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно посёлок задохнулся в горячем воздухе и высох». Нет, не вымер поселок. Песня послышалась Егорушке. А песня – душа народа. О чём пела женщина? «Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли. Точно над степью носился невидимый дух и пел… В своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце сожгло её понапрасну; уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если б не зной и не засуха… Ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…»
Это степь поёт невидимо, едва слышно – и это, несомненно, и сама Россия: голая, выжатая и выжженная, но совершенно не виновная, и покорная, и тихо жалуется-молится она. Кому – небу, солнцу, Богу?.. Россия… С безнациональными теперь «россиянцами» молитва не та,́ что прежде. И без главных ценностей и традиций, отнятых двумя революциями с интервалом в семьдесят лет, войнами, неумными и безответственными правителями, жуликоватыми чиновниками, и всё с тем же нищим, при громадных богатствах страны, – народом. Всё это впереди у мальчишки, обо всём он узнает в свою очередь, а пока – Егорушке всё интересно. Он нашёл того, кто пел: «Около крайней избы посёлка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под её решета вниз по бугру лениво шла белая пыль». Пошёл Егорушка к бричке – и вновь «послышалась тягучая песня». И отчего-то «…к Егорушке вдруг вернулась скука», и само время как будто застыло и остановилось, и показалось, «что с утра прошло уже сто лет».
Пока Егорушка с кучером Дениской скакали, ловили мух и кузнечиков, о. Христофор и Кузьмичёв спали. Это тоже – спать после сытного обеда – русская черта характера. «Отец Христофор, вставайте, пора! – заговорил Кузьмичёв встревоженно. – Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!». Когда ехали, видели то же самое: воздух застывал от зноя и тишины, «покорная природа цепенела в молчании». Когда же солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух «не выдержали гнёта и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго».
Читатель и герои в каком-то тревожном предчувствии: вот-вот настанет гроза. Прогремел гром за холмами, подуло свежестью. «Хорошо, если бы брызнул дождь!» «Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль – и опять, как будто ничего не было, наступила тишина». Нет, ничего не изменилось, и «одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу». Наступил вечер, как в «Книге Бытия»: и был вечер, и было утро, день пятый… «Сумерки». Сумерки русской жизни. Сумерки и в степи. А и в сумерках всё то же: постоялый двор, даже и не двор, а дом неогороженный, «жалкий вишнёвый садик с плетнём» – словом, степь, чего там, степь и степь…
Комический Мойсей Мойсеич – себе на уме, как говорят, всё с той же заботой: «урвать»; «бедная, жалкая, вонючая комната, широкий диван с дырявой клеёнкой да три стула». Серые стены, потолок и карнизы закопчены. Гравюра на стене с загадочной надписью: «Равнодушие человеков». И вопросы всё те же: «Проезжал тут Варламов или нет?» Разговоры о деньгах всё не сходили с языка. «Ах, деньги, деньги, – вздыхал отец Христофор, улыбаясь. – Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу». Вот смысл существования «человеков»: обеспечить себя и потомство, и тут о. Христофор не ушёл от «суеты сует». А Егорушке спать хотелось. И лишь толстая еврейка не обошла вниманием Егорушку. Она «поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный мёдом», а потом «полезла в комод, развернула там какую-то зелёную тряпку и достала большой пряник в виде сердца», хотя у самой шестеро детей, и «если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра». В комнате, где под сальным одеялом лежали дети, хозяин говорил с хозяйкой по-еврейски. О чём же? Легко только догадаться: нужда, суета, деньги. Даже не зная еврейского языка, можно понять этот разговор: «Галл-гал-гал-гал, – говорил Мойсей Мойсеич. – Ту-ту-ту-ту», – отвечала ему еврейка». Между тем в комнате для приезжих Кузьмичёв считал деньги. Их было много, куча…
Самым интересным персонажем я вижу прислуживающего приезжим Соломона. Соломон – не русский тип, фигура эксцентричная, с одной стороны, – и он тоже ведь – дитё Божье. С другой стороны – «дитя антихриста», «дитя ехидны». Кто он для Чехова – так и осталось загадкой. Не должен ли был встретиться в будущем романе «Степь» с этим самым Соломоном в кожаной куртке и с маузером юнкер или поручик Егорушка после окончания учёбы в Корпусе, как знать. Странный этот тип, как бы и не чеховский, выпадает из общего описания «жизни-степи» русской. Выпадает и до сего даже дня. Об этом Соломоне стоит поразмыслить: тип – не тип, словом, он и сам отвечает на заданные вопросы. Отвечает уклончиво, как отвечал на первом допросе в полицейском участке, взятый за убийство упомянутый прежде бомбист «Степняк» (Кравчинский).
«Что я поделываю? – переспросил Соломон и пожал плечами. – То же, что и все. Вы видите: я лакей. Я – лакей у брата, брат – лакей у проезжающих, проезжающие – лакеи у Варламова, а если б я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем». Что ж, весьма красноречиво сказано, и многое обещает. Этот Соломон по глубинному смыслу своего эзоповского языка, по подтексту, может соперничать со Смердяковым. Это – если не родны́е братья, то двоюродные. Верно, что и у Соломона была нелёгкая судьба и интриги, да какие – и уже едва ли не при его рождении. Странно: в степи, и именно в степи (что же он там поделывал, уж не скрывался ли?), в скуке, в сером однообразии, в этих сумерках – и вдруг такая личность! Ни Отец Христофор, ни Кузьмичёв не поняли Соломона: «Как же ты, дурак этакий, равняешь себя с Варламовым? – Я ещё не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, – ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. – Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке». И вот тут-то сегодняшний читатель окончательно понимает, с кем он имеет дело. Нет, это не Смердяков. Смердякова рядом с Соломоном не поставишь: «мелко плавает». Деньги он спалил в печке, вера ему не нравится, плохо отзывается о Варламове, о котором иные-прочие говорят чуть не шёпотом из уважения к нему, к Варламову; на гостей смотрит с усмешкой. Никто не понял Соломона, а в глазах Егорушки он был похожим «на что-то такое, что иногда снится, – вероятно, на нечистого духа». Блюститель веры христианской так и сказал о Соломоне: «На человека не похож»… «Забывается, – говорил Кузьмичев. – Губитель, и много о себе понимает». Мойсей Мойсеич говорил, вздыхая, про своего брата Соломона: «Ночью он не спит и всё думает, думает, а о чём он думает, Бог его знает. Подойдёшь к нему ночью, а он сердится и смеётся. Он и меня не любит… Ничего он не хочет!» Хочет, и известно чего – теперь известно, необходимо поправиться. И напомнить: экий тип дан Чеховым в 1888 году, да ещё и до поездки на Сахалин. Где же Антон Павлович видел такого, или выдумал? Вряд ли. Уж не с каторжан ли списан, не с социалистов ли? И как он отделил заранее Мойсей Мойсеичей от Соломонов? Тут нечто даже пророческое. Хоть на деле и до, и после «Степи» Чехов сторонился этаких предреволюционных героев. Не в пример, скажем, Куприну, Грину, Горькому или Л. Андрееву. И это странно. Тема и персонаж одними из первых найденные им, Чеховым, оставлена впоследствии. Занимавшие и увлекавшие читателей идеи того времени, выигрышные для писателя и вызывавшие всё больший интерес в прессе, в разговорах, и в русле течения общественной мысли многое меняющий тип этот – едва прорисован, «этюдно» намечен – и брошен. Вброшен… А какой популярности на этой теме добились иные! Что же тут, не чеховский ли такт и деликатность? Можно, пожалуй, понять, сравнивая рассказ «Скрипка Ротшильда» Чехова с «Гамбринусом» Куприна. Но и опять – разница в написании, в датах выхода в свет этих рассказов даёт сто очков в пользу Чехова.