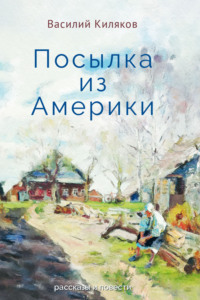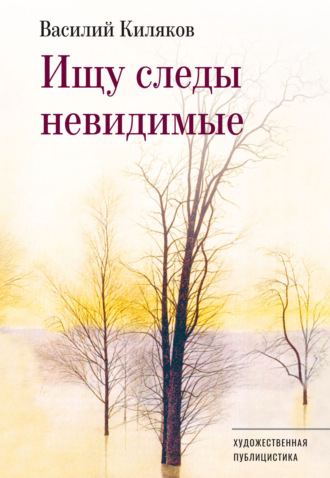
Полная версия
Ищу следы невидимые
«Печально я гляжу на наше поколенье!», – сказано великим поэтом. Но всё то, что печалило его, повторяется и сегодня, причем с особенным поворо́том, словно с усиленным «гидрорулём». Этот поворот руля так крут и резок, что – механистической силой своей на всей скорости виража современности – заставляет нас прикрыть глаза и поверить, что уже последние дни доживает «иная школа», корни её – не в представлении, не в традиции: оттого и не читают. Не́когда (будто бы) читать, надо спешить, рулить рулем с усилителем, успевать всё, накапливать, в том числе и сущую белиберду – а «культуру повышать» современным способом: на биеннале, в Сахаровском центре или Винзаводе, «центре Гоголя»… Вот уж где спектр!
Влияние чистого русского слова на душу огро́мно, даже сегодня, в век «зрителей», «рули́телей», а вовсе не читателей. Для того чтобы читать, нужно хотя бы уметь держать внимание. Смотреть фильмы, диски, клипы – гораздо проще. И вот, изобретено «3-D», на подходе «4-D»… Тоже изделия, осколки постмодерна, но только – в образе, в кино, этакие «матрицы», рассчитанные на эффектную прямолинейность. Но ведь и «Матрица» – кино, так прельстившее многих, – было написано сценаристом, от руки, и – очень похоже, что «идейно» списано с изысканий и доду́мок русского философа Федорова Н.Ф. с его «космизмом».
И всё-таки необходимым кажется разговор о том, чего не даст и не может дать никакой, даже самый мастеровитый клип, никакой эффект голографии или 3-D (голографическим называют физический и химический состав, сохраняющий целое рисунка в любом случае, на сколько бы частей его ни делили). Итак, никакой эффект не даст ни при каких условиях, сколько бы денег ни заплатили и в какой бы новейший кинотеатр ни завернули, какого бы тисненого переплета, хоть золотом, диск «DVD» или книгу ни выбрали, – не даст он того наслаждения, которое дает сло́во. Важен не антураж, пусть и самый удивительный, – важна суть или, как её еще называют, «внутренний мир». Фильм ли, холст, книга, скульптура или поэзия – знания не должны быть накапливаемы только лишь разумом, как копилкой, важно всегда в искусстве, как нигде, целомудрие. Разум должен быть возожжён сердцем, вот и весь секрет подлинного, предметного ви́дения. Никакой калейдоскоп никакого тысячелетия не смог бы дать того «прогресса», который дал Человек-Слово, Богочеловек по причине Его горения, сердечности. Вот почему, язык, сказки и притчи, которые человек слушал с колыбели, младенцем, тот язык, с которым возрастал, – никаких фокусов не предполагает, а предполагает чувство, сочувствие. «Упало яичко и разбилось…» – и кажется, всё просто. Прост «Пророк» и «Анчар», «Памятник», пусть и переложенный Державиным или Пушкиным; но поменяй в этой поэзии «архаизмы» – те, что от сердца, и гениальные творения на века́ – увянут мгновенно. Отчего? Да попросту – оттого, что корни глубоки. Они – в недрах народного мыслечувствования. Так глубоки, что отсечение любого из них невозможно, как в лексическом строе, так и в нравственном, и в эстетическом. Отруби,́ искази́ модерном – и вырастет гибрид, «не то сын, не то дочь» – а подлинно, «невед́ ома зверушка». Или – только попробуй измени,́ рискни,́ высокий церковно-славянский языковой строй в исповедальной речи святых отцов на уличный, заурядный – и вот уже не будет той глубины даже и в поразительной чистоты и си́лы покаянном каноне Ефрема Сирина, высоким стилем, языком написанном…
А Василий Макарович Шукшин – это и есть Школа. Школа с большой буквы. И никакими усилиями русскоязычных не погасить величия этой Школы: чтобы принадлежать к ней, – нужно иметь досто́инство.
Для чего же с непонятным упорством, достойным лучшего применения, сокращают в школах часы русского языка и литературы?.. И начинает вериться, что и в Дагестане, по «ЕГЭ», набирают при сдаче экзамена в два раза больше баллов, чем в Москве и Петербурге… Хочется спросить по-милюковски: что это, глупость или измена? Но сегодня не ноябрь 1916-го года… Православной вере наших отцов и дедов – отказано даже в виде факультативного курса. «Светская культура» или «История религий» – пожалуйста. Родителей вызывают для подписи «листа согласия», выбор невелик: «Светская культура», «История религий» и «Православие». Когда я попросил обучать моих детей в школе Вере Православной (которая тоже была в списке), мне ответили: желающих этого «факультатива» настолько мало, что «мы бы не советовали… один-два ученика». Какая странная демократия! Но разве можно понять нашу литературу: Чехова, который выстроил церковь в Мелихово и сестры которого пели на клиросе, Аксакова, Тургенева и Шукшина – без укорененной в сердце веры? Не секрет: даже те, кого признали «гумани́стами», по глубинной сути, на деле, а не по форме в России (писатели и, тем более, философы), – православные, славянофилы. Или тайна и сегодня, что философия и литература – русская классическая литература Серебряного ли (отчасти), Золотого века – две служанки именно Вере Православной?
Я возвращался домой, вспоминая предостережения Астафьева, Курбатова, Шукшина… И даже остановился от воспоминания шукшинского имени! Легко представить себе, как отнесся бы к такой «демократии» Василий Макарович… Вся литература о современной деревне – и Шукшин, Василий Белов, и Валентин Распутин в этом ряду едва ли не первые – честная, бескомпромиссная. Кроме того, она ярче, самобытнее, «кондовее», чем городская. Это тотчас, с первых слов любого рассказа этих авторов бросается в глаза, добирается до сердца. Характеры живее, разнообразнее – у нынешней «новой прозы»? Конечно же, нет. Вот замечательные писатели, взять любого: Ф. Абрамов, В. Личутин, В. Распутин, П. Краснов… – авторы жили в селе, знают не только быт, но и всю подноготную не понаслышке (второй план своих сюжетов они выстрадали) – и знают так, как это могут знать только в деревне.
…Я сегодня живу в городе – и что я знаю о людях, даже в том подъезде, в котором живу? А в соседних домах?.. Могу сказать только нечто общее, то, что знают многие, если не все. И это при том, что «второй» моей натурой стала наблюдательность, которая мучает и, одновременно – отрадна. Чаще – невольная, незаметная для себя, – пристальная наблюдательность, которую часто находишь именно у Шукшина, Бунина, Чехова и которая роднит с ними и сближает со всей русской литературой.
…Время нынешнее – смутное и ненастное – будто предсказано всем творчеством В.М. Шукшина. Он чужд «модерну», прям и (на первый взгляд) прост. Второй план его прозы так и остался невидим, видят лишь эксцентрику. Молодёжь нынешняя и вовсе видит нечто саркастическое или забавное… Вчитаемся глубже в его рассказы, попробуем проследить, понять, что говорит он всем нам, читателям своим, о чём напоминает неким тайным, скрытым – именно скрытой, теневой стороной многих рассказов.
Шукшин задолго до своего ухода предчувствовал, что в недалёком будущем люди станут хол́ одны, «теплохладны», неинтересны друг другу. «Постмодерновый» нелепый взгляд на действительность: словно предвидел он иные, новые времена. Сказка «До третьих петухов» – вся об этом. Неинтересно станет читать, неинтересно слушать – по Евангельскому Слову: «…и охладеет Любовь…». Неинтересно жить – не только оттого, что скучно станут писать, как он предвидел, и о незначительном, о маловажном к тому же – а ещё и многое перевернётся с ног на голову. Сегодня мы видим «придумки», намеренный уход от действительности, замену насущного таким обилием «фэнтэзи», индифферентной беллетристики. Мутит от навязчивого присутствия в нашей «либерратуре» легковесных, причудливых и нелепых пересмешников, каких-то «попаданцев» (во всех веках и временах потешно заблудших)… И всё-то постмодерн идёт сплошной, часто скучнейшей полосой, и оттого что навязчив и беспринципен, списан с западных опусов – он ещё более ничтожен и малозначителен. Часто – дико, даже дичайше, без меры – прихотлив и причудлив. Где же сегодня сама́ литература, предметная, промыслительная, почему она не в чести, – ведь именно такой, «той», подлинной литературой: Достоевским, Толстыми, Шолоховым… и В.М. Шукшиным – ими и славна Россия? Как и когда случилась подмена? Если детектив, то он почему-то – «иронический». Но может ли быть «детектив» «ироничным», не кураж ли и здесь вместо выбора в ту или в другую сторону: или игра, или навык дурить читателя, не смысловая ли подмена в самом даже корне – понятия? Оксюморон: «иронический… детектив» неприятен даже на слух… А если учесть непредставимую даже степень вторичности и плоской наивности нынешнего «вампиризма», идущего от давней (опять-таки, западной) традиции романтизма, который и не скрывает своего богоборчества, не вред ли душе такая забава? Или такое сплошь неудобоваримое «фэнтэзи», которое́ просто за гранью нелепицы, и – за полслова, за ползамысла даже его никто не может поручиться, то есть – глухая непроницаемая чепуха… Но вот – выходят и активно предлагаются читателю тома-кирпичи этих самых «фэнтэзи», и их раскупают, потому что они навязываются. Зачем? Премии же за «Большую книгу» сегодня в основном раздают за измышления или забавные «исследования» биографий, а вовсе не за собственно литературу. Быков о Пастернаке, Варламов о Горьком, или от Басинского «Лев Толстой: «Бегство из Рая», о Ленине Лев Данилкин… Премии-то на демократическом берегу ёмкие, и – были с лютых 90-х, и есть, а где же литература? Неинтересен стал литератору человек, не́ о ком, не о чем стало писать? Но настоящим большим писателям всегда был интересен именно современник. А живая проза и сегодня дышит, она (наперекор всем запруд́ ам) есть! Жаль только, что живёт она теперь всё больше в глубинке России, и это несомненно – а вот кто её оттуда выведет, кто представит её читателю? Критика сегодня задушена, превратилась в заказные ругань и восхваления, литпроцесс заменили голословной блогерской помойкой. Сколько просуществует эта подлая подмена, что вот будто бы «Петровы в гриппе…» или «Русская канарейка» (почему не палестинская, непонятно) – и есть самое нужное, значительное, ибо – объявлена эта мишура в мешанине русофобии, ни много ни мало – аж… «национальным бестселлером»?!
Так что же: человек и впрямь скучен, не нужен – ни «маленький человек», ни большие подвиги народа – не интересны теперь им, обильными грантами отмеченным писателям, не единожды приглашённым «на разговор» к президентам, а только одно и то же: «подвалы НКВД», которые в зубах навязли, от которых скулы ломит, – только это? Или игнорирование подлинного, природного, духовно здорового, сострадательного – от сплошной бесталанности? Или и то, и другое вместе? Да и пришлые всё это люди, душой не русские, являющие нам свою «самодостаточность», рассчитанную на пиар и на аплодисменты прежде всего «своих», своей «тусовки». Им, будто бы «независимым», категорически не «почвенникам», «перевирающим и передирающим» русский язык, саму его суть, нелепо и намеренно, – что́ им с того «человека»-современника, о котором столько и – талантливо – написано, что им с того «народного подвига»? «Перекати-поле», что́ оно знает о корнях даже и своих, ценит ли оно эти отпавшие за ненадобностью корни? Им любая пустыня хороша. Оно, это причудливое растение, «прыгает, как мяч», по слову А. Фета, где-нибудь – да и прибьётся… И премий сорвёт от своих, от лобби своего. И чем дальше прибьётся, тем гуще, там наглей.
Но Россия – сама «корневая система» и есть. Россия – симбиоз наций и культур, взаимно обогащающих и дополняющих друг друга, не нужно суживать пространство (хотя бы культурное) намеренно. Даже краски на палитре не кладут кое-как, «наобум Лазаря», а тем более – на холсте многонацинального государства. Русская (в противовес русскоязычной) литература всегда была делом совести. Вспомним раскаяние шукшинского Егора (Горе) в «Калине красной»: покаяние его – белая церковь на втором плане… Церковь – утонувшая, заброшенная – и при выходе его, освобождении от уз кутуз́ ки… Да и последние кадры, просьба его: «Воды…» Не крещение ли подразумевалось, а с ним – и отпущение умирающему грехов? (По вере и в уповании – изменить жизнь и измениться – эта исповедь Егора после встречи с матерью именно у стен белоснежного храма). И не это ли тот – «второй план» всего творчества Василия Макаровича, о котором умалчивают, котор́ ый замалчивают?..
Перечитывая В.М. Шукшина и измеряя прошлое как бы его горьким взглядом и его творческим и личностным «аршином» и – сегодняшнее время, ясно видишь, что требования к языку нынешних авторов до смешного невысоки. Книги – пустые, огромные фолианты – по тысяче рублей штука, а прочитать нечего. Ну, а как же не ставить такие ценники, ведь нынешние новые, новоявленные «великие» их лично подписали!.. «Срез́ али» они классиков одним тем уже, что подписанные книги их с лотков продают, и тем потеснили они «соцреалистов» – так им, бедолагам, и надо… Спрос же на подписанное, даже на кизяк отлитературный – искусственно сотворяется через эстраду, подмостками театров сатиры, скандальными «лекциями» и прочей мишурой.
Между тем в корне неверно, будто бы спрос, и только спрос определяет предложение, что раскупаемость и есть – мера всех вещей. И объяснение простое на примере: вот Америка страдает тотальным ожирением и иными страшными болезнями от пользующегося спросом фастфуда, попкорна, к которым так привыкла. Кто формирует этот «вкус» и «спрос»? Кто приучил янки к фастфуду, мусорной пище? Кто подсадил толпу на «бургеры» и кока-колу? С какой целью? То же и в литературе: вовсе не критерий этот самый пресловутый «спрос» и в сфере книжной, издательской в том числе; предложение вовсе не определяет спрос, не формирует читателя, не «культивирует» его взгляды, его пристрастия и воззрения, а навязывает теперь, приучает, растлевает. Литература – вовсе не та, что декларируется, как например, подписанная авторами чародеев «остромовых», козыряющих «интеллектом». «Нахватанность пророчеств не сулит», – мудро заметил однажды по подобному поводу М.П. Лобанов. Последовательные инициативы по внедрению в массы этаких «бестселлеров» от мнимых «интеллектуалов» продуманны и вовсе не бескорыстны. А ведь и то: зачем допускать коренную предметную прозу, к чему оставлять «русскому индейцу» – собственный исконный язык, зачем ему, аборигену, великая, на традициях основанная его литература? Он-де и не заметит подмены. Прямо-таки «Ноль-ноль целых» Шукшина, вживе! И когда я перечитываю шукшинские рассказы, повести, сценарии, каким же далёким и одновременно близким предстаёт он мне – старший товарищ по годам, по чувству, по совести, по умению видеть и сострадать именно современнику! До сердцебиения. Зачем же нам предлагают чуждое (а иные уже и осуществляют, настырно подталкивают: к походу совсем в другую сторону – противоположную той, куда стремился всей жизнью и всем своим талантом Василий Макарович Шукшин)? Нам по дороге с ним.
…И какая «экспрессия», какая живость описаний. Если есть у Василия Макаровича в его прозе «картинка», то она – всегда яркая, играющая, и всё в действии. Роса, луна, солнечный закат в шукшинских текстах – они тоже оригинальны по чувству и языку, а главное – и это особенно присуще таланту писателя – по настроению. Оригинальность, разумеется, но и мера таланта тоже: всё хорошо в меру, по пословице «Душа меру знает». Много я встречал подделок под оригинальность, но подделок всегда плохих: повестей, даже романов. Как метко сказано у Ю. Кузнецова, «Я один, остальные – обман и подделка». Это – об эпигонах, что шли толпой вослед и Шукшину, но где они теперь, кто их помнит? Напоминать фамилии не стану; столько их – все заблудились, а он остался и останется. Его рассказы можно разделить на две группы: городские и деревенские. Деревенские (кажется) понятней и ближе. В деревенских – два типа людей: одни смогли уехать в город, другие не смогли (деление это, конечно, весьма условно). Но всех их, этих городских и уехавших, роднит одно: у них болит душа. И за них, за персонажей – и у читателя тоже – болит душа, не может не болеть. Скажут: сколько их написано, таких рассказов о «простых душах», начиная с француза Гюстава Флобера, повесть которого, предварившая «Госпожу Бовари», так и называется: «Простая душа». Ан нет, нужно было почувствовать, открыть миру именно эту боль, русскую – национальную черту, которой томился Шукшин, именно эти переживания осмыслить. И здесь автор тоже ни на кого не похож, и здесь он – опять-таки первый.
…Бестужев-Марлинский впервые ввёл в обиход само слово «рассказ», поместил его в подзаголовки. Пушкин назвал «Занимательными рассказами» повесть Н.Ф. Павлова. В истории русской литературы – ка́к только ни изображали крестьян: были «богонос́ цы», «сов́ естливые» – Глеб и Николай Успенские описали их… Были мужички-подлиповцы, мужички-странники – и у Н. Слепцова, и у И. Тургенева – те, что «могут и Бога сожрать, дай им только волю», – по словам классика… Был Писарев, утонувший молодым, двадцати восьми лет, – но, несомненно заметный своей «боевитостью», стремлением всё пустить вразнос и отрицавший душу как таковую, гипнотически повлиявший даже на М. Горького.
До Горького мужику-крестьянину всё же сочувствовали, мужика любили. Мужику «мозоль в пятку, точно ладанку, вставляли, – упрекал Сергей Есенин в своих размышлениях в письмах, – и любовались ею»… После Писарева, этого «литературного крёстного» Горького (Максима Пешкова), о мужике стали писать так, что впору стало ненавидеть, презирать мужика. Словно бы мстили – иные притворно, просто потому, что так стало модно, иные по ненависти. И вот уже читаем, как «бомж» – босяк Челкаш, по Горькому, мог украсть мануфактуру – и, с широкого плеча, снизойдя к бесхарактерному крестьянскому парню, – подарить, отдать безвозмездно тому всё добытое им, бося-ком-Челкашом. Горький не знал крестьян. Бродяги и пьяницы у него раскрашены странными яркими, почти флуоресцентными цветами, с пятнами и блёстками, с некоей претензией на исключительность… Прославление волюнтаризма, неприкрытое ницшеанство сквозит и в горьковском романе «Мать» – романе крайне слабом в художественном отношении, но, по Ленину, «своевременном»…
Были и другие, «развенчивавшие» мужика-крестьянина, из тех, которые торопились разбить «становой хребет» России (как в 1990-е очень верно скажет Б. Можаев). Писа́ли, в основном о тех, кого не знали, и Петров-«Скиталец», по-первобытному бродивший с Горьким и с гуслями вдоль Волги, и Л. Андреев. И это видно тотчас по опубликованным им рассказам: «Челкаш», «Море смеялось»… Потом этих самых «челкашей» Иван Бунин выведет в своих дневниках, в «Окаянных днях». Он при первой же встрече назвал Горького «некто в помятой шляпе» – но и он (даже Бунин!..) не представлял, не предполагал, какие настроения созрели уже тогда, в 1905-м!..
И это отношение – брезгливое, от сарказма и гордыни города заразившее литературу ещё тогда, от той давней поры до нынешней, и то настроение – перенято и подражательно используется, и сегодня особенно интенсивно (быть может, и проплачено тоже грантами да стипендиями…). Ибо корни держат, питают, укрепляют в почве. Бес-корневой «демократизм» либералов – космополитичен в плане: «где спать лёг, там и родина». Вообще же русский дух ускоренно изгоняется из общественной жизни, особенно из литературы, кино и театров все три прошедших десятилетия. Такой атаки на национальное, корневое не было даже при Суслове. И дело не только в том, что русской внешности, русского постав́ а актёров, писателей и поэтов всё меньше на наших экранах (не случайно), – то же и на выступлениях в библиотеках, залах для встреч с читателем, зрителем, – а сам образ мышления девальвируется. Сгорбленные, несуразные актёры влезают в образ Корнилова или русского императора даже, пытаются втиснуть себя и своё местечковое мышление в пространства русского родового дворянства, в пределы поистине гигантские, непосильные этим «продюсерам»-насмешникам над русской культурой и по мелочному их воспитанию, и самой сутью мышления их непознаваемые. Знаем, помним: было и в девяностые и такое «зачало» – кто выпишет крестьянина скотиной, да не раз, и не два, а хорошенько опозорит (весь Пьецух, Войнович и прочие гешефт на том себе делали) – те получали годовые стипендию от «своего» СРП, и молодые особенно. Что же мы имеем сегодня – что ни книга о деревне – то зарубил́ и топором предпринимателя или на вилы подняли. Изнасиловали или сожгли в селе – по книгам этих русофобов – дело и вовсе обычное… Они и в деревне-то не жили. Разве наезжали на пикники. А мути подняли – не продохнуть. Почвенники переживали этакую «подачу» материала от супротивников по-своему, по-особому, очень болезненно. Мелкотемье, надуманность, ложь на каждой странице, а в кино – едва ли не в каждом характере, в каждом образе. До сих пор не может смириться с такой подачей русского характера и автор этих строк. Вот как писал мне Валентин Яковлевич Курбатов 20 июля 1999 года об этой «Руси уходящей», о деревенской прозе, тоже, по-видимому, скорбя всем существом: «Дорогой Василий! Я прочитал Ваши рассказы (деревенские. – В.К.) и вполне понимаю Ваше смятение. Так подметают двор, когда уже всё убрано. Это уже собирание остатков, завтра на этой «территории» будет чисто. Как-то В.Г. Распутин очень точно сказал мне: «Я ведь всё время вынужден в своё тесто дрожжец подбрасывать, чтоб всходило. А у Виктора Петровича (Астафьева) оно само из квашни прёт, и ему всё уминать приходится, чтобы через край не валило. Правда, это уж давно сказалось. Теперь и Виктору Петровичу приходится дрожжей прищипывать. Сегодня всем деревенщикам так. Деревня уходит стремительно, вытесняется «хожалыми» (персонаж моего городского рассказа, приехавший из деревни, «вписавшийся» в город. – В.К.), а новые родиться не торопятся. Как и вообще русский человек сегодня. Простор сегодня «интеллектуалам», записным книжкам да мещанам, а здоровому прозаику с чувством живого – труднее всех…» («Мещане» нынешние из грязи в князи угодили совсем неожиданно, но просторно им было всегда).
А писать правду, действительно, труднее всего. И не потому, что напечатай правдивую книгу в «АСТ» или «ЭКСМО», – не станут читать, а потому что разрекламированы совсем иные «писарчуки»́; «запущен» в оборот – и давно работает – совсем сторонний, не русский механизм, другие имена на слуху, раскрученные (балалайки во всей прелести её – за орущим рокером или «диджеем» не услышишь, как бы прекрасно она ни звенела). Потоки эти «подводные» не раз описаны тем же Олегом Павловым и, отчасти, но очень осторожно, с оглядкой – Вячеславом Огрызко. Возьмём шорт-лист премий: это всё те же «премианты» и «стипендиаты», о которых я упоминал выше; они, подражая, выстроились дружно за «писателями» Коэльо, за С. Кингом, год от года одни и те же имена… Фамилии – нерусские, похожие на шуточные, выдуманные или на клички.
Могут возразить, мол, в советской прозе «развитого соцреализма» тоже наговорили много лишнего, написали о горемыках-жуликах, о страдальцах и «босяках» нового типа. А вот у Шукшина – то, да не то, и «болит душа»… А почему болит – ни один мудрец так и не дал ответа. И сам автор не сказал. Но есть прорывы, подлинные открытия, и они – в покаянии героев у автора. Покаяние же по вере православной – одно из главных условий спасения души, следом только смирение и послушание. Читаешь – и чувствуешь, как у него самого, у писателя, у Мужика-Крестьянина с большой буквы – болела душа. А иначе, зачем бы ему и говорить такую фразу: «Что с нами происходит?..» Фраза эта так проста, так часто повторяема была (особенно во времена «перестроек»), что всякий пройдоха норовил ею воспользоваться. И тем очевидней только обострялась проблема человека. «Что с нами происходит?» – повторяли многие всуе; а в душах своих так и не разобрались, даже оставили, бросили эти попытки – «разобра́ться».
Так что же с нами происходит? С душами людей нераскаянных, завистливых. Почему тех воров, что по мелочам тащили, тогда, в 1980-х, называли «несунами», а крупных воров сегодня – «олигархами» величают? Латифундии прикуплены ими и огорожены – с охраной, не подойдёшь. Или мы вернулись в Средние века, вспять потащились? Прелюбодеяние, блуд – называют нынче «гражданским браком»; «прибыль» – профицитом (подразумеваемую здесь с обманом прибыль – «маржой»)… И так во всём. Ничего не изменилось с тех, восьмидесятых, – разве что усугубилось. «Вот она и болит, душа-то, что она, пряник, что ли?» – говорит один из героев рассказа Шукшина супруге. И что же он получает в ответ: «Пузырь… Душа у него болит…», и т. д.
Шукшин с пристрастием и зоркостью увидел наши сегодняшние проблемы – заранее, на расстоянии сорока-пятидесяти лет. В его рассказах много персонажей, ушедших в города, но до города так и не дошедших. Они, эти будто бы простые, на первый взгляд, ущербные натуры, даже «с чудинкой» (один рассказ так и называется: «Чудик»), – ушли «простые» «чудаки» в города, устроились там: кто в бараках с клопами и общими коридорами да туалетами, а кто и того хуже. Жили с драками, с плясками под гармонь, с заёмом «трояка» до получки – но по сути своей так и остались деревенскими, а значит – с душой. Были и другие – те, что заимели квартиры, «отдельные секции», выучили детей в университетах, накупили столько вещей, что страшно показать посторонним (недолго и погореть), ибо ведь не все же «эти, с юридическим образованием – сопляки», которых шукшинский персонаж Николай Гаврилович обводил вокруг пальца (рассказ «Выбираю деревню на жительство»), – да, были и другие. И жили, и воровали, и квартиры правдами и неправдами приобретали – не для себя же, для детей. И на глазах детей. И по-своему обосновывали им, детям, такие свои устои жизни. А те уроки в свою очередь усвоили. Нацеленность на «отдельные секции», ещё лучше – на квартиру, да чтобы жить да копейку зашибить – это вам не «челкаши», тут смотри дальше, шире смотри, выше бери. Корысть – она воспитывалась, перековывала (и перекова́ла) деревенских, переехавших в города, в трёх поколениях. Шукшин приметил и написал, как менялись сами: цель жизни, смысл существования. Несколько сборников его рассказов (на мой взгляд) сто́ят всей эпопеи «Ругон-Маккары» Эмиля Золя и «Утраченных иллюзий» Бальзака, вместе взятых, потому что по-русски пове́даны, а потому и понятней нам, ближе. И великие истины, которые говорят через слезу, произнесены Василием Макаровичем с горьким юмором.