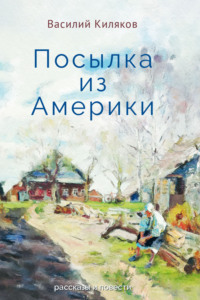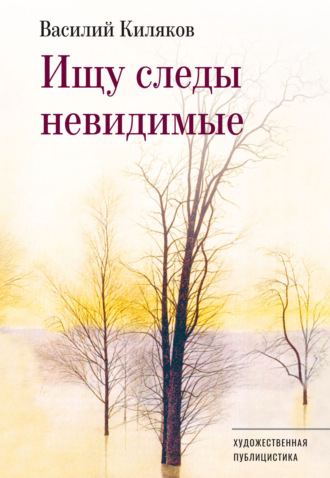
Полная версия
Ищу следы невидимые
Движение сюжета «Степи» происходит вместе с меняющимися картинами природы. Проблема «человек и природа» в повести возникает из реального содержания, воплощённого в заглавии. Донецкая степь всё же прекрасна: в степи рассветы, закаты, июльские вечера, когда небо, всё небо крест-накрест волшебно осеняют, освежают звёзды, у Егорушки возникают наивные мысли о смерти и о душе умершей бабушки. «Когда долго, не открывая глаз, смотреть на голубое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознании одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далёким и не имеющим цены». Настроению этого момента соответствуют поэтические образы, рассеянные по разным главам повести, но объединённые повторяющимся определением: «одинокий». Одинока степь, тополь на холме, коршун в небе и могила у дороги («а в ней – одинокая душа»). Одиночество, думы – и чем глубже печаль, тем дальше уходит то, что составляло главную цель в жизни. В душе Егорушки как бы происходит переоценка ценностей. Он уже не плачет, сидя на передке, – думает о Варламове – неуловимом, таинственном человеке, которого все ищут, которого презирает Соломон и который необходим даже красивой графине Драницкой. «А какая она красивая!» – думал Егорушка, вспоминая её лицо и улыбку. Егорушке хотелось думать о Варламове и графине. Больше – о графине. В мозгу возникали самые фантастические образы. Собиралась восходить луна»… «Даль была видна, как днём, но уже её нежная лиловая окраска, затушёванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсей Мойсеича под одеялом».
С самого начала в чеховской «Степи» поражает общение людей, даже тоньше: человеческих душ. В обозе, в дороге люди общаются, и это общение в пути, как нигде, быть может, раскрывает их; а Егорушка, сидя на тюке шерсти, видит не только одинокую степь, но и людей, идущих за возами, слышит, о чём говорят возчики. Портреты возчиков показаны яркими, запоминающимися. «Сила писателя, – говорил Лабрюйер, – заключается в умении хорошо определять и хорошо описывать». Определения точные, сжатые. И, когда читаешь описания, смотришь глазами Егорушки или автора, видятся картины степи – и не отпускает странное, загадочное, труднообъяснимое чувство, какое-то грустное и, в то же время, радостное: как будто и сам ты посреди этой степи в обозе. И что – и «простору много», и хочется «призывать: певца, певца!» – это чудо чеховского стиля.
И тоскливо, и оторопь берёт. И если смотреть на жизнь и степь глазами любого из персонажей, кроме Егорушки, – деталей не увидишь, многое пропустишь. Не случайно автор выбрал такого острого наблюдателя с «остранённым» взглядом: удивлённым, изумлённым – и с детским сердцем восприимчивым, отзывчивым каждому движению извне. Восходы солнца, дневной зной, закаты и ночное бдение у Егорушки совсем иные, нежели у взрослого: нет и не может быть повседневной суеты в детском мировидении, нет привычки к обыденке, убивающей душу. Нет и любви к деньгам – всего того, что присуще взрослому. Ему, ребёнку, не нужен купец Варламов – ни к чему продавать шерсть. Душа его свободна до самых звёзд. Созерцание Егорушки носит сказочный характер. «Непонятно и странно, – размышлял Егорушка. – Можно, в самом деле, подумать, что на Руси ещё не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что ещё не вымерли богатырские кони». Он способен воспринять чудесное, значит – способен и верить. Так и таскают его за собой на возу грешные, каменные люди – его, плачущего ангела… То ли будет спустя сто тридцать лет! Те ли страсти заполыхают! Разрывами бомб и фугасов начнут приветствовать взрослые люди рассветы и провожать закаты…
В обрисовке характеров, портретов, людей в степи и в русской жизни Чехов достиг небывалых высот и больших философских обобщений: через экономию красок и сдержанность характеров, выразительность диалогов (то есть мастерство драматурга) и колоритный подтекст. Он намеренно чурается выводов, избегает прямолинейности – только подсказывает нечто… В сцене обеда за кашей «шёл обычный разговор, и Егорушке все эти люди казались с прекрасным прошлым и очень нехорошим настоящим» – и в этом тоже сказывается ангельски-детская душа Егорушки. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка ещё не знал этого и, прежде чем каша была съедена, он уже глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорблённые и обиженные судьбой». О каше, разговорах за едой писали и до Чехова, и после него. Но кто из пишущих поднял разговор за этой самой кашей до философских высот? Кто наметил эти самые высоты – так, таким способом: взглядом ангела на тень? И когда читаешь подобные сцены, всегда что-то вспоминается и из нашей теперешней жизни, примешивается и что-то своё. И хочется такие эпизоды записать или переписать на наш, сегодняшний, лад. Отдельно додумать, переварить – и размышлять над ними.
О чеховских деталях, о редкостном умении автора определять и называть – писали много. Многому можно научиться у Чехова. Вот хотя бы начало грозы в степи: «Налево как будто кто чиркнул спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска – и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше» и т. д. Егорушка видит, слышит, чувствует и понимает, что вот-вот пойдёт дождь: «Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо». Не забыть Егорушке этого дождя, грозы и всех чувств в ночной степи. На минуту он как будто оказался один на один с Богом, с первыми каплями дождя, ударами грома, вспышками молний. Страшно! На всю жизнь запомнится ему эта ночь: «Егорушка быстро обернулся вперёд и, дрожа всем телом, закричал: – Пантелей! Дед! – Трах! Тах! Тах! – ответило ему небо».
Золотники тонкого юмора, шутки, реплики – как бы мимоходом – рассыпаны во всех чеховских рассказах и повестях. И тут его, автора множества ёмких рассказов не́ с кем сравнить. Тут нет насилия над шуткой, нет подделок языковых и диалога – под ложную народность или просто «смеха ради», нет деланного напоказ «юродства», которым запестрела впоследствии проза постреволюционного соцреализма. «Печальное нужно услащать шутками»[12]. Шутки, впрочем, не так уж часто встречаются у Чехова, но – они оригинальны, их не спутаешь с анекдотами, в них не найдёшь ни пошлости, ни яда.
Егорушка и старик Пантелей, старый да малый – сквозные персонажи в чеховской «Степи». При всех различиях эти два героя повести сходны в доброте, искренней сути русского национального характера. И здесь писатель Чехов стоит особняком во всей русской литературе: крепкий и добрый талант. И не оттого ли так страшно именно у него звучит признание Мойсея о брате Соломоне: «Он и меня, брата, не любит. Ничего он не хочет!».
…А электричка наша свистела и летела вперёд, к Москве, стремительно, точно стрела, пущенная из арбалета. И так же стремительно, знакомым сюжетом повести открылся мне «новый» Чехов – знающий многое и многое скрывающий. И не отпускало чувство, сходное с чувством чудесного «узнавания» Егорушки, – чувство насторожённости и, вместе с тем, какой-то милой и редкой радостной грусти, будто возвратился в своё детство.
Егорушка плакал, когда его отправляли в ученье. С плачем приходит человек в этот мир, зачастую с плачем и покидает его. Конец повести – тоже весь в слезах: «Он опустился в изнеможении на лавку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь началась для него… Какова-то будет, эта жизнь?».
Последняя фраза стоит особняком. И надо быть Чеховым, чтобы закончить лирическую повесть-роман глубокой философской фразой. Можно только додумать, досказать продолжение повести. Ну, конечно же, не самая радужная будет жизнь в кадетских корпусах. Эта житуха ярко дана и у Лескова, и, быть может, ещё острее и полнее – у Куприна: в «Юнкерах», в «Колесе времени». А пока – жизнь в «нахлебниках» среди чужих людей, в чужом углу. И что же! Удивительно, но вопрос этот не печалит. Все мы задаём себе постоянно на переломах судеб один и тот же вопрос. Он, Антон Павлович, взывает и к нам, читателям, едва ли не всеми своими писаниями. Удивительный вопрос мы задаём себе: «Какова-то она будет, эта жизнь?»
Надежда на лучшее – всегда присуща автору. Захватывает она, обнадёживает. А пока ничего, по сути, не изменилось за «эти сто лет», разве вот Соломоны Соломоновичи добивались – и добились своего, стали нужнее варламовых. «Нуж́ ники» эти превзошли все видимые и невидимые запреты, самим Богом установленные, попирают эти законы… Некоторые Мойсей Мойсеичи съездили на Землю Обетованную – и вернулись обратно «в эту страну», окунулись в ту же нынешнюю бедность, и безнадёгу степную, общую, от которой и уезжали, бежали, которая им обрыдла перед отъездом за кордон и вскорости стала даже и мила, когда вернулись в страну проживания, – всё познаётся в сравнении. А так – что изменилось в нашей жизни московских «степняков́», столичных «кочевников»? Ничего. Но там, в «земле обетованной», никто их не ждал и не ждёт, и не удивительно, так не раз бывало, и не только с ними. И в литературе тоже, так же – по сути, ничего не изменилось. Разве вот привили народу отвращение к книге, оглупил́ и интернетом, оглушили рекламой – и стригут человечье стадо. «Шерсть» бросают они с усмешкой варламовым продавать, мотаться по мировым просторам… Разве вот – то, что даже и Чехов, и Астафьев – связками своих книг стали появляться в мусорном контейнере, – не показатель ли того, что мы превращаемся в стадо? И Куприн́, и Горький, и Скиталец – неинтересны нам, перестали интересовать… И – всё так же гремит гроза, ссорятся не на живот за обедом из-за ложки каши ущербные обозники. А, быть может, если бы читали хорошие книги, если бы верный взят был тон всевластным Варламовым, степным главарём всемогущим, если б не гонялся он так за прибытком… Может статься… и счастливее стали бы, и жизнь надёжнее бы… или нет?
…Перечитал «Степь» – и показалось, что Чехов стал ещё понятней и ещё ближе. Хоть ничего, впрочем, и не случилось особенного. Сосед мой в полосатых шортах удалился едва заметно, я остался один. Вагон электрички мотну́ло, состав затормозил, встал. В Москве шёл дождь и пятнил асфальт. В тот же день узнал я, что большой, очень большой чин из Роспечати выкупил и вернул в Россию письмо А.П. Чехова (из Великобритании, где оно оказалось). Письмо написано было в Ялте и отправлено 2 марта 1901 года специалисту по иконописи Никодиму Кондакову. В те далёкие девяностые, когда так ратовали за свободу и демократию, некто N.N. увёл из архива Российской Академии наук и продал письма Чехова на аукционе «Кристис» за 7000 долларов. Этого инкогнито Лопахина новоявленного будто бы так и не нашли – не искали. А вот письмо выкуплено, возвращено теперь. Выкуплены назад и возвращены изделия от Фаберже, вернулись и некоторые картины. И такой возврат должен утешать и радовать – но отчего-то не радует и не утешает. Много-много писем предстоит ещё выкупать нам. Профукали, проторговали – и разворовать позволили, вырубить цветущий прекрасный сад вишнёвый. Оттого и настроение – как в известной одноимённой чеховской драме, где под занавес старый мудрый служака, весь отдавшийся на волю господам, жизнь положивший двум от них произведённым поколениям, подходит к двери, трогает её за ручку, восклицает: «Заперто, уехали…». А его забыли, – человека забыли. Быть может, единственного во всей этой драме-комедии человека. И далее: «Слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».
Пьеса «Вишнёвый сад», последний акт, последнее слово: «Человека забыли». И по прошествии ста тридцати лет так и не вспомнили о простом Человеке, которым только и стои́т, и держится – мiр.
1993–2011
Чехов и Мопассан
Перечитывал А.П. Чехова, в том числе и рассказ «Архиерей». Удивительное мастерство. Рассказ был написан в 1902 году – вершина творчества. Когда читаешь рассказ, невольно охватываешь взором русскую жизнь: луна, тени за окном, старая мать с племянниками, окружающие архиерея люди с думами «себе на уме», хмурое небо, снеговая грязная каша…
Вербное воскресенье выбрал А.П. Чехов для рассказа «Архиерей». Не могу назвать рассказа лучше, удивительный шедевр, исключительное умение дать явное через тайное. А какое совершенство формы. Скажут: не велика заслуга хвалить хвалёных, и всё же… Чехова сравнивают с Ги де Мопассаном, такие разные таланты. Под пером Мопассана жизнь нередко убога и вульгарна. Мопассан смеялся, плакал со своими персонажами, но никогда не задавался вопросом: «Что же будет?» И скорее всего не верил, что жизнь будет лучше, что вообще возможна «хорошая» «французская жизнь». Главная задача Мопассана – открыть общее через единичный, казалось бы, факт. Чехову – гораздо важнее движение человеческой души.
Открытия Мопассана радуют, но не поражают. «Нормандец», «Туан» («Антуан», «Туан – моя марка»), «Пышка», «Лунный свет», «Плетельщица стульев» – заставляют и улыбнуться, и погрустить… и посмеяться. Ранний Чехов тоже смешит, но он не насмешлив (в противоположность Мопассану, этому «выученику Гюстава Флобера». Мопассан, как предполагают иные исследователи, был внебрачным отпрыском непревзойдённого мастера слова – Флобера. Он и обучил «сына» искусству тонкой иронии на французский манер). И всё же «Мопассан холоден, как лёд. Порой – как леденец», – так сказал о нём классик японской литературы Акутагава Рюноске. И попал в десятку.
А.П. Чехов не холоден нигде. Наш классик тоже высоко ценил талант Мопассана именно за отчётливое чувство личной свободы. Это «чувство свободы» нелегко далось французам. Они прошли через суды, и не однажды. Флобер – по обвинению в публикации «безнравственного» романа «Мадам Бовари», который признали аморальным. Роман не запретили, но «рекомендовали писателю соблюдать приличия». Мопассан – за некоторые стихотворения, за поэму «На берегу» – тоже осуждался. Флобер поддерживал «сына»-«выученика» (выражение по П.В. Боборыкину) во всём. Иронично писал о том, как представлял себе суд над Мопассаном «по обвинению в порнографии» (заметим, они привлекались к суду за несравнимо меньшие вольности, чем те «публикации», которые позволяют себе сегодняшние «литераторы» у нас). Известные книги Бальзака, Стендаля, Гюго и др. – запрещал Ватикан… И Золя преследовали, и удушили дымом то ли «за убеждения», то ли за защиту Дрейфуса. Настолько свободны были писатели Франции при всём принуждении «господ сочинителей» к соблюдению моральных норм… Теперь, в нынешней Европе, это кажется невероятным.
…«Чувство личной свободы» все названные и признанные писатели и у нас отвоёвывали непросто. Старый профессор в «Скучной истории» Чехова говорит: «Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны: но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы...»
И.А. Бунин в очерке о Чехове тоже говорил о чувстве личной свободы – и своей, и писателя Чехова. Определил Иван Алексеевич важнейший вопрос так: «Эта свобода не прошла ему даром»…
…В рассказе-шедевре «Архиерей» много того, что никак не назовёшь сродством чувству личной свободы. Этот кусок жизни так подан, что волнует и сейчас – и беллетристов, и тех, кто ориентирован на классиков. Удивительно: рассказ по памяти, если начинаешь пересказывать, – то и пересказать-то (как будто) нечего, всё происходит внутри самого Архиерея, с его душой случается. А точнее – с душами каждого из нас и с нашими судьбами: повышения, понижения по службе «по карьерной лестнице», учёба, служение… И главное – то именно чувство одиночества, когда с кем-нибудь хочется поговорить, и… не с кем. Единственно, надежда увидеться и перемолвиться с матерью. Но и она отделена от сына его высоким саном.
А.Н. Толстой говорил: «Чехов выцвел, как акварель». Чехов – удивительно современный художник. Всё это: кухарки, сумерки, мужики, овраги и сейчас можно найти без труда. То, что называют «мраком» и «унынием» в его писаниях, – всё решительно от жалости, сочувствия и необычайной любви к людям. Этого не видят, не желают понимать и принимать. Но и сам А.П. Чехов, к сожалению, не обладал властью освободить и ближних, и себя самого от власти греха, «рабства» (которое он «выдавливал по капле»). Он мечтал о личной свободе, о свободе для всех людей, не только для литераторов. И когда умер, «выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице…» (И. Бунин).
И всё же непонятно отчего умер Архиерей? От несвежей рыбы? От брюшного тифа? От отравления? От тягот нашей жизни? Оправдан ли такой конец рассказа?
Архиерей заболел от одиночества, от неустроенности. Ни одна душа не понимала его, сло́вом не с кем перекинуться было: отец Сисой, келейники, Вербные воскресенья… О том же (в другом рассказе) трогательный разговор Ионы с лошадью. О том же «Дама с собачкой» и ставшее нарицательным, символом одиночества: «а осетринка-то была с душком»… Болезненные, с усталости, серые, «безнадёжные» рисунки жизни?.. Так ли? Но от изображения реальной жизни, от меланхолии и картин, как бы написанных от уныния и серости многих чеховских героев, – жизнь не стала ни лучше и ни хуже.
Чеховские герои – «маленькие люди» – «с охотой» показывают сами себя – нам самим – показывают (через свои потаённые черты) нас же, все наши или многие наши недостатки и достоинства. Мужчины в произведениях Чехова безвольны, бездельники, лгуны, мечтатели… Женщины у Чехова – глупы, слезливы, нечистоплотны, нахальны… Прелюбодеяние и женщины, и мужчины – все считают грехом, но сожительствуют со всяким и со всякой… Одна из важных черт жизни – расхождение слова и дела. Так было до Чехова, было при нём и – позже, и теперь. Писатель словно говорит нам, упрекает, что люди, как бараны, долго соображают: что делать перед новыми воротами. И если им сотворяют-делают иную «жизнь», обрушивают им на головы «реформы» – то обязательно таких дел наворочают, что только держись. Суть же проста, как говорят в народе: «Всяк за себя, оди́н Бог за всех».
Чеховские архиереи, учительницы, мужики – в себе носят именно национальный характер. Не лишённые воли к жизни, иные, стремящиеся к высотам архиерейским, – умирают в догадках о сущности бытия, человеческой породы, и вообще – о надобности жизни…
В тоске и «мрачности» А.П. Чехова – такая несказанно бездонная христианская любовь к человеку, что трудно сыскать подобное сострадание у других признанных классиков. И это выгодно отличает Чехова от «свободных», вернее – от отсудивших себе право «личной свободы» французов. Этого почему-то не видят ни критики, ни читатели. Об этом не пишут и не говорят, то ли не понимают, то ли замалчивают. Битва за «свободу» французами, да и всей Европой «выиграна». Но вот только что́ обрела от этого мировая литература…
1993
Возвращение снега
– Поздравляю, – сказал Горышин после объявления результатов по приёму молодых в СП России, – теперь пойдём в одной упряжке…
Семинар по прозе был жёсткий: четверо вновь принятых – на четверых из приёмной комиссии. Я с облегчением вздохнул, только выйдя на снег, на крыльцо. Здесь Горышин и поздравил меня. Здание владимирской администрации возвышалось над городскими кварталами. Панорама была чудесная… Снег, солнце и ветер.
Был апрель в начале, распущенная синька в лужах и схваченные морозцем сугробы. Высотки-дома среди приземистых, как со старой открытки, халуп. И на всё я смотрел по-иному, снизу – вверх, и под другим углом зрения. Быть русским среди русских, среди писателей – не об этом ли мечтала душа? Лобанов, Личутин, Володин и Кожинов, Старшинов, Паламарчук и Куняев…
Глеб Александрович говорил меньше всех – и чаще о том, что ему не нравилось. И о моей повести, и о людях, и о характерах, прописанных в ней. Говорил, пожалуй, даже более резко, чем следовало. Вполне земной, он сам предложил побеседовать нам, четверым, в номере, в гостинице, куда нас определили, «прокатив» по «Золотому туристическому кольцу». Предложил погостить у него час-полтора, – решил он послушать наши молодые души, как я теперь понимаю…
Грязный сахар сугробов время от времени шумно рушился сам собой и рассыпался возле наезженного шоссе, съезжал по скатам крыш, а мы тёплой компанией двигались в гостиницу к Горышину. В то утро на встрече с обладминистрацией я был настроен увидеть настоящего Ю. Власова (штангиста, журналиста, писателя, победителя олимпиады в Риме, в прошлом продемократически настроенного, но позже – спохватился он, одумался). Но оказались мы на пышном фуршете «не у того» Власова, и я сказал об этом Горышину. Тот засмеялся. Он читал «Солёный пот», «Первые радости», высоко отзывался о его книге по запискам П.П. Власова (отца писателя) «Особый район Китая». Я сообщил Горышину о публикуемой книге Ю. Власова «Русь без Вождя», которая вот-вот выйдет в Воронеже.
– В Воронеже много известных и достойных писателей и художников, многие из них уже ушли: Гавриил Троепольский, Владимир Гордейчев, прекрасный художник Василий Криворучко… И вам, молодым, надо знать и помнить об этом…
Посмотрев вверх, помню, сказал ему:
– Глеб Александрович, взгляните: пора прекрасных облаков, – так, кажется, определил Иван Бунин русский апрель…
Облака над Владимиром и впрямь были великолепны. Огненные, они шли-стояли высоко и ослепительно, поминутно менялись самыми причудливыми очертаниями. Горышин, худой, высокий, чуть сутуловатый, с какой-то щеголеватой грациозностью ловко перешагивал через ручьи, сторонясь бокового ветра. Под ногами у нас – ледяная чечевица, необычайно скользкая, над головами – синева с белизной, главы владимирского Кремля, – так и запомнилось навсегда…
По дороге от здания администрации Владимира до гостиницы «Золотое кольцо» поймали попутку. «Жигули» довезли нас: Илью Рябцева и Володю Куковенко, всю дорогу прижимавшего к сердцу свой новый роман «Смута» в 600 страниц (с мал́ ыми добавками на ходу), отрецензированный Семёном Шуртаковым. До этого Куковенко вконец замучил нас чтением глав из этого романа, и было счастьем то, что он замолчал.
Заочно, по книгам, знал я Горышина давно – по «творческому наследию». «Наследие» это было довольно большое – тридцать книг прозы: эссе, критики, рассказов и повестей, сборники стихов (последний он прислал мне под Рождество с посвящением). Повесть «Поют на кладбище дрозды», получившая премию Ивана Бунина СП России, радовала главным – тем, что ищет каждый писатель: той созерцательностью, которую находят и чувствуют немногие. Внушал он:
– В «наших» издательствах смена поколений трудна, трудней, чем у так называемых «правых». Правое крыло по талантливости слабей, гораздо. Зато со сменой поколений там круто: шумну́л – и ты уже на гребне, и ты уже «Букер». А шумну́ть помогают изрядно – редакторов прикрепляют к молодым. Но и пропадают так же: канул в Лету – и нет новоявленного «гения», камнем…
И, глядя на нас, загрустивших, подмигнул, потрепал по плечам: – Так что обиды у вас не должно быть, ребята. Просто надо писать очень много и очень талантливо, а слава сама найдёт вас, приложится. Судя по тому, что представили, вы – из ранних, но даровитые. И всё же перезреть полезней, чем не дозреть: во-первых, биться в издательства науч́ итесь самостоятельно – это закаляет характер. Во-вторых, не будет издано вещей слабых, из-за которых потом стыдно по улицам ходить. По себе знаю.
– А было так и у Вас, Глеб Александрович?
– И не раз!
…Посмеялись, ожили, в номере его налили сухого вина. Дымили и дымили без конца, надавили окурков в пепельницу…
– …Да мы и не в претензиях, Глеб Александрович.
– Ну как же. Вон он (показал на Куковенко) для того, чтобы рекомендовали в СП, экий романище закатал. А скажи ему, что на две третьих сократить надо – ведь непременно обидится. Ведь обидишься, Володя? И радуйся, что ты ещё не нашумел, а значит, тебя не «использовали», у тебя всё впереди. Ты молод, здоров, талантлив. Известность по́ртит, «распросу́ка-слава», как говорит У. Джеймс… Закричат, замусолят, потом издадут всё, что надо и не надо, в том числе и то, что вообще лучше бы не издавать. В итоге выплюнут – и забудут. Навсегда. Впрочем, сейчас такое время, что серьёзная литература никому не нужна.
Слова Горышина были весомы и печальны.
– Но ведь это временно?..
– Нет ничего более постоянного, чем временное…
После обеда на двух автобусах отправились на экскурсии. Посмотреть во Владимире было что – и радостным молодым прозаикам, и печальным, в основном, не принятым в СП поэтам… Любовались из окон «Икаруса» на храмы; вспыхивало и вело вперёд наши взгляды отражение солнца по дорогам, перескакивало по руслам и рукавам Клязьмы и по ручьям, бежало вдаль, словно по рельсам. На стоянках ледок звенел под каблуками. Прямые волосы Горышина, седая короткая бородка, частое курение… Я догадывался, что ему не всё нравилось из того, что происходило в СП (статья в «Литературной России» о пленуме в Санкт-Петербурге впоследствии подтвердила мои догадки), и, когда мы выбрались из автобуса, он шагал особенно размашисто, вбивая каблуки.